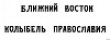Текст книги "Ближний"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Сергеев-Ценский Сергей
Ближний
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Ближний
Рассказ
I
Чиновник одного из петербургских департаментов Иван Петрович Чекалов, господин сухой, корректный, лет под сорок, представленный к производству в коллежские советники, тщательно выбритый, как артист, имеющий проседь на висках и освобожденное от волос темя, ехал в середине октября в вагоне второго класса в Петербург из Крыма. На курьерский поезд он не попал, – не было мест; поезд был почтовый, грязноватый, набитый битком, долго стоял на каждой станции – это раздражало. В Крыму Чекалов не отдохнул, как думал; виноградом расстроил пищеварение и теперь чувствовал себя обманутым, желчным.
Он устроился наверху, но ночью совсем не спал, утром же его поминутно будили, так что даже и днем не хотелось подыматься. Читал газету, а буквы прыгали. И все, кто сидел внизу, казались чрезвычайно противны: и какая-то дама, очень черная, похожая на караимку, которая искала шпильку от шляпы по всему купе и ахала, успокаивалась на время, недолго сидела, сосредоточенно соображая, но вдруг опять, вскочив, начинала стремительно шарить по всем углам; и студент-технолог, какой-то весь молочный, белокурый, немецкого типа, с очень гладенько причесанными реденькими волосами и мутным цветом глаз; и старый седобородый кавказец, казачий офицер, с одной звездочкой на погоне и солдатским золотым Георгием с бантом на бешмете.
Еще сидели, судя по видным сверху носкам калош, двое – мужчина и женщина. У мужчины был пожилой степной хозяйственный бас, а что женщина была молода и не безобразна, видно было по тому, что в коридоре мимо открытой двери купе все прохаживался низенький прыщеватый жандармский ротмистр, поглядывал на нее косым влажным глазом и пощипывал белесый обкусанный ус. Но и эта невидная небезобразная женщина была противна Чекалову.
Зачем-то топили по-зимнему много. Вентилятор вверху не открывался. Было душно, сухо, неряшливо, шумно, тесно, и сильно пахло не то новой клеенкой, не то жженой пробкой, не то щенком.
Через открытую дверь видно было все целиком окно в коридоре, а в окно поля. В окне, как в одной и той же раме, все менялись картины, и если бы Чекалов был художник, может быть, он бы и любовался этим низким, длинным, синим набухшим облаком, например, и ждал: а как оно пойдет дальше? А какой примет тон?.. Или эта речонка – какой она даст излом вот сейчас?.. А теперь к этому пару с сухим перекати-полем, ух, хорошо бы жирную, драную, сырую, черную пахоть в соседи!.. А ну? – Есть!.. Но Чекалову с этими клочками полей в окне было скучно: все – немые, все – на одно лицо. По своей удобной петербургской квартире он тосковал в Крыму: человеку за лампу и ванную он все-таки больше был признателен, чем богу за солнце и море. От неба он в Петербурге успел уже так отвыкнуть, что первый день в Крыму чувствовал себя даже как-то неловко: до того кругом чересчур светло и ясно, как будто ты совсем и не одет и тебя насквозь видно. В дороге ничего ни поучительного, ни просто любопытного он не видел, только одни неудобства, и думал, что со временем, когда поезда будут ходить по двести верст в час, так мило это будет: заснуть в Севастополе, проснуться в Петербурге.
Фигуру он имел сытую, несколько намеренно ленивую; на крупном синем подбородке поместилась неожиданно круглая ямочка, и это очень нравилось дамам. Его служебное положение теперь и в будущем и уменье устроиться тоже нравилось многим дамам, но на такую чересчур дорогую собственность, как жена, Иван Петрович пока не посягал. Он ценил два перстня на руке начальника отделения Юлия Адольфовича Эмерика; это была изящная работа и милые камни: четыре топаза с рубином в середине и кошачий глаз. Одно время он любил меха: как-то один его сослуживец, переведенный в Сибирь, прислал ему красивую кунью шкуру, с этого и началось. Теперь у него были четыре голубых песца, редкостные шеншиля, чернобурая лиса и белый волк – все по случаю. Но меха надоели, и трудно было с ними. Потом он увлекся старинными камеями, которых не портила моль и которые говорили о серьезности и прихотливом вкусе. Теперь его занимали перстни и набалдашники палок.
Конверты для писем он покупал какие-то уж очень необычайной выделки и, написав письмо и надушив его, долго думал над тем, как наклеить марку, чтобы вышло не по-казенному в правом или в левом углу и не по-мещански на заклейке, а на каком-нибудь совсем неожиданном месте.
Удивляться чему-нибудь он считал, конечно, дурным тоном; он и без того верил в широту человеческого ума и беспредельный размах натуры. Если же попадалось что-нибудь такое, что вообще и всеми считалось исключительным, то в таких случаях он умел невысоко и неторопливо поднять руку, шевельнуть большим пальцем, точно откупоривал пробку, и с весом произнести: "Да!.. Это номер!.."
Было мучительно жуткое в его жизни – это когда он начал лысеть. Потом он свыкся с этим, конечно, как свыкаются все.
Когда же пришел к непобедимо ясному выводу, что мясная пища страшно вредит здоровью, круто перешел на вегетарианский стол.
II
В Курске дама со шпилькой вышла; мужских калош тоже уже не было заметно. Дама другая, небезобразная, живо беседовала уже в дверях купе с жандармским ротмистром, и ротмистр, изгибаясь, все хихикал повизгивая, как дрозд. Студент и старик оставались: оба ехали куда-то дальше.
Чекалов смотрел вниз на старика с особой брезгливостью. Все в нем было ему противно: и его неопрятная шинель, и облезлая папаха, и нанковые шаровары, и желтые, может быть, несколько месяцев нечищенные сапоги, и широкий крепкий рубчатый ноготь с черной каемкой на большом шишковатом пальце правой руки, и чин его... Что это значит – одна звездочка на казачьем погоне?.. Штык-юнкер? Подхорунжий?.. Чекалов вообще не любил военных и всех, кто носил серую шинель, но подхорунжий этот тем более был какой-то перелицованный капрал; если бы он не был так стар и так грязен, то, пожалуй, мог бы служить курьером у них в департаменте.
Он и сам, этот старик, казалось, чувствовал себя не совсем ловко: он на всех глядел предупредительно и внимательно, молчал и всматривался, а глаза у него были большие, серые, в сухих морщинистых орбитах.
Раз как-то он вздумал заговорить со студентом. Осматривая зачем-то свой длинный, остро отточенный кинжал и заметив, что и студент смотрит с любопытством на блестящее лезвие, сказал поспешно:
– Его и медведь боится!
– А-а, боится?.. – Студент нагнулся поближе к кинжалу и протянул: Вещица серьезная.
– Шашки не боится – кинжала боится... Почему? – Сделал очень строгое лицо и добавил: – Лапами хватать ему нельзя – вострый... И оттуда вострый и отсюда вострый – никак.
Студент помолчал и спросил:
– А вы откуда едете?
– Владикавказ!
– Гм... А куда едете?
– Петербург!
Студент кашлянул, замолчал и уткнулся в какую-то книгу, а старик долго смотрел на него вопросительно: не спросит ли еще чего-нибудь, ожидающе жевал губами, но, не дождавшись, принялся, точно дело делал, упорно глядеть в окно; и глядел долго.
Потом как-то около Орла он вздумал вступить в чужой разговор небезобразной дамы в дверях и визгливого ротмистра в коридоре – о женах:
– Как это говорит жена: с мужем жить нельзя?.. Почему это нельзя?.. Ты посмотри эту нельзю, и оказалось, никакой нельзи нет: можьно!.. Туды-сюды пощунял ее хорошо – можьно!
На слове "пощунял" старик сильно сюсюкнул, и никто не понял этого слова, а дама, обернувшись, весело спросила больше студента, чем старика:
– Что-о?.. Послюнявил? – И должно быть, чтобы не рассмеяться, обратилась к старику: – Вы мусульманин?
– Нет, православный!
Старик снял папаху, обнажив совершенно голый череп, высокий и вместительный, и, перекрестившись, добавил о себе еще:
– Я – осетин. – И пожевал челюстью.
Он браво оглядел всех, явно ожидая, не спросит ли кто-нибудь еще о чем-нибудь, но никто не спросил, и старик опять уперся глазами в окошко, а день был без конца пасмурный, мелко дождливый.
Часам к пяти вечера стало уже заметно темнеть. Что старик целый день не ел ничего, это видел Чекалов. Теперь он развязал свой желтый кожаный, похожий на ранец чемодан, опоясанный веревочкой, вынул оттуда кусок белого овечьего катыка, водку и серебряный стаканчик; чтобы выпить стаканчик, страшно разинул рот. Заел сыром, ворочая челюстью, как жерновом, потом выпил другой стаканчик и третий. Чуть покраснел; спрятал сыр и водку; вытащил пару попорченных яблок; угостил ими студента:
– Ешьте!
– Да нет, знаете ли, я не хочу, – улыбнулся студент.
– Не хочу, не хочу, как это не хочу? Ешьте! – Серые глаза явно обиделись.
Студент, подумав, начал лениво и продолжительно чистить яблоко своим новеньким перочинным ножичком, а старик покачивал головою, следя за его белыми руками, сам же так страшно работал огромной челюстью, всюду по груди волоча и трепля бороду, что Чекалов даже отвернулся, гадливо зажмурясь.
В Туле дама перешла в купе к ротмистру, а к ним сел высокий длинноволосый, профессорской внешности, новый пассажир, седой, в тяжелой шубе и шапке.
На вокзале Чекалов обедал, а придя, не хотел уже лезть наверх. Он сел рядом с новым пассажиром и только придумал, о чем заговорить с ним, как подхорунжий, уже улегшийся и накрывшийся шинелью, поднял голову:
– Ты что же не ложишься спать, дед?
– А? Это мне?.. Ничего, я лягу, – мирно улыбнулся профессор.
– А ты ему освободи, – твое вон наверху место! – повернулся подхорунжий к Чекалову.
– Что? – удивился Чекалов. – Это... ты мне тычешь?
– Куда тычешь?.. Ты день-деньской спал, никто не мешал, а ты сел человеку мешаешь... Всякий спать обязан!
Чекалов подумал и решил на него не серчать: старый, глупый и пьяный.
– Спи себе, – сказал он брезгливо; он поднялся и обратился к профессору: – Располагайтесь, пожалуйста! – а сам вышел из купе в коридор.
– Да я не хочу!.. Да мне и ехать недолго, – всполошился профессор. Куда вы?
Из коридора Чекалов невольно прислушался, не скажет ли чего подхорунжий, но, наведя порядок, старик только ворчнул что-то про себя, совсем невнятно, по-петушиному, и тут же залился бурливым храпом. Войдя снова в купе, Чекалов долго говорил с профессором, оказавшимся управляющим большого подмосковного кирпичного завода, о последних новостях из газет, о морских купаньях и винограде, о ценах на кирпич прежде, лет десять назад, и теперь.
III
В Москву приехали часов в десять. Выходя из вагона, Чекалов выпустил из виду старика, но, садясь на извозчика, он увидел знакомую серую шинель и черную папаху, белый угол подушки и желтый чемодан; все это проворно прыгало под дождем по мокрым, скользким камням мостовой к подошедшему вагону трамвая. И Чекалов подумал: "Экий старикашка ходкий!.."
В Москве Чекалову было как-то всегда не по себе: этого растрепанного города он не любил. Все, что напоминало здесь Петербург, казалось незаконно присвоенным, а что было свое, местное, ему было решительно чужим: все эти трактиры вместо ресторанов, специалисты по шитью поддевок, пьяные городовые на постах, дрянные извозчики, Трубные площади, Плющихи и Самотеки, – бог с ними!
Когда он приехал на Николаевский вокзал, от которого пахнуло уже близким Петербургом, не торопясь закусил у буфета, выпил пива, которое велел подогреть, чтобы не простудить горла, взял газету и уселся ждать поезда, подошел подхорунжий, весь в свежих блестках дождя.
– А вы уже здесь?.. На извозчике?
Чекалов немного подумал, отвечать ему или не стоит, и ответил, не подымая глаз от газеты:
– Да, на извозчике.
– Ну вот... А я на трамвае за пятачок! Небось гривен шесть дали?
– Восемь.
– Во-семь?.. M-м... Ну, как это вы – семьдесят пять копеек лишних!.. Очень жалко! – прищелкнул языком и закачал папахой.
Чекалов длительно и строго посмотрел на него, закрылся, раздраженно шурша газетой, и ничего не сказал.
– Нужно бы тут щец съесть, а?.. – спросил несмело старик.
– Ну и съешь! – сквозь зубы, зло бросил Чекалов.
Старичок постоял немного, поглядел кругом, застегнул шинель на все пуговицы и, бодрясь, пошел к одному из столов.
Ел он, перекрестясь и снявши папаху, съел все до последней капустинки, и лысина у него крупно пропотела, но официант, рослый мужчина в густых подусниках, отнесся к нему без уважения, когда он уплатил за щи.
Потом Чекалов заметил, как старичок быстро поднялся и преданно взял под козырек, когда проходил мимо военный врач с малиново-красными отворотами. Врач только глянул на подхорунжего вбок. Минуту спустя опять вскочил подхорунжий – откозырял какому-то лесничему в зеленых отворотах; толстый и брюзгливый лесничий несколько удивленно приложил к козырьку указательный палец.
Когда подан был поезд и Иван Петрович пошел, пряча газету, за своим носильщиком, он увидел, выходя на перрон, как впереди его, шагах в двадцати, бойко шныряла в толпе серая шинель и над ней черная папаха.
Один только оказался в поезде вагон второго класса, и в среднем отделении, "для некурящих", они опять встретились, и старикашка обратился к Чекалову, как к хорошему знакомому, поощрительно:
– Что ж это вы запоздали?.. А я уже здесь. Вот место свободное, – эй ты, носильщик! – и указал рядом с собою свободный диван.
Чекалов молча прошел дальше, – не хотелось со стариком, но везде уже толпился народ. Пришлось опять устроиться рядом с подхорунжим, который хоть и не курил, но носил с собой застарелый запах большого количества давно когда-то выкуренного табаку... От стариков вообще какой-то запах.
В полутемноте кондуктор, пришедший проверять билеты, разглядел только неказистый сапог и нанковые шаровары старика и, протягивая ему обратно зеленый билет, сказал внушительно:
– Вы не в свой класс попали: перейдите в третий.
– Как не в свой? – старик вскочил и указал на погон. – Офицерский!.. Билет офицерский!
Кондуктор извинился и отошел.
– Вот слепой!.. Никогда этого не случалось... м-м... Как это? обратился к Чекалову старик удрученно и обиженно, даже и губы вытянул, как делают дети. Чекалов сделал вид, что очень занят раскладкой постели.
За Клином старик уже храпел, а Чекалов никак не мог приспособиться к этому гурливому храпу; очень долго ворочался, очень часто поправлял подушку, а старика искренне проклинал.
Не заметил, когда забылся, наконец, но когда проснулся, было еще совсем темно – чуть-чуть синело окошко; голова была мутная, болело в висках... Старик кричал буфетному мальчишке со станции:
– А?.. Чай-кофе?.. Это какая станция?
– Тверь.
– Тверь?.. А теперь какой час?
– Пять часов.
– Пять? Кто же ночью тебе, в пять часов, чай-кофе пить будет? Эх, умный!
Мальчишка побежал дальше, выкрикивая: "Чай-кофе! Чай-кофе!" – а старик ворчал возмущенно:
– Ночью – чай-кофе! Какие теперь чаи?.. Ночью!..
– Да замолчи ты, вот черт окаянный! – осерчал Чекалов, даже поднялся на локте.
– M-м... Какой теперь чай-кофий? – обратился к нему старик.
– Вы что меня разбудили, а?.. Зачем?.. Теперь уж я не засну, вы понимаете?
– Меня разбудили, а не я! Мм... я!.. Как же так я? Бегает тут: чай-кофий!.. И как это допускают? А вдруг он что утянет?
И старик быстро подскочил нашаривать глазами свой рыжий, веревочкой подпоясанный чемодан. Нашел его и что-то еще проворчал.
Чекалов плюнул, повернулся к нему спиной, закрыл голову углом одеяла, а сам думал тоскливо: "Разве теперь уснешь?.. Теперь уж не уснешь... Экая дубина нетесаная!"
Так он пролежал с больною головою, ворочаясь и скрипя зубами, часов до семи утра, когда окна уж побелели. Озлобленно он думал, что теперь, после бессонной ночи, выпадет еще много волос, еще заметнее станет лысинка на темени, а между тем спать можно бы было, если бы не этот беспокойный старикашка, черт бы его побрал.
Старикашка же, умывшись, расчесывал бороду металлическим гребешком направо и налево от подбородка – веером. Волосы в бороде были толстые, плотно прикрученные один к одному, и жирно блестели, точно из серебра с чернью кропотливой кавказской работы. Причесав бороду, надел папаху, вынул из чемодана медный чайник с припаянным носиком. Заметив, что смотрит на него Чекалов, сказал ему:
– Доброго утра.
Ничего не ответил Чекалов.
– Скоро буфет, – Вышний Волочок какой-то... Кипятку возьму, чай пить. Теперь – время, а то – ночью. Ночью каждый человек спать обязан, а они "чай-кофе". Как можь-но!
– Э-э, – поморщился Чекалов и встал, и пиджак надевал он с такой досадой, что даже под мышками лопнуло.
Около уборной он долго ждал с полотенцем и мылом. Двадцать раз перечитал надпись на двери: "Просят занимать уборную не более 10-15 минут". Смотрел на часы, озлобленно думал: "Нет категоричности – вот в чем несчастие наше! Даже в пустой дурацкой надписи нет приказания, нет строгого тона: "Не более 10-15..." Нелепо. Нематематично... И фраза какая-то нерусская, и придумал ее какой-нибудь Шульце или Блох"...
Когда из уборной вышла, наконец, толстоносая перепудренная дама с плохо сделанной роскошной прической из очень жидких рыжих с проседью волос и Чекалов, брезгливо умывшись грязноватой, теплой водой, вышел на площадку, поезд уже подходил к довольно большой станции, и старикашка с чайником браво стоял уже у открытой двери.
Прямо против поезда с одной стороны торчал вокзал и была надпись: "Буфет 3-го класса", но кондуктор, проходя мимо старика с чайником, занято и привычно бросил: "Этот вокзал не действует: с той стороны". До вокзала же с той стороны было далеко: какая-то длинная деревянная лестница, широкий помост и опять лестница...
– Пять минут, а?.. Можь-но успеть? – оглянулся на Чекалова старик, спрашивая серыми глазами.
– Успеешь! – тяжело глянул на него Чекалов. – Вы, приятель, везде успеете.
– Ну да, я – успею... Можь-но успеть!
И когда спрыгнул с подножек, вышло это у него по-молодому легко, и молодым петушком встряхнулся от прыжка золотой Георгий.
Чекалов остался на площадке и смотрел, как бежал с чайником по лестнице вверх старик; думал лениво: "Дал бы проводнику пятачок – нет, дурак, бежит сам". Утро было сырое, серое. Кирпичный бесформенный, как сарай, вокзал смутно краснел в капризном дыму от паровоза, и около вокзала чернели скучные пятна людей. Земля между рельсами была гнусная, грязная. Шныряли носильщики, на бегу сморкаясь. Спеша выбрасывали из багажного вагона вдали новые ящики с чем-то небьющимся. Провезли на тачке кожаные мешки с почтой, и проследовали за ними вразвалку два обшарпанных почтальона. Среди суетни и беготни и тягучих нудных гудков незаметно подошел вдруг встречный поезд, остановился и закрыл собою новый вокзал: остался перед глазами с другой стороны тот, в котором буфет не действовал. Чекалов скучно смотрел на заплаканные, кисейкой завешенные изнутри окна этого заштатного вокзала, в котором, должно быть, жили служащие, из которого по вечерам выходили, должно быть, сцепившись по две и по три, жалкие станционные барышни, выходили к приходу поездов, вертелись, глазели и улыбались проезжим, разговаривали и смеялись преувеличенно громко, а потом ложились спать на опостылевшие постели.
Дали второй звонок, и тут же третий. Чекалов думал, что это другому поезду, но бежал и свистел примелькавшийся глазу свои кондуктор, и вдруг поезд зашатался, дернулся под ногами и пошел. Поезд пошел, а старика не было видно. И с сознанием человека, который всегда умен: "Ага, остался, довольно и злорадно подумал Чекалов. – Или остался, или во встречный поезд свой медный чайник принес... Вот тебе и "можь-но".
И так же скучно смотрел он на отодвигавшуюся кирпичную стену, на остающиеся окна в кисейках, на серую полосу неба, опять поползшую рядом, и лениво думал: "Едва ли пять минут стоял поезд: что-то уж очень мало, не три ли?.. Должно быть, идет с опозданием". И привычно посмотрел на часы: было двадцать минут восьмого. Потом пошел в вагон на свое место.
Вагон – помещение тесное, и какой бы милый человек ни покинул его, всегда легче и свободней чувствует себя тот, кто остался. И теперь, без старика, Чекалов потянулся всем телом, хрустнув связками, вынул дорожную щеточку, чтобы почистить брюки, и когда поставил для удобства ногу на стариково место, то мелькнула мыслишка о старике, что, пожалуй, попал он все-таки на этот поезд, только не в свой вагон, – теперь пробирается с чайником. И вдруг поезд дернулся, протащился немного и стал, и через окна слышны были свистки и крики. Кто-то спросил кондуктора: "Что это?" Кто-то сказал: "Должно быть, семафор закрыт". Но кондуктор пробежал мимо, не отвечая. За ним так же молча другой. А проводник, молодой малый с запачканным носом, вдруг крикнул по-деревенски, артельным оборотом:
– Братцы мои! Неужто кого задавили?
И, побледневший, Чекалов сердцем поверил, что задавили непременно, и задавили не "кого-то", а его, старика с чайником, с Георгием, с одной звездочкой... не кого-то, а именно его.
И сердце так больно вдруг дернулось, как поезд, и сжалось в кулачок. И сразу представил он ясно не чьи-то, а такие знакомые серые широкие старые глаза, когда он бежал с чайником, догонял поезд, – глаза, напряженно меряющие расстояние, выбирающие момент, когда подбросить тело на подножку, за что ухватиться правой рукой с этим твердым ногтем на большом пальце. Представил не чьи-то, а его ноги в мягких рыжих сапогах, его нанковые шаровары, его бешмет, его облезлую папаху с красным верхом... Бежал так же смело, как в старину, когда был молод, на турецкие окопы, – ведь за что-то дали же ему Георгия всех четырех степеней и звездочку на погоны... Подпрыгнул, и изменили руки или помешал чайник, – сорвался и попал под колеса и вот теперь задавлен... не кто-то, а он задавлен.
И забыл о себе Чекалов. Волнуясь, раньше других спрыгнул он с подножки вагона, заспешил туда, где чернела толпа. А в мыслях было: "Почему именно здесь? Вышний Волочок, шестнадцатое октября, утро, двадцать минут восьмого... вот именно теперь, здесь!.." И была еще слабая надежда: "Может быть, не он?" – подлая надежда, потому что от нее было легче.
Но, подходя поспешно, услыхал уже, крикнули:
– Военный!.. Казак!
"Не он!" – облегченно подумал Чекалов; он ждал: "старик", – на момент совсем забыл, что старик – казак. Через момент вспомнил. Через момент услышал: "Старик!" – а еще через момент увидел у кого-то в руках такую знакомую облезлую папаху с красным верхом.
От перебоев сердца остановился. Смотрел в толпу людей, что-то кричавших, а понимал с трудом. Не хотел даже, – страшно было понять. Похолодел. И мысли были несмелые: "Можь-но успеть?" – "У-спеешь!.. Вы, приятель, везде успеете..." "Как это вышло так? Зачем?.. Несчастный случай? И причин ему нет? Никаких причин?.. А может быть, в каждом несчастном случае кто-нибудь виноват?"
Подошел он к толпе, потому что кругом него все бежали. Уже несли старика на вокзал, несли как что-то маленькое. Кондуктор кричал:
– Господа, садитесь в вагоны!
Кто-то кричал ему:
– Мерзавцы! Людей давите!
Еще чей-то пронзительный женский голос:
– Господа, кто доктор?.. Доктора нет ли в поезде? Доктора!..
Русый лохматый мужик в шапчонке посмотрел прямо в глаза Чекалову и сказал сообщительно:
– Хуть сто дохторей!.. Теперь ему без последствий.
И рукой махнул, и глаза у него были строгие, так что Чекалов даже вздрогнул.
Потом все было очень остро и больно для глаз, очень беспорядочно: красный вокзал, мокрая деревянная лестница, по которой давеча бежал старик и по которой теперь его несли, деревья без листьев, фуражка начальника станции, раздражающе яркая, чей-то лохматый рыжий ус, два студента без шапок, солдатские шинели внакидку, баба с ребенком, якоря на детской матроске...
– Что? Насмерть? – спросила, готовая ахнуть, толстая, давешняя, с пудрой на лице дама; а Чекалов только посмотрел на нее с испугом.
"Как насмерть? Не может быть!.. Почему насмерть? Помяло".
Стараясь не слушать, что кричат кругом, тискался на вокзал, подымался по деревянной лестнице вдоль трех полосок из густых кровавых пятен, которые обходили... Тискаясь, думал: "Кто же все-таки он? Зачем ехал? Почему же так хотел, видимо, рассказать об этом он, и никто не спросил?.. И я не спросил!.." А прежний молоточек все стучал: "Можь-но успеть?" – "Успеешь!.. Вы, приятель, везде успеете". Хотелось взглянуть на старика (на "своего" старика), и трудно было за чужими спинами. Но протолкался все-таки вперед, тяжело дыша. Увидел знакомый рыжий сапог – не все тело, а один сапог – в руках у того самого проводника с запачканным носом и артельным голосом, стоял сапог прочно, как надетый на колодку, и проводник держал его несколько на отлет, потому что из него капала кровь.
– Э-э... – болезненно сморщил лицо Чекалов и хотел уже повернуть назад, когда впереди в просвете мелькнул и рукав бешмета: повисший, пустой, порванный, мокрый, грязный... правый рукав...
– Куда ж они руку девали? – вслух сказал Чекалов, ни к кому не обращаясь, про себя.
И представил, как эту руку – давешнюю, которой расчесывал бороду старик, руку широкую, рабочую, шишковатую в каждом суставе пальцев, с этими ногтями – круглыми, толстыми, желтыми – засунули наспех, как потерянную вещь, в глубокий карман бешмета.
– Что же это? Всего истерзало? – спросил Чекалов бородатого носильщика рядом.
– Известно, – сказал носильщик сурово.
– Неужели умер? – спросил Чекалов, упершись глазами в рябую щеку носильщика.
– Два раза не помирают, – ответил носильщик, – а все один.
И хоть не ответил он прямо, Чекалов поверил, наконец, в то, что старика задавило насмерть.
Он набрал полную грудь воздуха, с минуту простоял на платформе и, в то время, как все выходили уже обратно и начальник станции кричал: "Прошу, господа, садитесь!.. Сейчас отправится поезд!.. Давай звонок!" – решительно вошел: видно было, где положили старика, – нужно было его посмотреть. Около тела стоял станционный жандарм. Лицо старика было накрыто платком, темным от крови.
– Откройте, пожалуйста, – попросил робко Чекалов.
– Нельзя. Садитесь, господа, в поезд, а то останетесь... – он даже заслонил тело собою, и Чекалов удивился:
– Нельзя? Как так нельзя?.. Мне? – И показалось так естественно это, спросить: – Кому же можно, если мне нельзя?
Он хотел бы добавить, что из всех людей, здесь около тела, и в поезде, и на станции, и кругом – только он один знал старика, знал о нем так много: как он говорил, ел яблоки, или сыр, или щи, как хотел, чтобы все спали, потому что трудно ехать и не спать, как показывал кинжал, как развязывал чемодан, вынимал чайник, как спрашивал: "Можьно успеть?" – и какие у него были при этом глаза...
– Вы, стало быть, ихний родственник? – догадался жандарм и услужливо приоткрыл лицо старика.
Чекалов присмотрелся, нагнувшись, – и произошло ли это от плохого пищеварения, расстроенного виноградом, или от спертого воздуха вокзала, или от двух бессонных, ночей, или, наконец, от страшного вида этого лица, еще четверть часа назад такого отчетливо-живого, – только Чекалов перестал сознавать.
Грузный, он повалился в сторону жандарма, и тот, не сдержав его тяжести, бережно, через носок сапога опустил его на затоптанный пол рядом с телом.
1912 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
Ближний. Впервые напечатано в "Современном мире" № 12 за 1912 год. Вошло в шестой том собрания сочинений изд. "Мысль" с датой: "Октябрь 1912 г.". Печатается по собранию сочинений изд. "Художественная литература" (1955-1956 гг.), том второй.
H.M.Любимов