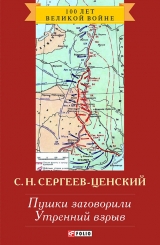
Текст книги "Утренний взрыв (Преображение России - 7)"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Музыку, которую слышали Сыромолотовы, слышал в это же время и Калугин, когда катер, на который он сел, шел к «Марии».
Кто распорядился, чтобы играла музыка на линкоре во время тяжелой погрузки угля матросами, об этом не мог, конечно, догадаться Калугин, но оркестр играл.
На катер, пришвартовавшийся к Графской пристани, сели вместе с Калугиным только матросы с «Марии», несколько человек, посылавшихся в город по хозяйственным делам. Это были баталер Переоридорога и данные ему в помощь унтер-офицер 1-й статьи Саенко и трое рядовых, из которых Калугин знал по фамилии только одного Матюкова.
Этого матроса знали по фамилии и все офицеры корабля по той причине, что один из них, старший лейтенант Водолагин, находил удовольствие часто без всякой надобности, но громогласно обращаться к нему:
– Поди-ка сюда ты, фамилию которого нельзя назвать в обществе!
Пятеро попутчиков Калугина везли на корабль что-то запакованное в рогожные кули и толстую бумагу, так что не зря болтались они на берегу выполнили приказ.
Видно было по их возбужденным лицам и веселому разговору, что им удалось и слегка выпить. Матрос с неприличной фамилией оказался тем весельчаком, который по неписаным законам военной службы обязателен для каждой роты, эскадрона, экипажа; здесь на катере почему-то больше всех говорил именно он, отпуская шуточки, заставлявшие других хохотать громко. Он был низенький, черномазый, скуластый, а желтые глаза его все время вели себя беспокойно: перекатывались справа налево, слева направо, и Калугин еще раньше как-то, до похода на Варну, подумал про себя, что такие глаза он в своей жизни видит впервые.
Когда он явился на Графскую пристань, эти пятеро матросов его уже ждали, и тут же баталер Переоридорога, с тремя басонами на погонах, старавшийся держаться в соответствии со своей должностью солидно, да и сам высокий, плечистый, круглощекий, черноусый, с серебряной цепочкой часов, неизменно красовавшейся на его форменке летом, подойдя к нему и взяв под козырек, сказал вежливо густым голосом:
– Извольте садиться, ваше благородие, сейчас катер отчалит.
– Как так сейчас?.. Может быть, кто-нибудь из офицеров подойдет? – спросил Калугин.
– Никак нет, больше никого быть не может, – ответил баталер, – и так нам приказано доложить вам.
Калугину оставалось только догадаться, что в этот день никто, кроме него, не был отпущен на берег и что, по-видимому, даже командир и старший офицер оставались на корабле. Это заставило его с благодарностью подумать о Кузнецове, что вот он все-таки сочувственно отнесся к затруднительному положению своего младшего офицера и даже, может быть, преступил общий приказ адмирала, чтобы никому из командного состава не покидать в этот день «Марии».
Несколько странным показалось ему еще и то, что Саенко, ловкий и как-то особенно всегда щеголеватый, весьма неглупого вида унтер-офицер, улучил время подойти к нему при посадке на катер и спросить вполголоса:
– Должно, ваше благородие, Колчак для нас что-нибудь обдумал?
– Ничего об этом не знаю, – так же вполголоса пробормотал Калугин, но такая доверчивость к нему со стороны матроса его изумила.
Ему вспомнился вопрос Нади: "А как у вас с матросами?" Он как-то и сам не придавал значения тому, что думают о нем матросы. Думал, что только посмеиваются между собой над ним за его плохое знание морской практики; и только вот тут теперь, в сумерки, на Графской пристани, перед посадкой на катер он почувствовал вдруг, что матросами «Марии» он уже как бы отколот от офицерства и перетянут к себе.
Тут именно в первый раз он и сам ощутил свою гораздо большую близость к матросам, чем к офицерам, уверенность в них, какой не было у него раньше, и от сознания этого произошел в нем какой-то подъем, и еще больше укрепился он в мысли, что с Нюрой все окончится хорошо.
После этого он так самозабвенно стал думать о Нюре, о ее сестре Наде, о большом художнике Сыромолотове, который только что называл его своим свояком; так ярко встали они все трое – Нюра, Надя и Алексей Фомич – перед его глазами, что заслонили собою и катер, и бухту, и суда, мимо которых шел катер к «Марии», и пятерых матросов рядом, тем более что их очень смутно было видно, а катер шел бойко.
Матросы говорили о чем-то своем, что они только что видели в городе; они хохотали от шуточек, отпускавшихся тем из них, "фамилию которого нельзя было называть в обществе", но сознание Калугина не проникало в то, о чем они говорили.
Однако вот уже близок стал знакомый силуэт «Марии» с ее башнями и трубами на корпусе, низкобортном и длинном. Тут особенно слышна стала музыка на линкоре и совершенно непонятна, так как Калугин знал, что идет, должна была идти, погрузка угля. Да и баржа с углем с того берега, к которому подходил катер, стояла еще так же, как и среди дня, только поднялась несколько выше над водою, освободясь от большой тяжести.
Музыка духового оркестра еще гремела, когда пришвартовывался к трапу катер, и Матюкову показалось, что надо закруглить под эту музыку все, чем вызывал он хохот своих товарищей, и неумеренно громко он выкрикнул:
– Матросы уголь собi грузять, як скаженi, а драконы наши, мабуть, танцюють!
А в это время музыка как раз оборвалась на последнем аккорде и вторая половина его выкрика прозвучала сильнее, чем хотел и он сам, так что и Калугин ее расслышал.
Но нужно было соскакивать с катера на трап, что он и сделал. Хватаясь за фалреп, он поднялся на палубу, и вдруг дорогу ему заступил тот самый барон Краних, о котором упоминал он в разговоре с Сыромолотовыми.
Краних был, вспомнилось ему, вахтенный начальник, но Калугин даже не понял его, когда он резким, скрипучим тоном выдавил из себя:
– Вы что это за орду привезли на корабль, прапорщик?
– Какую орду? – пробормотал Калугин и, оглянувшись назад, разглядел при падавшем вниз с палубы свете плотную фигуру баталера Переоридорога, принимавшего на ступеньки трапа с катера свои покупки.
Только тут он вспомнил, как весело говорили о своем матросы даже и тогда, когда катер уже подходил к судну; вспомнил и последний выкрик Матюкова и, наконец, то, что Краних не добавил к названию его чина слова «господин», как это было принято и считалось вежливым. Поэтому он добавил как мог спокойнее:
– Во-первых, я прибыл сюда сам по себе, а матросы сами по себе, и, во-вторых, вы, господин старший лейтенант, не имеете права делать мне никаких замечаний, так как я вам не подчинен!
– Есть! Вы мне не подчинены по службе, но-о… поскольку я старше вас в чине и вахтенный начальник на корабле, то вы-ы… обязаны меня выслушать! – отчеканивая слова, но не повышая тона, точно протискивал через суженную гортань Краних. – И раз вы на одном катере с матросами, то вы тем самым и являетесь их начальником: "сами по себе" они быть не смеют!.. И не смели они при вас, офицере, вести себя так безобразно, как я наблюдал отсюда!.. При офицере матросы должны молчать, как вареные судаки!.. Вы уронили свое офицерское звание тем, что позволили матросам так себя вести в вашем присутствии!.. Вот что я хотел сказать вам, прапорщик!
Барон Краних был несколько выше ростом, чем Калугин. У него было весьма вытянутое лицо, короткие белесые усы и крупные зубы. Калугин был так ошеломлен его длинным выпадом, что даже не нашел сразу, что ответить. Краних, впрочем, и не ждал никакого ответа: он ринулся прямо к трапу, по которому поднимались матросы, так что вполне естественно было для Калугина не присутствовать при том разносе, какой явно готовился сделать матросам барон. Калугин и раньше замечал, что он возбуждает почему-то в этом остзейце чувство неприязни, однако так далеко, как вот теперь, зайти, этого даже и не предполагал в нем Калугин.
Оркестр, давший было себе небольшой отдых, грянул снова, и Калугин решил идти дальше, но, ступив шагов двадцать по палубе, попал в полосу угольной пыли. Хотя был уже на исходе десятый час, матросы с корзинами угля за спинами, тяжело ступая, подымались вверх по одной стороне широких сходен и сбегали вниз по другой стороне, а за порядком следили, кроме старшего и младшего боцманов, еще и два офицера, особо назначенные.
Калугин должен был отрапортоваться прибывшим, но искать для этого старшего офицера не стал: вдруг тут же назначит его на приемку угля! Поэтому он постарался обойти место работ и проникнуть к себе в каюту, твердо надеясь на то, что в десять часов должны покончить с погрузкой и, как обычно, отпустить матросов спать: ведь рожок горниста разбудит их завтра, как полагается уставом, в шесть часов, а до десяти оставалось не больше четверти часа…
Возбужден он был чрезвычайно, и, как всегда в таком состоянии, лихорадочно пробегало в его мозгу, что нужно было ответить барону. Его замечание теперь, у себя в каюте, он считал уже не чем иным, как намеренным оскорблением, причины которого коренились глубже, чем сегодняшняя непринужденность матросов на катере. Откуда он взял, что матросы, севшие с ним вместе на катер, тем самым становились его командой и должны были молчать, как судаки?
Теперь его ненаходчивость в стычке с Кранихом так же возмущала его, как и тон Краниха… Он сел около столика как был, не снимая фуражки и шинели, и старался припомнить что-нибудь из того, о чем говорили матросы, возвращавшиеся вместе с ним, но вспомнить смог только одно последнее замечание Матюкова о «драконах», которые «танцюють» в то время, как матросы грузят, "як скаженi".
В другое время, пожалуй, он не обратил бы внимания на такие слова, но сегодня, вот теперь, они показались почему-то очень естественными для матроса с «Марии» после того, что случилось незадолго перед тем под Варной.
По мнению Краниха, он должен был бы сделать строгое замечание Матюкову; по мнению Краниха, пока шел сюда катер, сказано было матросами еще очень много и даже гораздо более забористого; по мнению Краниха, в его лице и в лице пятерых матросов на корабль прибыли какие-то заговорщики, а в нем даже и здесь, у себя в каюте, продолжалось то же самое усвоение двух новых и очень значительных в его жизни людей – Алексея Фомича и Нади, причем Надя теперь вспоминалась с горделиво сдвинутыми бровями, какою была она, когда декламировала стихи о героине Деспо. Тогда и в ней самой появилось что-то героическое, а ведь приехала она только затем, чтобы помочь своей сестре, а значит и ему, в очень трудных, правда, но личных обстоятельствах их жизни.
Теперь, сидя одетым у себя в каюте, он снова чувствовал в себе тот сдвиг, какой появился в нем дома в этот вечер. Там, – ясно для него было, его отбрасывали от корабля, чему в глубине души он был рад; здесь его как будто встряхнул, схватив за шиворот, этот барон фон Краних и ткнул на его место на корабле.
Всего вернее было предположить, что именно завтра, если погрузили всю гору угля, «Мария» снимется с якоря и снова пойдет к Варне, и, может быть, даже адмирал Колчак прибудет на корабль к поднятию флага, и при нем придется ему заступать на вахту, а это значит, что надо очень точно знать и с полною отчетливостью проделать все, что полагается при этом по уставу, не допустить ни малейшей ошибки, – это служба его величеству… А потом «Мария» пойдет опять туда, где мин в море, как картошки в матросском борще… и может быть, удастся все-таки выполнить предписание – сделать десяток выстрелов из двенадцатидюймовок и получить в ответ попадания из крепостных орудий большого калибра… А что может принести хотя бы одно такое попадание, кроме аварии судна и смерти многим матросам и кое-кому из офицеров?
"Это называется – сбросили с облаков", – подумал Калугин и тут же вспомнил, что надо идти все-таки рапортовать "из отпуска прибыл"; да и до десяти часов оставалось всего только пять минут.
Он одернул себя и внутренне и внешне, – поправил перед зеркалом фуражку, принял вполне служебный вид, – и вышел из каюты, чтобы идти к старшему офицеру, а в это время по коридору между каютами как раз шел ему навстречу сам старший офицер, человек грузный, с двойным подбородком, с глазами навыкат, с высокой, но сбегающейся кверху лысой головой.
Калугин тут же приложил руку к козырьку и отрапортовал:
– Господин капитан второго ранга, из отпуска прибыл!
Капитан 2-го ранга Городысский должен был бы протянуть ему руку и пройти дальше или сказать что-нибудь о состоянии здоровья его жены Нюры, но он, при сильной электрической лампочке в коридоре, очень яркой, вдруг неожиданно сказал сухо и очень начальственно:
– Вы должны были доложить мне об этом, как только прибыли, не заходя в свою каюту, поняли?
И пошел тяжелой хозяйской походкой, а Калугин решительно ничего в оправдание придумать не мог так же, как только что Краниху. Он вернулся в каюту и снял шинель.
Ему стало ясно, что Краних успел уже доложить о неблаговидном поведении прапорщика Калугина, который позволил матросам преступно распускать языки в своем присутствии…
Музыканты перестали уже играть, и ровно в десять часов погрузка угля была закончена, матросы были отпущены спать; часть лампочек на корабле была потушена.
Мог бы лечь спать и Калугин, но он был теперь слишком возбужден, чтобы заснуть, и ничего читать ему не хотелось. Он вдруг пришел к очень тревожной мысли, что на корабле в его отсутствие что-то произошло среди офицеров, что и вызвало два подряд оскорбления, какие он получил. Может быть, шли разговоры вообще о поведении матросов: явно надоела, дескать, им война, расшаталась среди них дисциплина, и нельзя ли найти общими силами, кто именно в этом виноват.
Калугин почувствовал, что не ложиться спать, а войти в жизнь корабля он должен. Может, и действительно обнаружено такое брожение среди матросов, что опасно и выходить с ними в море?.. Но где же можно было узнать об этом? Конечно, только в кают-компании.
Угольная пыль теперь уже осела, но она скрипела под ногами на палубе, куда вышел Калугин несколько освежиться и собраться с мыслями. Он представил, какая это будет завтра работа матросам, которые должны будут до церемонии поднятия флага привести здесь все в полный порядок: подмести и вымыть весь пол, надраить до блеска все медяшки, чтобы Колчак завтра утром не заметил нигде на палубе ни одной угольной пылинки… А может быть, этот Колчак совсем не на своем месте, как командующий флотом, в котором имеются дредноуты новейшей конструкции? Оттого-то, – как это приходилось ему слышать здесь, на "Марии", – не заметно особой разницы между действиями Черноморского флота при Эбергарде и при Колчаке; оттого-то таким неудачным вышел и последний поход «Марии» против Варны… "Ничтожество!.. Карьерист!" – определил Колчака Калугин.
Город не различался отсюда, с палубы «Марии», только чувствовался, но, стоя у самого борта, Калугин неотрывно глядел только в том направлении, стараясь представить Нюру теперь непременно рядом с ее сестрой, а около них мощного Сыромолотова.
Ясное сознание, что Сыромолотов приехал к нему, сидит теперь в его комнате, подняло в нем уважение к себе, пошатнувшееся после двух полученных им замечаний, и он направился в кают-компанию, став уже гораздо бодрее и успокоенней.
Ярко освещенная люстрами, прижатыми к потолку, обширная кают-компания была что-то очень переполнена, как редко когда бывало после десяти часов: что-то, значит, действительно произошло.
Над длинным столом, за которым сидели офицеры, повисло облако табачного дыма, и Калугин сразу не рассмотрел, кто это, зачем-то полуподнявшись, кричит о Болгарии.
Кричал это лейтенант Замыцкий, – со лба большие залысины и на затылке плешь, – волосы тоненькие, жиденькие, белесые; глаза тоже белесые; лицо рыхлое, вздутое, а бритая верхняя губа какая-то очень длинная и имеет способность сильно сокращаться слева. От этого рот становится косой, и вполне понятно, что матросы зовут Замыцкого «Косоротиком».
Но обыкновенно бывало, что он говорил тихо, вдумчиво, немногословно: ответит двумя-тремя словами на чей-нибудь вопрос, сделает рот сковородником и отойдет. Очень удивился Калугин, отчего же это теперь он так вдруг разошелся.
Подумав, что теперь в кают-компании решается вопрос о Болгарии и Турции, как участницах войны против России, Калугин успокоился: не мешало ведь и в самом деле офицерам линкора «Мария» поговорить о своих противниках, владеющих половиной побережья Черного моря, и он хотел постоять, послушать.
Но кают-компания была освещена слишком ярко, чтобы можно было остаться в ней незамеченным, и прежде других обратил на него внимание именно этот «Косоротик», с которым никаких столкновений у него не было.
– Спрашивается, что за флот у адмирала Сушона? – продолжал лейтенант, наливая себе что-то из графина. – Па-ро-дия на флот! Один, в сущности, только «Гебен», а как держится! Как везде укрепился! Даже к какому-нибудь Зонгулдаку близко не подойдешь, а почему? Потому что ввел Сушон у турок то, чего у них раньше не было: дис-цип-лину!.. Дисциплину среди матросов, конечно!.. А у нас (вот тут-то и был им кинут взгляд в сторону Калугина), даже младшим офицерам позволяют у нас дисциплину расшатывать!
Тут он сел и, подтянув свою губу слева, неумеренно распустил ее справа, а Калугин почувствовал что-то вроде острого укола в сердце. Он мог бы, конечно, тут же повернуться и уйти, но ему подумалось, что такой шаг все тут примут за признание своей вины и за трусость, поэтому не только он не ушел, но даже сел за стол, заметив свободный стул.
Ведь сказано было «Косоротиком»: "младшие офицеры", – значит, кого-то еще, кроме него, имел он в виду, этот незадачливый по внешности лейтенант.
Но только что сел Калугин, как именно к нему-то и повернулись все головы. Изумленно он обвел их вопросительным взглядом и в короткий момент этот успел разглядеть только трех-четырех, кто был к нему ближе… Мелькнуло в голове и то, что он знал о них.
Вот старший лейтенант Болдырев, штурман, с которым как-то не пришлось Калугину за два месяца службы сказать и двух десятков слов: встречаясь с ним, Болдырев непременно должен был поглядеть не на него, а на его значок лесничего и, неприязненно отвернувшись, уйти, будто ждали его спешные дела.
У него была узкая голова, виски вдавлены, уши без мочек, лицо из мелких линий, сухое, как будто совсем и не способное к улыбке; глаза тусклые, табачного цвета. Казалось Калугину, что его лицо ему же самому чрезвычайно надоело. Он все время курил и заволакивал себя густыми клубами дыма. Он сидел прямо против Калугина за столом, и от него первого услышал прапорщик странные слова:
– Это что же у вас, – народолюбие, что ли, что вы так запанибрата держите себя с матросами?
Сказано было сквозь прокуренные зубы и как-то очень зловеще по смыслу, так что Калугин невольно оглянулся в сторону буфета, где суетились вестовые, и спросил не в полный голос:
– Разве я чуждаюсь общества офицеров?
– А с кем же вы в коротких отношениях, я что-то не знаю? – подхватил его вопрос сосед справа, лейтенант Привалов, артиллерист.
Тоже какое-то черствое лицо, хотя ведь молодое… Что же выйдет из него в зрелые годы?.. Болдырев бреется и у этого рыжеватая бородка, но карие глаза прищурены так, как будто им и дела нет до какого-то прапорщика на «Марии», но зато ноздри вдруг широко разлетелись, и Калугин подумал: "Вынюхивает!"
– В коротких? – переспросил он. – Этого я, действительно, не успел еще сделать: слишком мало служу.
– Выходит, что надо вам заслужить доверие ваших товарищей, – сказал сосед Болдырева, старший лейтенант Плетнев, ревизор «Марии», заведовавший продовольственной частью, не по летам располневший блондин в пенсне.
Он был всегда вежлив и всегда занят; Калугину казался всегда благодушным, довольным своим положением на корабле, поэтому вопрос, какой он сделал тут же после совета о доверии, был неожидан и, пожалуй, резок:
– С вами был на катере наш баталер?
– Баталер?.. Переоридорога?.. Да, со мною… А что?
– Он был, оказывается, пьян и вел себя нахально, а вы даже замечания ему не сделали!.. Как же вы так?
Только теперь понял Калугин, что все дело было сочинено бароном Кранихом, и не стой он тогда около трапа, когда пришвартовывался катер, никто здесь не говорил бы ничего обидного.
Изогнув голову так, чтобы видеть побольше офицеров за столом, – не окажется ли здесь и сам Краних, – Калугин вдруг встретился глазами с командиром корабля Кузнецовым.
Кивнул ли в самом деле ему головою Кузнецов, или так только ему показалось, Калугин не мог еще себе уяснить, когда вдоль стола пошла передача: "Прапорщика Калугина к командиру!"
Когда это докатилось к нему, он встал и пошел как будто связанными ногами: нетрудно было догадаться, о чем желает говорить с ним командир, так как рядом с ним сидел старший офицер Городысский. Между тем, подходя к Кузнецову, Калугин не видел на его лице даже наигранной строгости.
Это было простое русское лицо пятидесятилетнего хорошо пожившего человека, всегда старавшегося быть, что называется, «отцом-командиром». На «Марии» за два месяца службы Калугину не приходилось слышать его криков, кричал за него старший офицер, – Кузнецов же был на удивление неизменно благодушен. Он как будто раз и навсегда убедился, что весь экипаж корабля отлично знает свое дело и, в случае смотра высшего начальства или серьезного боевого дела, его не подведет.
Никто из матросов даже, не только из офицеров, не винил его в гибели двух тральщиков под Варной, – знали, что это вина самого командующего флотом, а не его.
Когда Калугин подошел и остановился перед стулом Кузнецова, командир совершенно неожиданно спросил вдруг:
– Ну что, – как ваша жена, а? – И посмотрел на него при этом вкось, но как будто приветливо и даже с улыбкой.
Став так, что Кузнецов был виден ему в профиль, Калугин отвечал:
– Завтра ее повезут на операцию, господин капитан первого ранга! Я сговорился уже об этом сегодня с хирургом городской больницы.
Серый глаз из-под вскинувшейся мясистой брови задержался на Калугине, когда недоуменно спросил Кузнецов:
– Почему в городской больнице? Почему хирург? Какая операция?.. Ведь вы говорили, что роды у вашей жены?
– Они невозможны, господин капитан первого ранга! Приходится применить кесарево сечение.
– Ке-са-ре-во сечение? – протянул Кузнецов, и все его плотное лицо, с крупным лбом под ежиком волос темно-медного цвета, повернулось к прапорщику. Он как будто припоминал, что это за "кесарево сечение", и, припомнив, погладил свой круглый подбородок, потом потрогал подстриженные усы и, наконец, сказал:
– Это, знаете ли… это, кажется, операция очень серьезная, да-а!
И без всякой последовательности обратился к Городысскому:
– Кто именно вам докладывал, Николай Семенович?
– Вахтенный начальник барон Краних, – ответил ласковым тоном старший офицер.
После этих слов его произошло что-то непонятное, однако спасительное для Калугина.
– А-а!.. Вон кто!
Кузнецов почему-то сморщился, почесал средним пальцем ухо, точно хотел выковырнуть залетевшую туда фамилию… Потом он покатал в обеих руках пустой стакан, перед ним стоявший, и вдруг поднялся.
– Пойду, – мне некогда, – сказал он. – А вы тут сами, Николай Семенович, поговорите с прапорщиком!
И величественно, – он был не менее объемист, чем Городысский, – пошел к выходной двери.
– Да я уж говорил с ним, – ответил старший офицер и отправился провожать командира.
Калугин понял из всего этого только то, что он свободен, и, нимало не медля, вышел следом за ними, соображая на ходу, что командир больше настроен против Краниха, чем против него.






