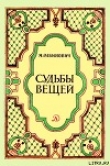Текст книги "Опись имущества одинокого человека"
Автор книги: Сергей Есин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Родопское одеяло
Диван в кабинете обычно бывает покрыт так называемым «родопским одеялом». Несколько позже я объясню, что это такое, а пока – как оно попало в дом. В 1968 году, почти сразу же после моей первой заграничной поездки в Китай и Вьетнам, возникла поездка в Болгарию, на фестиваль демократической молодежи, который должен был состояться в Софии. Во время первого московского фестиваля я служил в армии, в полку связи войск Варшавского договора в Калинине. Телевизор тогда как-то смутно в роте работал, в основном мы слушали радио. Запомнился только какой-то парадно-возвышенный тон репродукторов и песня В.П. Соловьева-Седого «Подмосковные вечера»: «…речка движется и не движется, вся из лунного серебра». Тогда песня не показалась мне каким-то выдающимся явлением. Мне даже показалось, что мелодия слишком сложна. Я очень удивился, когда наш ротный запевала Валя Ткач, высокий худой парень с удивительно белой московской кожей, немедленно ее запел. Фестиваль, в общем, проскользнул мимо. Демобилизовался я только в начале зимы… Но память о чем-то значительном и пропущенном все-таки осталась…
София после Москвы виделась мне городом небольшим, фестиваль – явлением каким-то клочковатым и скорее табельным, политическим, нежели молодежным. Само открытие фестиваля на стадионе не показалось мне величественным или художественно значительным. Не запомнилось ничего. Только какая-то сутолока, когда должна была выходить на поле стадиона наша делегация во главе с недавно назначенным первым секретарем ЦК комсомола Евгением Тяжельниковым. Он был каким-то мелким и худеньким. Также запомнился некий «фокус», «кунштюк», который проделали, открывая свой фестиваль, болгары. В какой-то момент из специальных распылителей, установленных по краям футбольного поля, вдруг дохнуло розовым маслом. На этот ароматный вздох, наверное, потребовался миллион алых роз. Про одеяло?
На фестивале я был занят политической акцией. Во Вьетнаме в то время, как известно, продолжалась война. Американцы поливали землю напалмом, вьетнамцы не без помощи русских «советников» сбивали американские самолеты, штатовская общественность протестовала против этой войны, а в Софии американские делегаты решили сдать кровь для вьетнамских раненых. Показательная акция. Я делал об этом репортаж для журнала «Кругозор», в котором работал. Записывал звук, писал текст, делал снимки. Я входил в большую бригаду радио и телевидения, но в основном был предоставлен себе. Как-то бесцельно бродил по Софии, в каких-то забегаловках ел шопский салат и раздумывал, что бы мне купить на деньги, что я отчаянно экономил от своих командировочных. Покупок было три: довольно дорогая дубленка, быстро износившаяся в московском транспорте, кожаная салфетка, которая и сейчас покрывает старинное кресло, и родопское одеяло.
Это большое, тяжелое, тканное из шерсти одеяло красно-черного цвета. Оно невероятно теплое и словно шотландка – в клетку. По-моему, оно вечное, износа ему нет, краска не теряет своей свежести. В одном месте этого просторного одеяла прогрызена дыра – это работа моей собаки Долли, когда она была молодой. Собаки уже нет, одеялом я иногда укрываюсь, решив подремать днем. Хороша страна Болгария…
Буйволы
Родопское одеяло заставило меня подумать, что же я привез из Вьетнама? Еще до Болгарии и фестиваля меня «бросили» на Восток. Я пропускаю, что привез оттуда серию очерков, печатавшихся с моими фотографиями в «Московском комсомольце», и целую книгу – вернее, фотографический альбом, позже выпущенный в соавторстве с журналистом Николаем Солнцевым, ныне покойным. Любопытна сама история и предыстория поездки. Возможно, это единственная дата, которую я твердо помню: год 1968-й. Все зарубежные командировки тогда являлись предметом зависти и некоторым начальственным поощрением. Но в Северный Вьетнам, ведший тогда свою войну с Вьетнамом Южным и всей Америкой, должна была ехать знаменитая журналистка. В то время возникло какое-то замирение среди воюющих, и бомбежки Северного Вьетнама прекратились. Однако именно к тому времени, когда планировался выезд, перемирие так же внезапно, как возникло, рассосалось, а знаменитой журналистке назначили операцию. Ни запланированную поездку, ни плановую операцию нельзя было отменить. В плановом государстве невозможно было обойти формулировку «состоялось решение ЦК». И тогда раздался административный клич: «Кто хочет поехать в страну, которую бомбят?» Вызвался я. А сейчас – к изысканной поделке вьетнамских ремесленников.
Это была небольшая вырезанная из дерева группа: несколько буйволов со скругленными мощными рогами везут на повозке огромное, похожее на ракету бревно. Северные вьетнамцы любили нравоучительные символы. В зоопарке в Ханое в одной из клеток были выставлены останки американского самолета. Назидание.
Наверное, других сувениров тогда в Ханое и не продавали. Впрочем, я еще привез кольцо, сделанное из металла сбитого американского бомбардировщика В-54. Здесь есть тоже интересная история и ассоциации. Эта поездка во Вьетнам стала каким-то рубежом моих отношений с женой – дальше все пошло к разводу. Она говорила, это потому, что я привез ей – летел через Пекин – черный шарф.
Алюминиевое кольцо
Возможно, оно сделано из другого легкого металла или сплава, я не знаю, из чего делаются самолеты. Как я уже говорил, это сувенир из воюющего Вьетнама, и он всегда вызывал у меня в памяти некоторые картины. Во-первых, сам Ханой того времени. Еще почти французский город с вполне европейским посольским кварталом, оперным театром, в котором, как я помню, я побывал на премьере балета про «современную жизнь и борьбу народа», и помню также скрываемую нищету окраинных кварталов и озеро «Возвращенного меча» с плавающими в нем огромными карпами и гранитными черепахами, стоящими по краям. Во время бомбардировок полагалось спускаться и прятаться в бомбоубежище. По всему городу были врыты в тротуары бетонные кольца с крышками, в них нужно было прятаться. Я помню, как во время поездки в провинцию мне поставили койку для ночлега прямо в небольшом деревенском храме – я спал возле каких-то богов и богинь. Возле койки в земляной пол храма было тоже вкопано кольцо с бетонной крышкой. Спрятаться и накрыть себя крышкой! Но однажды, я помню, во время бомбардировки Ханоя, когда положено было прятаться, я вышел вместе с польским журналистом на балкон – журналисты всегда ищут новых впечатлений. И вдруг буквально из-за крыши соседнего дома вывалился летящий на предельно низкой высоте американский бомбардировщик. Мне кажется, что с летчиком я встретился взглядом…
Бегство в Египет на зеленом ослике
Я почти никогда не покупаю сувениров. В принципе, они довольно безлики, теряются, если это какие-то авторучки или брелоки, выцветают, становятся трухой, если это дешевые поделки из дерева. Такие рыночные сувениры надоедают напоминать неизвестно что, накапливаются, складываются в мешок и отвозятся на дачу. Там, на чердаке, им предстоит лежать долгие годы. Во что они превратятся – зависит от сроков хранения и привходящих обстоятельств. Они могут превратиться в музейные экспонаты, а могут в мусор времени. Правда, у Людмилы Улицкой есть роман под названием «Священный мусор».
Продолжая тему, могу сказать: в советское время на те изящные вещи, которые не только бы напоминали о событиях, городах и людях, но и украшали жизнь, участвуя в ней, – на роскошные, расписанные вручную чашки и кружки, на фарфоровую мелкую пластику, на молдавский ковер или дорогой дагестанский подсвечник денег не было, а покупать общенародный ширпотреб не позволяла гордость и уже развившийся некоторый вкус. Но, как говорится, и тем не менее, и тем не менее…
Глаз как-то выхватил на сувенирном развале возле коптского храма в Каире – в Египте копты – это та часть египтян, которая является потомками доарабского населения и исповедует христианство, – чуть больше ладони картинку: женщина с ребенком на руках на послушном ослике, а впереди, держа поводья, идет мужчина в затейливой восточной хламиде. Недаром в юности я столько лет провел в залах художественных галерей и музеев, где с жадностью рассматривал изделия народных промыслов. В этой картинке со Святым семейством, конечно, сделанной по устоявшимся лекалам, было еще и нечто, что отличает исполнение обычного ремесленника от другого ремесленника – неизвестного, но замечательного художника. Правда, на меня подействовала и сама эта коптская церковь, из которой я только что вышел.
То ли за столетия здесь слишком нарос культурный слой, то ли сама церковь в разливе арабской культуры как бы сгибалась, пряталась, уходила вовнутрь, но большая часть церкви – под землей. А там, когда спустишься вниз по ступенькам, царит древнее терпеливое великолепие. К этому времени я еще не был в Иерусалиме и Назарете. У коптов сохранялась атмосфера аскетического прахристианства, только что вылупившегося из языческих декораций. Тяжелая позолота подсвечников и лампад, античные колонны, подпирающие своды, и что-то сурово-родное, истинно русское в общей атмосфере. Хотелось лечь у престола, в этой почти подземной прохладе и наконец выкрикнуть все свои грехи…
Это была не просто дощечка с написанной на ней полуиконой-полукартиной. И сколько мы видели и на иконах, и в академической живописи этих святых Иосифов и потупившихся святых дев! Здесь все было с каким-то иным размахом и истинно народным умилением. Желтая пустыня со штрихами растительности, пальма в углу композиции, солнце, написанное клубком, пожалуй, тем же самым приемом, как и на картинах Ван Гога. Ослик зеленого цвета, и того же цвета повод, на котором Иосиф ведет в Египет «тягловое средство». В правом, противоположном от пальмы углу поднялась над песком кобра, тоже зеленая, с короной, нарисованной штрихами над ее головой. Мария в руках держит младенца. И Мария, и младенец – это искусная инкрустация, вставленная в общее тело живописи. Святой младенец – это уже инкрустация из перламутра.
Человеческое выражение чувств, когда, лишь взглянув, безоговорочно веришь художнику. Это нечасто встречается и в живописи, и в театре, и в литера-туре.
А может быть, так все и случилось? Святой Иосиф, подчиненный долгу, обеспокоенная Мария и святой младенец, уже знающий свою судьбу. Змея – это мудрость. А на своей шкуре ослик-мальчик (ослику-девочке художник священный груз не доверил, а в Евангелии об этом ничего определенного не сказано) несет спасительный зеленый цвет для всего сущего. А может быть, зеленый здесь означает что-то другое? В быту копты, оберегая свой древний язык для богослужений, говорят по-арабски.
К сожалению, во время пожара в квартире картинка несколько потемнела, чуть покоробилась, но сохранилась. Для меня это и какой-то знак надежды. Господи, пошли веру, самое большое благо Твое!
Зеркало из Мьянмы
Зеркало висит в прихожей, напротив двери в «кабинет». Под ним небольшой стеллаж с тремя полками для обуви. На верхней полке – телефон. За зеркалом – ниша, в которой находится электрический счетчик. Собственно, само зеркало, дешевенькое, вырезанное из какого-то зеркального полотна, снятого с дверки плетеного шкафа. Я обычно мало что выбрасываю, и само это зеркальное полотно неизвестно для чего хранилось и переезжало из одной квартиры в другую. Стояло оно обычно, собирая пыль, где-нибудь за шкафом. Но вот сама рама представляет не только этнографический интерес, но и необыкновенно красива.
Это некое замечательное резное обрамление – вырезанные из дерева, как бы колышущиеся крупные цветы и травы. Они колеблются вокруг озера – самого зеркала. Глядя на это деревянное чудо с вложенным в него мерцающим серебром стеклом, становится понятно, что подобное могло родиться только где-нибудь в дальних странах, где время течет совершенно по-другому. Так оно и было. Эта рама, это зеркало не только памятный сувенир, не только чрезвычайно важный и ценимый в советское время знак приобщенности владельца к заграничным путешествиям, но – я-то это отчетливо понимал – и еще один грустный показатель: мы с женой стали обуржуазиваться.
Теперь некие этнографические подробности. Страна называется Мьянма, раньше она называлась Бирмой. В современном политическом обиходе это название редко встречается – политические перевороты, власть военных, зажим так называемой демократии, тоталитаризм. За всем этим куда-то в забвение уходили и поразительные культурные ценности страны, соседки Камбоджи и Вьетнама.
Старые, с использованным сроком давности заграничные паспорта, в отличие от недоверчивого советского времени оставляемые владельцам, помогли мне установить дату. В то время Союз писателей СССР давно уже распался, и возникло на его руинах некое новое образование, состоящее из Союзов писателей независимых государств. Писатели, собственно, к этому времени были никому не нужны, но оставалась собственность, за которую шла многолетняя война. Этот Союз писателей независимых государств – орган, который, по сути, и раньше, и теперь обслуживал только выбранную верхушку. Во главе организации стоял Тимур Пулатов, очень неплохой узбекский прозаик, пишущий по-русски. Впоследствии его обвинили в хозяйственных недочетах и из руководства убрали. Но Пулатов был все же вторым, так сказать, хозяйствующим лицом. Первым всегда и до самого своего конца был автор советского и российского гимнов, бессменный и почти бессмертный Сергей Владимирович Михалков.
Пулатов, по советско-восточным правилам, получив в свои руки когда-то могущественную организацию писателей, еще не потерявшую полностью весь свой авторитет, постарался эту начальственную «возможность» использовать на полную катушку. Еще оставались советские писательские связи и обмены – можно было, как говорится, посетить сей мир в его минуты роковые. Интересы далеких полковников и близких литературных функционеров сошлись. Я недаром вспомнил Сергея Владимировича Михалкова. Именно он в вояже на край света, к буддистам, должен был прикрывать литературную составляющую. Это имя и тогда звенело, как щит, но в последнюю минуту С.В. от поездки по старости и нездоровью отказался, и начальственный жребий пал на меня. Мне всегда везет кого-нибудь замещать.
Теперь мне очень трудно вспомнить целиком эту поездку. В памяти остался огромный религиозный комплекс в центре бирманской столицы с невероятными ступами и фигурой Будды. Помню еще просто невероятное – от горизонта до горизонта поле, все уставленное этими самыми будийскими ступами и храмами. Все-таки это было двадцать лет назад, и я еще не до конца понимал возвышенный смысл той древней религии, был не готов к принятию незнакомого образа мысли и чужой красоты.
Смутно помню какие-то восточные приемы у важных людей, наверное военных, и от одного из завершающих визитов у меня осталась память в виде каких-то плотных цветных тканевых аппликаций. Здесь был храм, заветное для буддистов дерево, чуть ли не сказал: дуб. По швам аппликаций, цветных кусочков, складывавшихся в сюжет и картину, все было прошито золотой тесьмой. По краю композиции шла из золота гирлянда из цветов и листьев. Сейчас все это под стеклом и в раме, собранной из институтского багета, когда-то обрамившего лицо вождя. Композиция висит ныне над столом с компьютером.
Но, как я уже говорил, существует и другая рама. Я с советских времен не любил привозить бессмысленные сувенирчики, которые должны были только подчеркивать статус. Никаких блюдечек и тарелочек, развешиваемых по стенам, никаких из дешевой золотой фольги венецианских гондол. Если не по деньгам настольная лампа с наборным стеклом или подлинная гравюра – значит, ничего. Но здесь, на бирманском, обширном, как океан, рынке, где продавали деревянные поделки, устоять было невозможно.
Эта деревянная рама меня восхитила. Есть такое чувство, когда ты просто не можешь отойти от понравившейся тебе вещи. Рама была смуглой, из некрашеного тяжелого и прочного дерева. Тут же мне объяснили, что ее сначала нужно обработать, чтобы дерево продолжало играть, хозяйственным мылом, а потом… В дальнейшем, когда раму, которую стоит уже называть оправой для зеркала, я привез в Москву, ее просто чуть пролачили.
Перед отъездом из Мьянмы раму распилили, чтобы она могла войти в чемодан, а уже в Москве аккуратно склеили. На месте соединения двух половин стоят две медные скобки.
Старинная вешалка для барской прихожей
Вещи удивительным образом умеют мстить за свою несвоевременную казнь. Они не уходят из памяти. Вот так я отчетливо помню огромную, наверняка еще позапрошлого века вешалку, стоявшую в квартире на улице Горького. Помню и как подло я эту вешалку ломал во дворе дома на улице Строителей.
Конечно, вешалка эта очень гармонировала с той квартирой. Она играла еще и роль некоторой стены, импровизированной загородки, отделяющей большую, «барскую» комнату и прихожую от тайной маленькой и темной комнатушки, в которой жила мать Федора Кузьмича. Потом, когда моего отца арестовали, а нас выселили из квартиры в Померанцевом переулке – я об этом писал, – мы какое-то время жили в этой темной комнате втроем. Как мы все-таки не умеем ценить свою родню и то, что она делала для нас. Нам все должны, а мы – никому!
Вешалка вместе со всем старым, ставшим ныне антиквариатом, скарбом оказалась на улице Строителей и стояла в первой, еще двухкомнатной квартире в узком коридорчике, ведущем на кухню, как раз напротив дверей в ванную комнату и туалет. По своей работе и материалу вешалка эта немного отличалась от красного дерева трюмо и грушевого дерева трельяжа, но по стилю она совпадала с огромным обеденным столом и стульями, обитыми коричневой фальшивой кожей со строчкой медных гвоздиков. Это все массивный, старинный мореный дуб. Я бы не решился предположить, что вешалка была специально куплена для молодого обустройства моей родни. Для этого она была слишком велика и солидна. В длину этот шедевр столярного искусства занимал метра два с половиной. Это был солидный щит с полкой для шляп и рядом роскошных медных крючков для пальто и шуб. Щит был по моде того времени, идущей, наверное, от мещанского представления о дубовых панелях английских замков, расчерчен филенкой. Все это было окружено перилами из массивного дубового бруса. Внизу, конечно, была еще дубовая же доска. На эту доску ставились фетровые дамские боты с небольшим, из прочной березы, каблуком и мужские черные, с мясной, красной вывороткой, галоши. Как-то не очень вязались с этой вешалкой жидковатые современные пальто, телогрейка, прорезиненный плащик. В этом случае поверху, на полку для шляп, лучше не класть каракулевые шапки пирожком и дамские шляпы с цветами и большой булавкой. Здесь уместны пролетарская кепка, ушанка да шерстяной платок, влажный от сырости улицы.
С просторной вешалкой стилистически гармонировала бы хорошенькая служанка в белом фартуке и с кокетливой палочкой в волосах. Хорошо смотрелся бы и солидный, в возрасте, швейцар, степенно подающий пальто упитанным господам. Вешалка наверняка откуда-то из одиннадцати– или двенадцатикомнатной старинной профессорской квартиры, разграбленной в смутные дни. Вешалка была слишком солидной даже для трюмо красного дерева. Как она попала в семью?
Ощущение забытой после вынужденного переезда или бегства вещи.
Впрочем, я отчетливо вижу, как мой ставший сановным в советское время дед, почти губернатор, приезжая в Москву, вешает на эту вешалку шубу на рысьем меху, вешает на медный крючок. Дед только что приехал, да, пахнет морозом и подарками. Он оживлен от встречи с родней. Все так хорошо устроилось, все так и будет радостно и удачно. Дед еще в рассвете сил и не представляет себе ни 1937 года, когда его отстранят от власти, ни войны, которую он встретит в лагере. Пока он вешает на медный крючок тяжелую шубу, это видно в раскрытую дверь, какой-то порученец, или секретарь, или помощник, или московский шофер вносит тяжелый чемодан, крытый пестрой шкурой.
Такое вот внуку иногда снится кино.
Вешалка пострадала, когда ее перевезли на улицу Строителей. Дверь в кухню, после того как вешалку определили в узенький коридорчик, не закрывалась, пришлось «отъять» массивные перила, дубовый брус, охранявшие шубы, пальто и дамские манто, подрезать полку для галош. Осталась только верхняя полка и тяжелый щит с крючками. В следующей квартире не оказалось такой стены, к которой бы можно было этот щит привалить. Да и вообще надобность в вешалке отпала – был стенной, встроенный шкаф… Жизнь постоянно упрощается. Не перегнуть бы только палку.