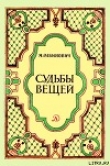Текст книги "Опись имущества одинокого человека"
Автор книги: Сергей Есин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Ларец
Если смотреть с расстояния двух-трех шагов, то это произведение искусства далеко не нашего времени. Черный, сверкающий сундучок, с кружевной инкрустацией по бокам и на крышке. Сколько же, наверное, сил, и терпения, и времени истратил безымянный мастер, чтобы вырезать все эти желобки, рассчитать рисунок, вставить в узкие бороздки разноцветные кусочки драгоценного дерева. Вблизи все это оказывается не совсем так, Высоцкий по этому поводу воскликнул бы: «Все не так, ребята». Но вещь эта, этот ларчик, – безусловно, музейный экспонат. И конечно, как только эта книжка, которую с перерывами пишу, постоянно про себя мучаясь, как все мне это сложить, как только книжка будет закончена, ларец этот отправится в музей.
Музей я обнаружил в 2013 году на набережной Волги, в небольшом каменном, еще купеческой постройки, доме в городе Углич. Рядышком адвокатская контора и частный музей тюремного быта. На горизонте через всю Волгу огромная плотина, шлюзы и гидроэлектростанция. Вот так, приехал на встречу с читателями и оказался в музее.
Здесь все интересно. Тюремная камера, естественно, приукрашенная, без отвратительного запаха, затхлости, сырости, но романтически мрачная.
А рядом в витринах – мелкие поделки людей, посаженных справедливо или несправедливо в социалистические узилища. Появление музея именно в Угличе вполне закономерно. С той же набережной видна изящно изогнутая и готовая для иллюстрации к книжке Горького о перевоспитании трудом врагов народа знаменитая плотина и электростанция. Начали строить, кажется, до войны и продолжали в войну. Здесь, в лагере, с видом на великую русскую реку Волгу, почти десять лет сидел мой отец. По берегам великой реки безымянные и, наверное, уже давно-давно распаханные под плодородные поля кладбища. На полях десятки лет медленно превращаются в пшеничные колосья или питательный клевер тела тысяч заключенных – они ведь мерли быстро, как мухи, – строителей, мастеров, ударников производства, умельцев, командиров, колхозников, инженеров, воров, учителей, артистов.
Как уж этот ларец попал к нам в дом, я не помню. Может быть, вместе с маслом и пищевой мукой мы привезли его из той давней запомнившейся поездки к отцу в лагерь на свидание. Размеры ларца таковы: 27х17,5х10, вполне музейные.
Вблизи, когда ты берешь ларец в руки, становится видно, какой замечательный, терпеливый и одаренный был неизвестный мастер и как скудны были его возможности, как невероятно он был ограничен в материале. Я невольно сравнивал этот самодельный ларец с другим, подаренным мною коллегой из Вьетнама. Роскошная, сверкающая подлинным лаком и подлинным перламутром штучка, на крышке и боках которой были этим самым перламутром выложены картины из крестьянского быта: крестьянки в шляпах, несущие на коромыслах какие-то плоды, мостики, журавли, беседки, ручьи и скалы. Эту шкатулку вместе с хранившимися в ней какими-то колечками, браслетиками и цветными камешками, оставшимися от моей жены, я передал ее двоюродной сестре, а та, кажется, своим внучкам. Об этом уже написал.
Ларец из лагеря, пока был новый, выглядел не менее занятной вещицей. Темные, как арестантская ночь, боковины и крышка. Крышка держалась на филигранных петельках, собранных из тонкой жести консервной банки. Петельки к боковой стенке были прибиты крошечными гвоздиками, возможно сделанными из гитарной струны. А вот крышка и стенки были покрыты невероятно тонким геометрическим узором. Но это не кусочки драгоценного дерева, врощенного в тончайшую дощечку, а приклеенные и покрашенные в разные цвета соломинки. Невероятная красота и уверенная рука талантливого мастера. И я невольно думаю: что с ним сталось, с этим мастером, вышел ли он живым на волю? Отца уже нет, сестра живет во Франции, ее сын – молодой француз, занятый компьютерами, мой брат Юрий умер, его сын, военный-полковник, уже на пенсии, племянники – современные молодые люди, далекие от рассматривания в лупу поделок из дерева. Былое сплющивается, огромное временное пространство превращается в тире между двумя датами. Когда развалится и отправится в мусор драгоценный ларец? Мне тоже недолго осталось. В музей, в музей, в музей…
Из дворянско-купеческого быта
На даче, в мансарде, которую я торжественно, соревнуясь с описанием загородных хором и имений современных богатеев, называю вторым этажом, стоит необычный предмет мебели, в целом, скорее всего, похожий на тумбу. Здесь надо бы чуть изощриться в описании, а может быть, даже приложить чертеж. На чертеже должен бы быть прочерчен каркас – четыре ножки и два ряда связок – в середине и наверху, – что-то вроде обрезанной поверху этажерки с тремя рядами полок. В натуре, так сказать, в предмете каркас этот был исполнен из тяжелого мореного дуба, и только нижняя полка сплошная, а вот две другие – верхняя «столешница» и средняя – из тяжелого, отливающего свинцовым блеском стекла. Причем все боковые стенки, тоже стеклянные, опускались на изящных медных цепочках и превращались из стенок в некое подобие балкончиков, расширяя среднюю полку.
Теперь представим себе гостиную в доме одной из ненавистниц Анны Карениной – сверкающий пол, старинная мебель и, утешая старшего Каренина, сухопарая и проворная, эта ненавистница молодости и красоты, подходит к уже описанной стеклянной штучке и, как фокусник Кио, опускает боковые дверцы. На верхней стеклянной полке, на мягкой подставке стоит горячий чайник, ранее внесенный горничной, а сухопарая утешительница, проворно сверкая кольцами, расставляет на «балкончиках» чашки для чая. Или для кофе? Чем утешительница собиралась поить своего конфидента? В общем, как я полагаю, это вещичка из другого мира, непохожего на тот, из которого молодые тетя Валя и дядя Федя, более возвышенного и обеспеченного. «Чайный столик» – это их имущество, которое мне перешло в наследство. Они предполагали жить в другое время и в другой повседневности, но вот свершилась революция, и мечты замерли.
Чайный сервиз с ландышами
Я затрудняюсь сейчас вспомнить, как я впервые из Померанцевого переулка попал в совершенно другой мир, на улицу Горького. Он показался мне волшебным и сказочным. Я даже и не предполагал, что такие предметы и вещи, которые я увидел, могли находиться в частном обиходе. Побывал ли я до этого в Калужском музее с его уголком дворянского быта? В музее были выставлены старинные фарфоровые чашки, стеклянные кубки и выцветшие роброны, я уже не говорю о почти парящей в воздухе мебели. Духу «неведомой эпохи» я набрался из иллюстраций к книжкам. Впервые, за руку с мамой перешагнув порог комнаты и оказавшись в другом, как мне казалось, волшебном мире, я тогда не мог подумать, что соприкоснусь с этими вещами очень близко.
Как ошарашенный, разглядывал я эту похожую на зал огромную комнату. Разве мог я предположить тогда, что буду учить уроки за письменным столом, который стоял ближе к свету, почти возле балкона. Я даже писал свою дипломную работу в университете за этим столом. Но это много позже, а сейчас, хотя пора уже переходить к драгоценному кузнецовскому фарфору, мне еще раз необходимо, чтобы навеки сохранить в памяти, описать эту волшебную комнату. Возможно, мне придется описывать ее не один раз. Впрочем, частично комната и ситуация, кажется, уже «засвечена» в моей повести «Мемуары сорокалетнего», но ведь это было тридцать шесть лет назад. Как сильно изменилось за это время мое зрение!
Похожая на зал комната была когда-то лишь номером в роскошной гостинице в центре. Возможно, даже апартаментами, потому что справа, если стать лицом к балкону и окну, была дверь в соседний номер, тоже превращенный в «жилплощадь» и уже в советское время названный квартирой. Стены были такой невероятной толщины, что в простенке между дверями у тети Вали был устроен своеобразный стенной шкаф. Здесь стояла посуда – обеденный сервиз на полторы дюжины персон и многое другое. Здесь же хранились огромные блюда, супницы, салатницы и несколько дюжин бокалов для вина, фужеров и рюмок. Об этом еще предстоит рассказ, но это утверждает меня в мысли, что в молодости, когда все добро собиралось, тетя Валя и дядя Федя предполагали иметь другой дом и располагать иной жизнью. Случайно осталась фотография дяди Феди – в жизни он был Федором Кузьмичом – в погонах царской армии. Собственно, он выбился из другого слоя. Я твердо знаю, что закончил Федор Кузьмич реальное училище. Это что-то вроде советского техникума. Тетя же Валя – Валентина Михеевна, – несмотря на крестьянско-мещанское происхождение, – мы помним, что ее брат паровозный машинист, – училась и даже закончила гимназию. Это к вопросу о том, что мы нынче называем социальным лифтом. Но эти соображения вызывают у меня, как у беллетриста, в сознании интересные картины: умело сконструированную биографию, почти как у Ломоносова, который тоже кое за кого, поступая в Москве в славяно-греко-латинскую академию, себя выдавал. Я могу предположить даже погоны офицера белой армии, закопанные где-нибудь в украинском саду под вишней. Кажется, где-то в 30-е годы дядя Федя и тетя Валя – Федор Кузьмич и Валентина Михеевна – переехали в Москву. У них был единственный ребенок – дочь Валентина. Она довольно рано ушла из жизни, но и о ней будет сказано, и здесь опять такой клубок историй…
Я отчетливо помню планировку этой огромной комнаты. От двери во всю длину здания тянулся коридор. В конце коридора – общая на всех жильцов кухня, общий туалет. Я думаю, это уже советская модернизация. На кухне стоял ряд керосинок, находилось две раковины и много индивидуальных кухонных столов по периметру. Если бы в то время я уже прочел знаменитый роман Булгакова, я вспомнил бы про «порционные судачки а-натюрель», приготовляемые на керосинке. Она теперь для меня символ и романа, и времени. Но вернемся в апартаменты.
Огромный коридор с окнами на двор ресторана «Арагви», как и все комнаты в гостинице, был покрыт прекрасным старинным дубовым паркетом. Шагая от лифта – кухня советского периода была уже дальше за ним, – можно было представить, какие роскошные, порой пьяные господа прохаживались раньше здесь, какие разбитные «чего изволите» молодцы мелькали почти в господских фраках, какие шустрые, почти похожие на дворянских дочек, проскальзывали молоденькие горничные. Но будет, возвращаюсь в повествование.
От двери в квартиру из коридора слева, как бы организовывая проход, шла небольшая выгородка. Здесь помещалась массивная, прямо из купеческой квартиры вешалка, а рядом с ней, занавешенная зеленой плотной гардиной, узкая дверь-лаз. Вешалка со временем тоже погибла под моим топором. Это одна из особенностей российского менталитета и российского антиквариата. Минуя эту вешалку, можно было войти собственно в жилую комнату.
За занавеской же находилась темная, квадратная, без света клетушка. В ней стояла койка, на которой спала мать Федора Кузьмича, очень старая женщина, говорившая, мешая русские и украинские слова. Кроме койки и стула, здесь же находился, возможно, оставшийся от гостиницы «умывальный стол». Это был некий постамент с укрепленной в нем чугунной раковиной. Внизу, естественно, стояло ведро. От края раковины вертикально поднималась высокая мраморная плита с овальным окном, в которое было вставлено зеркало. За мраморной плитой – узкий жестяной ящик, в него наливалась вода. В мраморной плите, естественно, находилось отверстие, в это отверстие ввинчивался замысловатый медный кран. Воду наливали и носили из общей кухни в эмалированном, металлическом с ручкой кувшине. Чтобы наполнить ящик, мне по длинному коридору необходимо было слетать на кухню и обратно раз пять. Дверь в темную комнату, как было сказано, заменяла зеленая плотная, с помпончиками по краям портьера. Эта зеленая, правда, выцветшая занавеска до сих пор в моем хозяйстве на даче. Обычно я застилаю ею коробки с яблоками, когда опускаю их осенью в подвал, а уже сверху наваливаю телогрейки и старые шубы. Подвал промерзает.
Не припомню, где размещался жалкий шкаф-шифоньер, который тоже исчез в жерле времени и многочисленных переездов.
Доберусь ли я когда-нибудь снова до «остекленной» (словечко нашего времени) тумбы со стоявшим в ней чайным сервизом?
В середине комнаты-зала стоял большой квадратный раздвижной обеденный стол. Напомню, что каждое определение в предыдущей фразе необходимо и поставлено не для красоты или стилистического полногласия. И большой, и раздвижной. За столом можно было спокойно пообедать вшестером, а во время праздничного застолья, когда выставлялась парадная посуда и на тарелки «поддонные» ставились тарелки «закусочные», а возле каждого прибора стоял бокал для вина, фужер для воды и стопки синего стекла для водки, за столом могло разместиться десять-двенадцать человек. Стол был дубовый, прочный, как мост. Когда в день рождения тети Вали собирались гости, в середине стола красовалось огромное блюдо с заливным судаком, а хлеб резали в специальные фарфоровые вазы.
На этом столе – вот опять о грустном – стоял гроб, когда умерла от диабета тетя Валя, затем стоял гроб Федора Кузьмича, затем стоял на этом столе и гроб с телом моей матери. Она была замужем, как я уже говорил, трижды, но умерла с фамилией Сапрыкина, как и у Федора Кузьмича. Сейчас этот стол на даче у моего племянника. За стол я боюсь. Я подумываю о возвращении стола на исходные позиции. Традиций нарушать не стоит, но кто знает, где и как помрет?
Над столом висела люстра – о ней я еще вспомню.
Спальную часть комнаты от остального пространства отделял тот самый трельяж, о котором было упомянуто вначале. За трельяжем находились две металлические кровати. Они держались в обиходе довольно долго, я очень ловко умел их разбирать при переездах и собирать. Только перед смертью мамы и по ее настоянию мы всей семьей затеяли очень сложный размен, эти кровати оказались лишними и были отданы кому-то из дворников. Размен позволил мою однокомнатную квартиру на проспекте Мира передать брату Юрию (мама заботилась обо всех), а мне, в свою очередь, прописаться к маме в ее квартиру. О великие советские законы, которые мы все время нынче меняем, и те всем известные юридические ходы, которые позволяли их обходить!
Идем дальше. По другую сторону от трельяжа находились книжные шкафы. Шкафы и трельяж отгораживали спальную зону. Трюмо с двумя тумбами – оно уже поместилось в наше повествование – стояло в простенке между окном и балконной дверью. Слева вдоль стены находился диван с откидывающимися валиками и мягкой, обитой клеенчатым коричневым материалом стенкой. На диване спал дядя Леня, муж покойной дочери тети Вали и дяди Феди. Тогда он мне со своими седыми висками и большими залысинами казался человеком пожилым, совсем старым. Сейчас я понимаю, что ему было не больше тридцати. Дядя Леня был военным, где-то под Москвой жила его родня.
Торцом к балконной двери стоял письменный стол с соответствующими принадлежностями и бюстом В.И. Ленина. За этим столом дядя Леня подолгу, даже когда все засыпали, сидел. Горела настольная лампа.
Были еще, как в романе у Ильфа и Петрова, двенадцать стульев. В углу у окна стоял стеклянный столик, и через зеркальные плоскости поблескивал ландыш на оливковом фоне.
Это общий план, экспозиция жизни и быта.
Бак для воды
Внутренне я всегда объединяю замечательный, с мраморной доской умывальник и другой предмет, стоявший в темной комнате, – очень для тех времен изящный, никелированный высокий бак для питьевой воды. В умывальнике была вода помыть руки, а в баке – вода для питья. Тогда не было размышлений, надо ли очищать воду из водопровода, и никаких специальных домашних фильтров, как сейчас, не существовало. Вода в кране всегда была чистой. В этот бак воду, как и в умывальник, носили синим кувшином. Внизу бака для воды был очень изящный, никелированный же краник. Если его повернуть, то тоненькой струйкой и с нежным журчанием текла вода в кружку.
Я описываю это так подробно, потому что и эта струйка воды, и даже это журчание необходимы для дальнейшего повествования. Сумею ли я только все это в нужной манере изложить, найду ли соответствующий тон? Но вот что интересно: задумав это сочинение о вещах и предметах, с которыми я прожил всю жизнь, я не ожидал, что, восстанавливая перед собой в памяти внешний вид предметов, я так много вспомню и другого. Как, оказывается, был прав великий Пруст со своими «мадленками» и «кустом боярышника»!
Вот я до сих пор не могу понять, как мы втроем размещались в крошечном закутке, чуть большем, чем ванная комната моей квартиры?
Сначала надо себе представить, как я из школы пришел домой, поднялся на лифте, а меня не пустили в квартиру, потом пришла мама, и в квартиру ее не пустили тоже, надо представить весь ужас зимой очутиться на холодной лестничной площадке. Трамвай тогда ходил по Кропоткинской улице, сворачивал на бульвары и шел до Пушкинской площади. А там до Советской площади и коммунальной гавани тети Вали подать рукой. Отдали ли нам из квартиры какие-либо вещи, или все было опечатано и вещи – даже носильные, даже зубная щетка – были получены позже? До сих пор у меня перед глазами сухая, холодная дверь с впаянным в нее желтым глазком латунного английского замка. Я представлял, мне будто бы слышалось осторожное и сдерживаемое дыхание наших еще вчерашних притаившихся за дверью соседей. Как разводит людей жизнь!
Как же мы размещались в темной лачужке чуть больше железнодорожного купе или ванной комнаты? Но размещались! Из памяти нашего времени совершенно исчезла ночевка на стульях. А это был пленительный обычай скученности и тесноты – составлялись стулья так, чтобы спинки оказывались снаружи деревянного каре, и на составленные сиденья бросался матрас или перина. Первую ночь, конечно, спали на стульях, «в зале», а на следующий день матушку Федора Кузьмича отправили в подмосковный Дедовск, к дочери, сестре дяди Феди.
Здесь есть некоторая и вторая для меня загадка: именно из этого закутка брата забрали в больницу или это случилось чуть раньше и, уже выписавшись из больницы, он оказался вместе с нами в закутке? Возможно, мне еще удастся написать о тяжелой болезни брата – менингите. Но уже тогда возник вопрос: как он выжил; или, несмотря на войну, медицина все-таки делала свое дело? Второй вопрос: это как моя мать все вынесла и вытерпела? Только сейчас я начинаю понимать трагизм ее положения и упорство ее сопротивления. Она одновременно вела бои на трех фронтах: надо было работать, чтобы всех кормить (продуктовые и хлебные карточки, карточки рабочие и карточки для иждивенцев я отчетливо помню); надо было воевать за жилплощадь, то есть за жизнь и воспитание детей в Москве, а не в Калуге (тетя Нюра), не в Таганроге (тетя Тося). Или надо было переезжать во Владивосток (там жили тетя Вера и рано по ранению вернувшийся с фронта дядя Вася; дядя Коля и дядя Саша тоже воевали). И в-третьих, внезапно заболел Юрий.
Сейчас в моем сознании все это видится рядом смутных картин. Помню только какие-то неясные разговоры о «стрептоциде» белом и красном и его очистке. А может быть, речь шла о редчайшем в то время пенициллине? Но брат все-таки вернулся из больницы. Многие тогда, услышав о возвращении Юрия, выражались образно – «с того света».
Отчетливо помню, что Юрий после болезни стал приходить домой поздно. Он «гулял», ему было четырнадцать лет. Мне, соответственно, девять. Юрий не стучал в дверь, а стучал в стенку. Мама, которая всегда не засыпала, пока брат не вернется, открывала ему дверь. В то время уже тяжело болел дядя Федя – у него была закрытая форма туберкулеза, начавшегося еще в 1942 году. Потом я узнал, что, находясь в большой комнате, тетя Валя и дядя Федя слышали все передвижения. Они слышали даже, когда брат подставлял под кран бака кружку и набирал в нее воду. Бак потом тоже исчез, сжеванный прогрессирующей цивилизацией.
Ломберные столы
И еще раз о времени. Не очень я уверен, что правильно называю все предметы. Возможно, четыре небольших столика, вдвигающихся один в другой наподобие русской матрешки, если только разрезать эту матрешку вдоль, служат не для игры в карты, а для чаепития в гостиной. Картины светской жизни моей родни преследуют меня! Если матрешку разрезать вдоль, то все половинки этой деревянной расписной фигуры аккуратно, как ядро в ореховую скорлупу, вкладываются одна в другую.
В детстве, когда мне доверили протирать эти столики и другую обстановку и «ценные предметы» в квартире на улице Горького напротив Моссовета, я еще не воспринимал предметы в их социальных ролях. Только теперь я могу подумать, что эти столики и кузнецовский фарфоровый чайный сервиз – это свидетельство, что моя дальняя родня уже вышла из предопределенного их рождением круга и готовилась к новым социальным ролям.
Это в молодости ты все воспринимаешь как оно есть. Сегодня – надо сказать, довольно внезапно – я вдруг соединил пианино «Беккер» – какая вечеринка, даже офицерская, в начале XX века без пианино и гитары! – трюмо красного дерева с металлическим ящиком для цветов, сервиз с ландышами и маленькие столики, которые можно было расставить по гостиной. Был еще роскошный диван со спинкой, украшенный резной полкой и зеркалом, но диван этот я видел только на семейных фотографиях. Я, кажется, составил весь интерьер молодой пары, приготовившейся к долгой и удачливой жизни. Когда все это приобреталось, ни грядущая революция, ни Гражданская война не предполагались.
Как аккуратно в те неспокойные времена люди трансформировали свои биографии! Что я знаю, прожив с дядей Федей почти всю сознательную жизнь? Я много раз слышал, что в Москву он попал как председатель профсоюза свиноводческих совхозов. Видимо, тогда же, как выдвиженцу с семьей, ему дали огромную комнату в гостинице напротив Моссовета. Комната потом превратилась в квартиру. А что было до этого? Я помню все, что было позже. Дядя Федя руководил, кажется, отделом изысканий в Мосгорпроекте. Перед выходом на пенсию он получил орден Ленина. Но я хорошо помню на одной из семейных фотографий дядю Федю в военном мундире, и это точно не был мундир Красной Армии. Значит, белый офицер? Я точно знаю, потому что видел и был знаком с матерью Федора Кузьмича и с его сестрой – одна постарше, другая помоложе, хохлушки без тени современной культуры и того, что мы называем интеллигентским этикетом, крестьянки, оказавшиеся в городе. Я никогда не слышал о военном училище, даже об офицерских курсах, я всегда знал, что Федор Кузьмич окончил реальное училище – это чуть выше техникума, но училище давало хорошее, почти инженерное образование, то есть мастер, производитель работ. А при чем тогда ломберные столики, трюмо и роскошная меховая полость – прикрыть колени во время зимних катаний на санях?