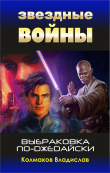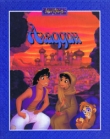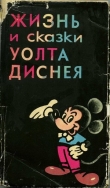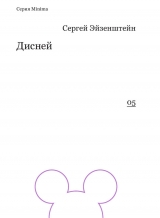
Текст книги "Дисней"
Автор книги: Сергей Эйзенштейн
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Теперь Алиса такого гигантского роста, что снова не может пройти сквозь двери подземного зала.
В новом припадке отчаяния она заливается слезами, по вдруг замечает, что она снова быстро-быстро уменьшается: причиной этому – веер, которым она обмахивается. Она только-только успевает откинуть его, чтобы не исчезнуть совсем, и тут же попадает в озеро слез – слез, ею же пролитых, когда она была большою. «О, зачем я наплакала столько слез!» – говорит Алиса, уплывая по соленым волнам. Но здесь мы ее покинем, ибо интересующий нас эпизод с вырастанием и уменьшением роста закончен5.
Заимствование ли здесь Диснея? Или этот образ эластичности фигур вообще широко распространен?
Я нахожу его в рисунках немецкого карикатуриста Trier’a. Там приключения мальчика со сверхдлинной рукой.
Но этот же образ я нахожу и у японцев. С эстампов XVIII века тянутся многометровые руки гейш сквозь решетки чайных домиков Иошивары за перепуганными посетителями.

Древние образцы, где беспредметно играют друг с другом бесконечно вытягивающиеся шеи, ноги, носы. Вытянутые носы – принадлежность даже целой породы мифологических существ – тенгу и т. д. Мало того – вспоминаю арену цирка и тот вовсе непонятный интерес, который сквозь столетия заставляет сотни и сотни тысяч людей с затаенным дыханием следить за тем же, что в объеме человеческих возможностей в этом направлении может сделать артист эстрады и варьете: перед зрителем «человек-змея» – бескостное эластичное существо, почему-то чаще всего одетое Мефистофелем, если это случайно не Snake-dancer нью-йоркских ночных негритянских кабаков, где подобное же существо извивается в беспредметно-шелковых одеяниях…
[Привлекательность этого процесса очевидна. Я нарочно привел его первым примером в наиболее чистом виде, даже в беспредметном и бессюжетном. Это не значит, что он не может быть использован как служебный образ в целях возвышенных, нравоучительных и философических. Ничего не теряя от своей «аттракциоиности», как называл я в молодости подобную привлекательность, <которая> придает самой морально-этической тезе теплую жизненность и живую образность. Разве не отзвуки привлекательности именно этого явления звучат в судьбе сокращающейся шкурки, взятой за центральный образ… «Шагреневой кожи» Бальзака: образ, глубокий по мысли и неотразимо привлекательный и волнующий по своей форме?]
Странно не то, что это существует.
Странно, что это привлекает!
И невольно приходишь к мысли, что через все эти примеры сквозит одна общая предпосылка притягательности – отказ от скованности раз навсегда закрепленной формы, свобода от окостенелости, способность динамически принять любую форму.
Способность, которую я назвал бы «плазматичностью», ибо здесь существо, отображенное в рисунке, существо определенной формы, существо, достигшее определенного облика, ведет себя подобно первичной протоплазме, еще не имеющей «стабильной» формы, но способной принять любую и, переходя по ступенькам лестницы развития, закрепляться в любые – все – формы животного существования.
Чем же лицезрение этого так привлекательно?
Трудно допустить в зрителе «воспоминанье» о собственном бытии на подобной стадии – на истоках зародыша или по эволюционной лестнице вниз (хотя кто измерит глубину «подошвы» памяти такою, какою она сидит не только в мозгу, но во всех его предшественниках вплоть до клеточной ткани?).
Но легче согласиться с тем, что неизбежно привлекательна эта картина чертой своей всевозможности многообразия любых форм. И в стране и строе, особенно беспощадных в своей стандартизации и машинной размеренности быта, который трудно назвать жизнью, лицезрение подобной «омни-потентности», т. е. способности становиться «чем угодно», не может не иметь доли острой привлекательности. Это верно и для САСШ. Это верно и для застывшей в мертвых канонах мировоззрения, искусства и философии Японии XVIII века. Это верно и для закованного в крахмал и визитку посетителя ночных кабаков, любующегося бескостной эластичностью фигур, не знающих жесткого хребта и чопорности корсета великосветской осанки.
Утраченную изменчивость, текучесть, неожиданность образований – вот что «подтекстом» несут лишенному всего этого зрителю эти, казалось бы, странные черты, пронизывающие сказку, карикатуру, бескостного циркача и, казалось бы, необоснованные разбегания конечностей в рисунках Диснея6.
[Естественно ожидать, что такая сильная тенденция <к> преображению стабильных форм в формы подвижности не сможет удержаться только в средствах формы: эта тенденция выходит за пределы формы и переходит в сюжет и тему. Героем фильма становится лабильный персонаж, т. е. такой персонаж, для которого изменчивость облика… естественна. Изменчивость формы здесь уже не парадоксальная выразительность, как в случае вытягивающихся шей, хвостов и ног: здесь сам бог повелел персонажу быть текучим.
Такова картинка о привидениях. Здесь Микки и его друзья – члены фирмы по борьбе с привидениями. И весь фильм рисует перипетии ожесточенной охоты за привидениями по пустынному дому. Разгулу превращений зеленоватого облака с обликами красноносых весельчаков-привидений здесь нет предела. Но фильм примечателен еще тем, что основная тема здесь отчетливо проступает во всем разрешении вещи.

Этот фильм, если угодно, не только ностальгия и мечта об освобождении форм от канона логики и раз навсегда установленной стабильности, как это было в «Подводном цирке». Этот фильм, если угодно, – вызов, и «мораль» его – призыв к тому, что, только расковав оковы стабильности, возможно достижение жизненности. Действительно, взглянем на этот opus не как на произведение, весело скачущее рядом с нами, а как на «дошедший до нас» документ определенных эпох и тенденций, как сказ древности или миф. И тенденции его будут совершенно отчетливы. «Фирма по борьбе с привидениями» – разве это не символ формальной логики, выживающей все живое, подвижное, фантастическое? Крах и неудачи ее в борьбе с горстью призраков, с фантастикой, которая таится в природе каждого ночного столика, в каждой суповой миске, за каждой дверью и в каждой стене! А победа над призраками? Она дается очаровательной сценой: перепуганные «агенты» борьбы с привидениями после тысячи и одного < приключения >, где их дурачат призраки, падают в тесто. Подобно Максу и Морицу7. Но и тут они не становятся пряниками, но бегут страшными белыми тенями, за которыми волочатся хвосты теста. Облик их фантастичен, призрачен. Сами они уподобились привидениям. И что же? Испугавшись их, сами призраки… пулей удирают из «одержимого» дома! Штрих чисто диснеевского обаяния. По существу же – своеобразная «моралите» на тему о том, что, только приобщившись к строю фантастическому, алогическому и чувственному, возможно овладение и господство в области свободы от оков логики, от оков вообще.
Это… фиктивная свобода. На мгновение. Минутное мнимое комическое освобождение от часового механизма американской жизни. «Выходные» пять минут для психики, в то время как сам зритель не перестает быть прикованным к вороту машины8.
Но эта же ситуация – одновременно и символ метода Диснея. Ибо всем строем приемов, темами и сюжетами Дисней все время дает нам прописи для мышления фольклорного, мифологического, пралогического, какого угодно, – но во всем отрицающего, отпихивающего <логику>, отмахивающегося от логистики, формальной логики, логического «футляра».
Возьмем другой пример. Кто снова в глупом положении в фильме о рецептах на самообладание? Тот, кто владеет собою, кто, вместо того чтобы дать волю импульсам, послушно повторяет рецепт, передаваемый по радио, и смиренно отсчитывает 1, 2, 3». до десяти.
И с каким наслаждением Селезень-Дональд разбивает эту машинку самодисциплины и самообладания – радиоприемник, после того как на протяжении самой картинки испытал тысячу и одну невзгоду, ибо тормозил в ней свою непосредственность и волей старался сковать и поработить ее в угоду лицемерно-ханжескому голоску из радиоприемника, призывавшему к чисто христианской добродетельности порабощения собственной индивидуальности. Каким разливом патоки течет подобная проповедь по Соединенным
Штатам – бесчисленными церквами, братствами, проповедями, листками, обществами! Как силен по Америке Армии Спасения и последователей Мэри Беккер Эдди («Крисчиен сайенс») и Эми Макферсон9 этот елейный призыв: добродетелями румянить оковы, наложенные социальным порядком на жизнь и быт вольного народа!
Дисней не входит в корни. Но развлекается и развлекает, издевается и веселит – белкой перескакивая с ветки на ветку где-то в самых верхушках явлений, не заглядывая вниз, в первоистоки, в причины и поводы, в условия и предпосылки.
Но лабильный герой с чисто протеевской жадностью ищет все новых и новых образов воплощения.
Ему мало подвижности контура. Ему мало игры вод, подобно гигантской живой бесформенной амебе играющего в «Гавайских каникулах» Гуффи с его прыгающей доской. (В какой-то из черно-белых его вещей волны, так же играя, треплют пароход, собираясь в клубы пены, в клубы, которые внезапно становятся… кулаками в боксерских перчатках, награждающих тумаками бедные борта пароходов.) Ему мало складного парохода, вырастающего из системы коробочек, чтобы затем внезапно опять разбежаться в ничто (резиновые шеи контуров здесь обогащены до гигантских размеров целого корабля, вырастающего из ничего ив ничто вновь уходящего). Ему мало игры туч и облаков в небе и зеленоватого облака бесконечно изменчивых призраков внутри пустынного дома. Призрачная маска, вещающая волшебнице в «Белоснежке», возникает в… огне. И кто же, как не огонь, способен в наибольшей полноте передать мечту о текучей многообразности форм?!
И так возникает «Мотылек и пламя».]
Герой в ней – огонь.
Много существует объяснений таинственной привлекательности огня.
Вплоть до каких-то глубоко затаенных сексуальных истолкований у немецких сексологов, заставляющих немецких криминалистов относить «беспредметные» поджоги к разряду преступлений… на сексуальной почве (!). Так именно поступает известный криминалист д-р Эрих Вулффен, отводя целый раздел этому вопросу в своей книге «Der Sexualverbrecher» (von D-r Erich Wulffen, Hamburg, 1928. Из серии «Encyklopaedie der Kriminalistik»).
Интереснее и убедительнее попутный материал, которого он касается косвенно в связи с этим вопросом.
Здесь он приводит мнение Блоха10 о том, что, помимо пережитка общеинфантильного «института разрушения» (например, в ломании и разбивании игрушек), играет еще роль и цвет огня. Красный цвет, как оказывается, играет большую роль в vita sexualis человека. (Можно было бы подсказать Блоху упоминание о «красном фонаре»!) И Блох полагает (насколько убедительно – вопрос!), что тут может быть ассоциативная и синестетическая связь.

Другой исследователь, Некке (Naecke), для «пиромании» видит иные толкования. Он считает, что здесь в основе лежит прежде всего фототропизм, свойственный всяческой живой материи, т. е. притягивающая сила яркого света, солнца, огня. Сюда же он причисляет до известной степени и термотропизм, т. е. <реакцию> на притягательную силу тепла для клеток организма11.
Наконец, Некке указывает и притягательную силу движения огня: «…эти движения огня монотонны, почти ритмичны, и через них, по-видимому, от длительного вглядывания в огонь постепенно образуются циркулярные нарушения в мозгу, действующие так же приятно и слегка опьяняюще, как под действием алкоголя, при танце, на качелях и т. д. Этому способствует еще блеск, цвет и вспышки пламени…» Вулффен не совсем убедительно хочет все это подвести под свою тезу. Удачнее его несколько неожиданная ссылка на… Вагнера: «…Рихард Вагнер, один из отличнейших психологов, в монотонной, ритмической музыке Feuerzauber (волшебства огня) в «Валькирии» чрезвычайно удачно передал эту заразительность и то полуопьянение, которое вызывает в созерцающем движение огня…» Вовлечение в эту тональность темы любви между Брунгильдой и Зигфридом в сочетании с образом огня и достигнутые этим великолепные результаты Вулффен и тут пытается целиком свести к эротическим предпосылкам, величая Вагнера «величайшим музыкальным сексологом» (!!!).
Нисколько не оспаривая великолепия, достигнутого Вагнером, вполне допуская смутную связанность между стихией «пламенных» чувств и стихией… пламени, <мы> все-таки удивляемся, что Вулффен не оперирует гораздо более близким ему примером – одним из романов г-жи Рашильд («Les contre-natures»)12, где дважды встречающийся огонь – действительно узкобрачный. И огонь – единственное, что может разрешить единственно в форме двойного самосожжения любовную коллизию героев романа, лишенных возможности найти иной выход из создавшегося пополнения.
Оставляя акцент эротики на долю романа г-жи Рашильд, мне хотелось бы в случае Вагнера педалировать не столько подобную предпосылку (весьма вероятную), но вырастающий из нее феномен движения и в нем видеть основную притягательность «Волшебства огня», который постановочно я был призван пропустить через свои руки13.
И этот элемент движения, уже не обязательно монотонный, непременно ритмически необходимый Вагнеру по совершенно особым требованиям «Валькирии» и «Зигфрида», однако в форме дикого пляса другого героя Вагнера – Логэ, бога огня, возвращает нас к исходной нашей тезе: к привлекательности огня прежде всего своим всемогуществом в области создания пластических обликов и форм.
Не случайно именно в этом многообразном лоне огня видят первые откровения будущих учений большинство пророков и основоположников религиозно-философских учений.
Неопалимая купина, представшая перед Моисеем, небесный огонь перед Зороастром и Буддой (см.: Charles Francis Potter. The story of Religion, 1929) и т. д. у самых истоков зарождения систем, разраставшихся, как из искры… пламя, именно в пламени, по словам легенд, рисовали как бы бесчисленность будущих образов и извивов судьбы самих учений14.
Этот же образ разливается морем огня по почти школьной тетради молодого человека, которому суждено столь же фантастически иззубрить судьбы людей и стран, как причудлива игра огней в поэтической фантазии его юности, записанной будущим великим человеком – человеком, которому именно огонь, огонь, бушевавший в российской столице Москве, должен был факелом осветить путь к закату его славы.
Первое записанное Наполеоном в форме рассказа было < связано с огнем >15.
И не случайно же другой «зверь из бездны» на закате своей немощи, на этапе израсходованности сил и фантазии, на стадии бессилия телесного и духовного, в зените разложения того, что уже не может быть названо человеческим духом и человеческой природой, обращается именно к огню, к огню, разливающемуся от края до края по вечному городу – по Риму, сжигаемому пресыщенностью Нерона. Нерона, который, может быть, в языках пламени, как в последнем средстве, еще старается найти игру образов и тем для души и сознания, померкших в разврате, отупевших в преступлениях, мертвых.
Нерон воспевает пожар.
Ненадолго стихия огня игрою образов и плясом видений способна «разжечь» ходячий труп императора…
Но, конечно, образы наиболее яркие, наиболее богатые по неожиданности, разнообразные и вместе с тем наиболее предметно конкретные должны рисоваться в пламени, в первую очередь, не абстрактным мыслителям, создающим отвлеченные религиозные системы, а художникам, творящим реальные, конкретные произведения искусства.
Один из них, один из величайших художников вообще, особенно глубоко связан с огнем. Огненность его в деле борьбы за великое дело рабочего класса, пламенность во всем, что касается ее, кажется воплотившейся и в той тяге к стихии огня, о которой, с его же слов, многие из нас сами слышали свидетельство при его жизни. Мы уже чувствуем, что речь идет о Горьком. И достаточно взять хотя бы один из его очерков – «Пожары» (или «Огонь», <помещенный> в другом сборнике), чтобы встретиться с наиболее красочными образцами, иллюстрирующими нашу мысль.
«Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал, как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы, и сам не свободен от влияния ее. Разжечь костер – для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку».
Сближение огня и музыки здесь не случайно.
И, конечно, здесь лежит один из секретов притягательности огня для художника. Ведь и музыка примечательна тем, что создаваемые ею образы непрерывно текут, как само пламя, вечно изменчивы, как игра его языков, подвижны и бесконечно разнообразны.
Пусть либретто вам подсказывает, что это – морской прибой, а то – шум леса; это – буря, а то – игра солнца в ветвях. Сколько разнообразных бурь и лесов, солнц в ветвях и прибоев рисуется здесь каждому отдельному воображению, сколько различных – одному и тому же в разные дни, в разные часы, в разные минуты собственной эмоциональной жизни. Музыка сохранила эту эмоциональную многозначность своей речи, многозначность, вытесняемую из языка, стремящегося к точности, отчетливости, логической исчерпываемости.
И он был прежде таким. Он не искал точности выражения, но старался путем звукообраза слова всколыхнуть по возможности широкий слой созвучных этому слову эмоций и ассоциаций: передать не точное понятие, но комплекс сопутствующих ему чувств.
Эта черта сохранилась в поэзии. В известной мере. В небольшой – стихи сухи. В чрезмерной – они беспредметны (Mallarme). Но и сейчас еще на Дальнем Востоке, сталкиваясь с китайским языком, логист-европеец, педант ответственной точности языка, негодует на это музыкальное подобие многозначно переливающегося смысла в неуловимом значении слов.
Века работы над языком в наших странах оттеснили из области слов это свойство, но музыка полна этой таинственной жизнью неполной уловимости точных очертаний предмета и образа, которые зрительно так же пленительны в игре облаков или огня16.
Но вернемся к Горькому, к огню и к его «Пожарам».
О всепритягательной силе огня, которой так подвержен был и сам великий писатель, он говорит устами одного из персонажей (фельдшера Саши Винокурова).
«У людей, как я заметил, есть эдакое идольское пристрастие к огню. Вы тоже знаете, что высокоторжественные царские дни, именины, свадьбы и другие мотивчики человеческих праздников – исключая похороны – сопровождаются иллюминациями, игрою с огнем. Так же и богослужения, но тут уже и похороны надо присоединить…»
Продлить эту тему на брачные костры и костры, пожирающие трупы умерших владык древности вместе с любимым имуществом, включавшим и жен, – не дают пределы эрудиции, которыми ограничивает автор образ Саши Винокурова. И соображения идут дальше таким путем:
«Мальчишки даже и летом любят жечь костры…»
В этом «даже и летом» невольно вспоминается сам автор, с таким увлечением разжигавший костры не только в сырых осенних сумерках сада подмосковного дома, но равно как на побережье Крымского полуострова, так и на залитом солнцем острове Италии.
Однако Саша Винокуров, не в пример автору, не намерен поощрять подобную склонность юных приверженцев этого «идольского пристрастия к огню»: за разведение костров «следует мальчишек без пощады пороть во избежание губительных лесных пожаров…»
Но вместе с тем Винокуров резюмирует:
«В общем скажу, что пожар – зрелище, любезное каждому, и все люди стремглав летят на огонь, подобно бабочкам ночным. Бедному приятно, когда богатый горит, а у всякого зрячего человека есть свое тяготение к огню, как известно…»
Интересно, что так стремглав в любое время дня и ночи летал глядеть на пожары другой писатель земли русской, человек, которого с его дивана не в состоянии было сдвинуть, кажется, не что иное, кроме этого зрелища. Не в огне ли и он вычитывал контуры бесчисленных подвижных фигур, пробегающих по его басням? По басням автора их – Крылова.
Но всмотримся вместе с Горьким в тот рой сказочных фигур, которые рисует абрис бушующего и разливающегося пламени собственному его творческому воображению. Любопытно – почти все они в звериных обликах. Точно огненные басни!
Сперва автор собственные видения отдает другому персонажу очерка – парню, обвиняемому в четырех поджогах. Этот с виду «такой милый, тихий парень», полный негодования, обрушивается на показания свидетеля. Но не сущность обвинительного показания возмущает его. Нет. Он негодует на несправедливость образа, которым свидетель обрисовал возникновение огня (и какой в этом скрытый урок литераторам – базировать образ на основе подлинно увиденного): «Да – врешь ты! Из трубы – эх! Что ты знаешь? Чать не сразу бывает – фукнуло, полыхнуло! Слепые. Сначала – червячки, красные червячки поползут во все стороны по соломе, а потом взбухнут они, собьются, скатятся комьями, вот тогда уж и полыхнет огонь. А у вас – сразу…
…Разводя руки кругами все шире, все выше поднимая руки, он увлеченно рассказывал:
– Да – вот так, да – вот так и начнет забирать, колыхается, как холст по ветру. В это время у него повадка птичья, тут уже его не схватишь, нет! А сначала – червяки ползут, от них и родится огонь, от этих красных червячков, от них – вся беда! Их и надо уследить. Вот их надо переловить, да – в колодцы. Пере ловить их – можно! Надо поделать сита железные, частые, как для пшеничной муки, ситами и ловить, да – в болото, в реки, в колодцы! Вот и не будет по жаров. Сказано ведь: упустишь огонь – не потушишь. А – они, как слепые все равно, врут…
Ловец огня тяжело шлепнулся на скамью, потряс головою, приводя в порядок растрепавшиеся кудри, потом высморкался и шумно вздохнул.
Судебное следствие покатилось, как в яму. Подсудимый сознался в пяти поджогах, но озабоченно объяснил:
– Быстры они больно, червячки-то, не устережешь…»
Но дальше Горький, откинув посредничество действующих лиц, строчка за строчкой набрасывает собственные видения очарованного огнем человека.
Начинает он очерк образом, классическим по чистоте и впечатляемости:
«Темною ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь – вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок, – они падали на землю нехотя, медленно.
Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости.
Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: надо стучать в окна домов, будить людей, кричать – пожар. Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке крыши уже мелькали петушиные крылья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели, и на площади стало светлее…»
«Красный петух» народного изречения вступил в свои права. И дальше страница за страницей нагромождает Горький все новые и новые образы, которые навевает ему разгул пламени.
Любопытно – и дальше почти все они в звериных обликах, эти огненные басни! Этот огненный сказ о горящих за Волгой лесах. Эти образы и облики не придумать. Их надо увидеть. Острым взором художника прочесть в игре стихии огня.
«По ночам из города видно: над черной стеной дальнего леса шевелит зубчатым хребтом огненный дракон, ползет над землей и дышит в небо черными облаками, напоминая Змея Горыныча древних сказок…»
«У корней деревьев бегали, точно белки, взмахивая красными хвостами, веселые огни, курился голубой дымок. Было хорошо видно, как огонь, играя, взлетает по коре стволов, извивается вокруг них, прячется куда-то, и вслед за ним ползут золотые муравьи, и зеленоватые лишаи становятся серыми, потом чернеют. Вот снова откуда-то выбежал огонь, грызет порыжевшую траву, мелкий кустарник и – прячется. И вдруг между корней кружится, суетится целая толпа красных бойких зверьков…»
«Что-то прозвучало, лопнув, как гнилое яйцо, и по болоту, извиваясь, поползли во все стороны красно-желтые змеи, поднимая острые головки, жаля стволы деревьев…»
«По болоту хлопотливо бегали огоньки, окружая стволы деревьев, блекла и скручивалась, желтея, листва ольхи и берез, шевелились лишаи на стволах сосен, превращаясь во что-то живое, похожее на пчел…»
«Впереди нас по можжевельнику в лощину воробьиными прыжками спускались огоньки, точно стая красногрудых снегирей, в траве бойко мелькали остренькие крылья, клевали и прятались безмолвно птичьи головки…»
«Непобедимо влекло вперед, ближе и ближе к огню…»
«Вечером я лежал в поле на сухой, жаркой земле – смотрел, как над лесом набухает, колеблется багровое зарево и леший кадит густым дымом, принося кому-то обильную жертву. По вершинам деревьев лазили, перебегали красные зверьки, взмывали в дым яркие, ширококрылые птицы, и всюду причудливо, волшебно играл огонь, огонь.
А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный вид: синяя стена его выросла выше, и в глубине ее, между черных стволов, безумно заметались, запрыгали красные, мохнатые звери! Они припадали к земле до корней и, обнимая стволы, ловкими обезьянами лезли вверх, боролись друг с другом, ломая сучья, свистели, гудели, ухали, и лес хрустел, точно тысячи собак грызли кости.
Бесконечно разнообразно строились фигуры огня между черных стволов, и была неутомима пляска этих фигур. Вот, неуклюже подпрыгивая, кувыркаясь, выкатывается на опушку леса большой рыжий медведь и, теряя клочья огненной шерсти, лезет, точно за медом, по стволу вверх, а достигнув кроны, обнимает ветки ее мохнатым объятием багровых лап, качается на них, осыпая хвою дождем золотых искр, вот зверь легко переметнулся на соседнее дерево, а там, где он был, на черных, голых ветвях зажглись во множестве голубые свечи, по сучьям бегут пурпуровые мыши, и, при ярком движении их, хорошо видно, как затейливо курятся синие дымки и как по коре ствола ползут, вверх и вниз, сотни огненных муравьев. Иногда огонь выползал из лесов медленно, крадучись, точно кошка на охоте за птицей, и вдруг, подняв острую морду, озирался – что схватить? Или вдруг являлся сверкающий, пламенный медведь-овсяник и полз по земле на животе, широко раскидывая лапы, загребая траву в красную, огромную пасть.
Выбегала из леса толпа маленьких человечков в желтых колпаках, а вдали, в дыму, за ними, шел кто-то высокий, как мачтовая сосна, дымный, темный, шел, размахивая красной хоругвью, и свистел. Прыжками, как заяц, мчится куда-то из леса красный ком, весь в огненных иглах, как еж, а сзади его машет по воздуху дымный хвост. И по всем стволам на опушке леса ползают огненные черви, золотые муравьи, летают, ослепительно сверкая, красные жучки.
Воздух все более душен и жгуч, дым – гуще, горячей, земля все жарче, сохнут глаза, ресницы стали горячими и шевелятся волосы бровей. Сил нет лежать в этой летучей, едкой сухоте, а уйти не хочется: когда еще увидишь столь великолепный праздник огня?..»17
[Следующий образец – из «Разгрома» <Эмиля Золях..
Здесь перед нами – момент кульминации борьбы восставшего народа против его поработителей.
Перед нами развернутое полотно Апокалипсиса гибели Второй империи, подобно Содому и Гоморре символически погибающей в языках пламени, пожирающей Тюильрийский дворец…
И в нем пляска языков пламени, перебрасывающаяся в метафору огненного бала:
«Налево пылал дворец Тюильри. С наступлением ночи коммунары подожгли дворец с двух концов, у павильонов Флоры и Марсан. Огонь быстро добрался до павильона Часов, к центру дворца, где была приготовлена целая мина из бочек с порохом, кучей поставленных в зал Маршалов. В эту минуту из пробитых окон промежуточных зданий вырвались клубы рыжеватого дыма, в которых иногда показывались длинные синие струйки пламени. Крыши загорались от огненных языков и разверзались, как вулканическая земля, под давлением внутреннего пожара.
…Морис безумно смеялся в горячечном бреду.
– Прекрасный праздник в Государственном совете и Тюильри… фасады освещены, люстры пылают, женщины танцуют… Да, танцуйте в ваших дымящихся юбках, с вашими пылающими шиньонами.
Размахивая здоровой рукой, он говорил о пышных праздниках в Содоме и Гоморре, о музыке, цветах, чудовищных удовольствиях; дворцах, переполненных таким развратом, освещающих мерзкую наготу таким количеством света, что здания загорались сами собой». («Разгром», часть III)].
Но кого же должно особо привлекать пламя?
Того, конечно, кто более всех лишен увлекательных его черт: и первой из них – свободы движения, свободы преображения, вольности стихии.
Раб природы – первобытный человек, видевший в нем не только первоначальность житейских благ, но и образ свободной властности над всей природою, в которой почти ничто не способно устоять перед мощью огня. Не отсюда ли огнепоклонничество?
Но в таком случае и узник, скованный тяжестью жестокого заключения, должен особенно остро чувствовать огонь как символ воли, жизни и могущества. Такова именно судьба еще одного персонажа из «Пожаров» Горького – священника Золотницкого.
Он тридцать лет сидит за какие-то еретические мысли в каменной яме одиночного заключения монастырской тюрьмы.
Мне самому приходилось видеть такие каменные склепы-камеры в Прилуцком монастыре под Вологдой: выжить в них сутки уже кажется подвигом… Золотиицкому была предоставлена одна отрада:
«В медленном течении одиннадцати тысяч дней и ночей единственной утехой узника христолюбивой церкви и единственным собеседником его был огонь: еретику разрешали самосильно топить печку его узилища…»
Золотницкий не выдерживает. Рассудок его помутился.
«Он вышел из тюрьмы огнепоклонником и оживлялся только тогда, если ему позволяли разжечь дрова в печке и сидеть перед нею. Усаживаясь на низенькой скамейке, он любовно зажигал дрова, крестил их и ворчал, тряся головою, все слова, какие уцелели в памяти его:
– Сущий… Вечный огонь. Иже везде сый… Всесилен есть. Никому не подобен. Лик твой да сияет во веки веков… Тебе хвала; тебе слава, купина…»
Не свет, а именно пламя. Изменчивость его живых форм. Многообразие вычитываемых в нем переливающихся образов – вот что завораживает, привлекает, очаровывает.
И, столкнувшись с порабощенным светом, во много раз более ярким, чем огонь из печки, но скованным и лишенным движения, Золотницкий должен прийти в ужас.
«Велик был ужас Золотницкого, когда он увидел электрическую лампочку, когда перед ним таинственно вспыхнул белый, бескровный огонь, заключенный в стекло.
Старик, присмотревшись, замахал руками и жалобно стал бормотать:
– И его – ох! – и его… Почто вы его? Не дьявол ведь! Ох – почто?..
… Из его мутных глаз текли маленькие слезинки….. И дрожащей сухонькой рукой он осторожно дотрагивался до людей, всхлипывая: