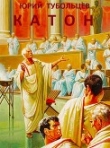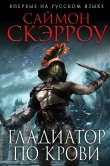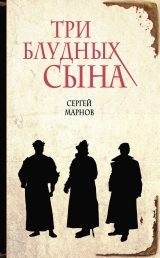
Текст книги "Три блудных сына"
Автор книги: Сергей Марнов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
26
Беда пришла неизвестно откуда, без всяких предвестников, без обычных слухов. Обычно эпидемия переползала по империи медленно, пожирая по одной-две провинции в год; соберет свою жатву и дальше идет, а тут…
Чума ударила одновременно и по Италии, и по Африке, и по далекой Британии. Она пятнадцать лет, не ослабевая, выкашивала население империи, повергая жителей в смертный ужас.
«Боги гневаются за то, что мы терпим в государстве сакрилегов», – утверждали, с голоса нового капитула магов, официальные жрецы, и в канцелярии Галла их слушали. «Гневается Аполлон Салютарис»[50]50
Аполлон Спаситель.
[Закрыть], – решил Сенат на основании наблюдений за местами скоплений зараженных крыс. Больше всего их оказывалось именно около храмов Аполлона; а некоторые нечестивые люди даже утверждали, что именно оттуда крысы и появляются.
По всей великой империи прозвучал категорический приказ императора: немедленно приносить очистительные жертвы Аполлону, всем, от мала до велика, свободным и рабам, гражданам и Перегринам[51]51
Перегрины – приезжие, лица без гражданства. Правда, после указа 212 года императора Каракаллы, их почти не осталось: большинство свободных жителей империи стали гражданами.
[Закрыть].
И снова указ вызвал гонения против христиан, отказавшихся приносить эти жертвы, причем на этот раз отступников почти не было. Всякий раз, когда христианина подводили к жертвеннику, звучало спокойное и уверенное: «Non facio!». Как и столетия назад, поведение христиан вызвало в народе ярость, зазвучали полузабытые призывы «Христиан ко львам!»… впрочем, как зазвучали, так и смолкли. Не до христиан стало…
Повсюду лежали неубранные трупы, по ним свободно бегали огромные крысы. Заболевших людей никто не лечил, никто не оказывал им даже минимальной помощи; больных выбрасывали на улицу их же родственники. Прежде бесперебойно работавшая машина римской власти начала скрипеть и останавливаться, не выдерживая напора лавины, имя которой – паника.
И тут на улицы римских городов вышли христиане. Они убирали трупы, хоронили их в отведенных государством местах и поэтому неизбежно вступали в контакт с представителями власти. Впервые те, кто по долгу службы организовывал гонения, обращались за помощью к гонимым.
Откликнувшись на призыв святителей Киприана Карфагенского и Дионисия Александрийского, христиане ухаживали за больными и, когда заражались от них, уходили к своему Небесному Отцу, радостные и свободные.
Чума не отступила, но паника прошла. Рядом с христианами все чаще вставали язычники; лучшей проповедью стало общее скорбное дело. Церковь росла, и числом, и качеством.
Впереди ещё гонения, причем гонения свирепые; но никогда больше они не будут сопровождаться криками «Христиан ко львам!». Император мог приказать уничтожить сакрилегов, власти на местах могли поспешить выполнить этот приказ, но со стороны простых людей христиане получали только поддержку, уважение и симпатию.
* * *
– Почему язычники так себя ведут, Марк? Вот этого мальчика выгнала на улицу мать, родная мать! Полгода убивает людей болезнь, а страх смерти в них все сильней и сильней…
Кассия поила зачумленных: они хотели пить непрерывно, а Катон помогал Целерину менять под ними подстилку. На вилле Метелла устроили что-то вроде больницы, хотя правильнее было бы назвать это место хосписом: из тех, у кого появились признаки заражения, не выживал почти никто. Но это «почти» дорого стоило: все выжившие требовали Крещения и вскоре становились в ряды похоронных и санитарных команд.
– Не суди их строго, милая, – ответил Катон. – Ты даже и представить себе не можешь, как они боятся смерти. Там, за чертой, для них только тоска и ужас, и все это знают точно, тут бес их не обманул.
– Почему же тогда они так часто кончают жизнь самоубийством?
– Из того же страха… римляне, все-таки. Страх смерти – это враг, а на врага надо идти с оружием. Глупые! Если бы они слышали, как смеется тот, кто ожидает их!
– А ты слышал?
Катон не ответил. Он как раз закончил работу и мыл руки в растворе винного уксуса, как учил Целерин.
В помещение вошел Метелл и положил на пол два тела, еще издающие слабые стоны.
– Еще два, – прохрипел он. – Всего за сегодняшний день – пять. Если хотя бы один из них выживет, чтоб его, число спасенных превзойдет число тех, кого я убил на арене.
– Сколько можно повторять, Метелл: ты не убийца, – рассердился Целерин. – Крещение смывает все, абсолютно все грехи!
Метелл только махнул огромной рукой, взял из угла охапку свежей соломы, расстелил на полу и лег.
– Все, – выдохнул он устало. – Дай попить, дочка.
Целерин кинулся к нему, бегло осмотрел и безнадежно сказал:
– Последняя стадия. Как же ты держался, старик?
– А я считал, – прошептал Метелл, отрываясь от чаши с водой. – Убитый – спасенный, убитый – спасенный…
– Подожди умирать, подожди! Причастие…
Дары находились тут же, на подставке, идти никуда не пришлось. Целерин едва успел причастить умирающего, приложить плат к его губам и услышать тихое:
– Deo gratias…
– Deo gratias, – повторил священник, закрывая глаза старику.
Кассия, не веря глазам, всматривалась в мертвое лицо папы – человека, который был рядом каждый день её короткой жизни – и только собиралась закричать, как раздался резкий мальчишеский голос:
– А мне сегодня пить дадут?!
Один из принесенных Метеллом сидел, прислонившись спиной к стене. Это был мальчишка лет семи, невероятно худой и грязный. Кассия кинулась к нему с чашей и, когда мальчик напился, не удержалась и умыла его. Под слоем грязи оказалось миловидное лицо типичного маленького италика: прямой нос, голубые глаза, ровным овалом очерченные скулы. Целерин осмотрел ребенка и потрясенно выдохнул:
– Выздоравливает! Чудо Господне!
Катон наклонился над трупом Метелла и едва слышно прошептал:
– Счет в твою пользу, отец…
– Как тебя зовут, маленький? – спросила Кассия.
– Я не маленький! А зовут меня Публий Корнелий Сципион![52]52
Публий Корнелий Сципион Африканский Величайший, Спаситель Отечества (старший) – римский полководец третьего века до Р.Х., победитель Ганнибала. Публий Корнелий Сципион Африканский Величайший, Спаситель Отечества (младший) – римский полководец второго века до Р.Х., разрушитель Карфагена. Всего семья Сципионов дала Риму более десяти полководцев.
[Закрыть]
– И где же ты живешь, Публий Корнелий Сципион?
– В Городе, – мальчик неопределенно махнул рукой, – везде!
– Марк, – проговорила Кассия, улыбаясь сквозь слезы, – давай возьмем себе этого замечательного Сципиона!
– Пойдешь к нам жить, Сципион? – небрежно спросил Катон.
– А ты хорошего рода? – спросил мальчик озабоченно. – Мне ко всяким нельзя!
– Я – Марк Порций Катон! – важно ответил Катон.
– Подходит, – спокойно сказал мальчик, встал на шатающиеся тонкие ножки и протянул руку приемному отцу.
Они пожали друг другу запястья, традиционным римским рукопожатием равных.
Эпилог
Пятьдесят лет спустя
– …Всех приверженцев зловредной и лживой секты, именующей себя Христианской Церковью, пытками принудить к принесению жертв божественному императору, августу Диоклетиану Юпитеру; божественному императору, августу Максимиану Геркулесу и всем истинным римским богам. Всех епископов, пресвитеров и диаконов христианских поместить в тюрьмы и пытать, пока не отрекутся от своих заблуждений, не принесут жертв и публично не обругают своего ложного бога. Все храмы христианские разрушить, книги их сжечь. Свидетельств христиан в суде не принимать, имущество их вывести из-под защиты римского закона. Подписали: август Диоклетиан, август Максимиан, цезарь Хлор, цезарь Галерий.
Глашатай читал этот текст с помоста непрерывно, копии эдикта были развешаны по всему Городу. Алтари с изображением божественных императоров-соправителей стояли повсюду, а рядом с ними – орудия пыток и палачи. Все было очень серьезно; чиновники на местах впервые за всю историю получили четкий и недвусмысленный приказ: христианство истребить, вычистить из империи без остатка. В отличие от прежних времен, христианам не предлагалось добровольно прийти, их тащили силой, сверяясь с заранее приготовленными списками; кого не удавалось схватить, того разыскивали. Но…
…В кресле на помосте сидел совсем старенький, но еще очень бодрый презид сенаторского достоинства. Он обязан был лично вести допрос христиан, он и выносил решения по каждому случаю. Все показания тщательно записывались и отправлялись в императорскую канцелярию.
– Следующий!
Два солдата поставили перед помостом угрюмого вида пожилого мужчину и остались стоять рядом с ним.
– Кто ты? – спросил презид.
– Тит Витрувий Ахала, булочник, свободнорожденный гражданин.
– Ты был диаконом христиан?
– Я!
– Пиши: он больше не диакон, сам сказал, – наклонился презид к секретарю. – Так и сказал!
– Я не… – вскинулся было Ахала, но тут же согнулся пополам от удара солдатского кулака.
– Не перебивай меня, отвечай точно на вопросы, и коротко, коротко! Устал я вас тут выслушивать, стар уже! Скажи: ты не сдал священных книг потому, что у тебя их нет?
– Нет, я…
– Пиши: нет у него никаких книг! Теперь – жертвоприношение…
Странная сцена разыгралась перед помостом. Дюжий легионер отработанным движением двинул булочника кулаком в живот, вдвоем с товарищем они потащили упирающегося мужчину к алтарю, причем один из солдат зажал подмышкой голову жертвы, так что Ахала мог издавать лишь придушенные звуки. Жрец коснулся куском мяса руки мужчины и швырнул его в огонь. В толпе послышались смешки:
– Эй, Ахала![53]53
Ahala – подмышка (лат.).
[Закрыть] Как тебе на родине?
– Тихо! – крикнул презид. – Будете шуметь – прикажу очистить площадь! Жертва принесена, отпустите его! Секретарь, запиши. Следующий!
Перед помостом поставили стройного, подтянутого старика, державшегося непринужденно, даже весело. В толпе старика узнали; послышались сочувственные возгласы.
– Тихо! – еще раз прикрикнул на толпу презид. – Кто ты?
– Марк Порций Катон, епископ христиан.
– Я тебя про епископа не спрашивал, так не полагается! Секретарь, не пиши!
– Хватит жульничать, презид. Скольких ты приказал казнить? Молчишь? Ни одного за все время действия указа, я выяснял. Подозрительно это. Тебя уберут и поставят какого-нибудь людоеда, все эти улицы кровью зальет. Сегодня надо обязательно вынести хоть один смертный приговор, больше тянуть нельзя.
– Но кому?
– Мне, конечно.
– Солдаты! Очистить площадь!
Толпа не сопротивлялась: никому не хотелось подставлять доброго презида.
– Ты тоже отойди, сынок, – сказал презид секретарю. – Старикам поговорить надо…
– Ты не узнал меня, презид? – спросил Катон, когда все разошлись.
– Как же… узнал, конечно. Одно имя чего стоит! Ты у меня девушку увел… славная такая девушка, с родинкой на шее…
Водянистые глаза старого сенатора глядели в прошлое, и глядели с удовольствием, а что слезились немного, так это от усталости… возраст!
– Из нее и старушка славная получилась, – прервал молчание Катон.
– Как она сейчас?
– Очень хорошо, спасибо! Казнили ее, еще до начала гонений. Пытали, перенесла все до конца и меня поддерживала. Очень по ней скучаю. Ничего, скоро увидимся!
Презид с изумлением уставился на Катона и пробормотал:
– Все-таки вы очень странные, сакрилеги… завидую.
– А чего завидовать, Диокл-Фракиец? Крестись! Ты хороший человек, значит должен быть христианином. Пора тебе, можешь и не успеть.
– Разве хороший человек не может спастись так… без Крещения?
– Не может, и нечего себя обманывать!
Диокл тяжело вздохнул и с тоской проговорил:
– Нельзя мне, пока гонения не кончились. На этом месте я пользу приношу, придется ждать… как это у вас говорят? Божья Воля! Да, заварил кашу паршивец! Племянник мой, тоже Диокл. Пастух был хороший, овец стриг – загляденье, а потом в солдаты пошел и на самый верх залез…
– Постой, постой… так твой племянник – император Диоклетиан?!
– Я и говорю – паршивец! Ты думаешь, я чего сенатор? Это он родню всю наверх тащит, дурак несмышленый. Он ведь совсем неплохой человек был, добрый, честный. Что с собой сделал? Такое творит – и подумать страшно… Мальчишку одного, солдатика, строгал живьем и уксусом поливал, а потом на медленном огне зажарил! Целый город христианский сжег, с детишками малыми, всех! Разве может человек так поменяться?! Я ж его, маленького, на коленках качал!
– Помогли ему, – строго сказал Катон. – Один мой старый знакомый, узнаю его руку. Ладно, поговорили, давай за дело. Строго по закону, не отступая, ну?
– Подожди, куда ты так спешишь? А! Понимаю – Кассия… Потерпи еще немного, ладно? По старому знакомству…
– Ладно, немного потерплю.
– Скажи, а Марк Порций Катон Корнелиан, легат[54]54
Легат – командир легиона, генерал.
[Закрыть] у Констанция Хлора[55]55
Констанций Хлор – отец святого равноапостольного Константина Великого.
[Закрыть], тебе не родственник?
– Сын, – заулыбался Катон, – приемный. Из Сципионов, между прочим.
– А это кто такие?
– О Рим, что с тобой? – вздохнул Катон. – Сенатор, ничего не слышавший о Сципионах!
– Подумаешь! – обиделся Диокл. – Зато я умею такое сукно валять, какое и не снилось твоим Сципионам!
Помолчали.
– Ну, пора? – напомнил о себе Катон. – Не обижайся, мне уже в тягость… тут. А хочешь, сделаем так: я тебя сейчас крещу – на словах, но не до конца; а ты потом, если начнешь неожиданно помирать, платком с моей кровью…
– Сам же сказал: не жульничать! А еще епископ! Нет уж, приму Крещение как положено… а если не успею, начну кричать в Сенате или перед самим Диоклетианом, что я христианин. Может, и убьют. Так ведь считается?
– Так – считается. Ну что? Теперь пора?
– Теперь – пора… эй, секретарь! Иди сюда! Зови всех…
Площадь заполнилась народом; секретарь, солдаты, палач заняли свои места.
– Ты Катон, епископ христиан?[56]56
Приведенный ниже диалог является почти документальным воспроизведением протоколов допросов христианских мучеников.
[Закрыть] – спросил Диокл громко.
– Я!
– Назови пресвитеров, каких знаешь.
– По римским законам доносы запрещены.
– Императоры приказали тебе сдать все священные книги, которые у тебя есть.
– Non facio!
– Императоры приказали тебе принести жертву истинным римским богам.
– Non facio!
– Подумай о себе.
– Делай, что тебе приказано.
– Ты долго жил как сакрилег. Ты показал себя врагом римским богам и священным законам. Августейшие императоры не смогли убедить тебя возвратиться к исполнению римских религиозных обрядов. В предостережение тем, кого ты вовлек в свое преступное сообщество, ты своей кровью заплатишь за нарушение законов. Марка Порция Катона, как римского патриция, подобает казнить мечом.
– Deo gratias!
Катон поклонился президу, поклонился толпе и в полной тишине пошел к палачу. Он знал, что истекают его последние мгновения на земле, что нужно молиться, но как-то не получалось, не приходили единственно точные слова.
– Помоги, Господи, – прошептал епископ, и вдруг, словно яркая вспышка озарила старческую память: вспомнилась самая первая его молитва, та, что полвека назад спасла ему жизнь и душу:
– Верю в Иисуса Христа как в Единственного и Всемогущего Бога! Люблю Его за то, что Он дал мне все самое лучшее, ради чего стоит жить: способность любить Кассию, память о маленькой девочке на берегу чистого моря, способность радоваться при мысли, что на свете живет хороший парень Диокл Фракиец, которого я не убил… Люблю Бога моего Иисуса Христа и точно знаю, почему из всего, что пребывает ныне, любовь – главнейшая!
Царь
Историческая повесть
Царь Иван Грозный всегда привлекал и будет привлекать внимание русских людей: он слишком значимая фигура нашей истории. Каким он был? Что чувствовал? Чем объяснить некоторые его поступки, совершенно непонятные с точки зрения здравого смысла? Почему к концу жизни он вошел в состояние мучительного, надрывного покаяния?
Автор повести «Царь» дает свою версию ответов на эти вопросы и нисколько не настаивает на ее окончательной истинности. В конце концов, вниманию читателя предлагается не научное исследование, а всего лишь литературное произведение.
Глава 1
Февраль 1570 года, Псков
Псковский воевода князь Юрий Токмаков не знал, что предпринять. Слухи о масштабах погрома, учиненного государем в Новгороде, казались преувеличенными, нереальными, но беженцы говорили одно и то же: славный город умылся кровью.
Поражала чудовищная нелепица происходящего. Какое-то изменническое письмо, якобы найденное за иконой в Софийском соборе… Какими же недоумками надо быть, чтобы этакую улику без присмотра оставить?! И зачем вообще было его писать?! Нет, так заговоры не устраивают, их плетут с глазу на глаз и следов не оставляют…
Князь встал на колени перед образом Пречистой и заплакал от бессилия: «Как жить, Заступница? Как сохранить верность свирепому чудовищу, за грехи людские поставленному Господом в московские цари? Скорее бы уж на войну…» Пушки – они простые и честные, а уж в пушкарском деле князь Юрий был настоящий художник![57]57
Художником на Руси 16 века называли любого специалиста в своем деле. – Здесь и далее примечания автора.
[Закрыть]
В низкую дверцу просунулась бородатая голова подьячего[58]58
Подьячий – мелкий чиновник на Руси XV–XVII веков.
[Закрыть].
– Он пришел, воевода!
– Зови.
Странное существо переступило порог воеводских покоев. Лохматое, до глаз заросшее спутанными, похожими на войлок волосами, оно прикрывало наготу лишь обрывками овчины, когда-то бывшей тулупом. От босых заиндевевших ног шел пар.
– Жарко у тебя, князь, – неодобрительно заметил вошедший, – и дух тяжелый. Нешто в баню не ходишь? Негоже Рюриковичу[59]59
Князья Токмаковы происходили из Черниговской ветви Рюриковичей, поступили на московскую службу в начале XV века.
[Закрыть] так себя запускать!
– Вот придет царь наш – всем баню устроит, как новгородцам, – горько пошутил воевода. – Что делать-то, Микула[60]60
Микула – блаженный Николай Салос, Христа ради юродивый (память 13 марта по новому стилю). Еще при жизни почитался псковичами как святой.
[Закрыть]? По лесам разбегаться? Выловят: с государем полторы тысячи опричников[61]61
Опричники – личная гвардия Ивана Грозного, существовала с 1565 по 1572 год. Поверх доспехов носили черные рясы, напоминавшие монашеские, а к седлам лошадей привязывали свежеотрубленные собачьи головы, заменявшиеся по мере протухания. Опричник Генрих Штаден, составлявший русско-немецкий словарь, понятие «опричник» определил как «человек, которому можно все».
[Закрыть], каждый с боевыми холопами… сила!
– Нельзя православным людям от православного царя бегать, – твердо сказал Микула. – Он только того и ждет!
– Царь?
– Нет, – Микула неопределенно махнул рукой, – не царь. Тот, кто нашего Иванушку мучает. Встретим государя как положено – хлебом-солью. Ты, князь, впереди, а словене[62]62
Словене ильменские – восточнославянский племенной союз, в древности основавший Новгород и Псков. В разговорной речи эта территория до XVII века именовалась словенской, а население – «словене» или «люди».
[Закрыть] около своих домов, на коленях. Отведет беду Господь!
– Хлеб! – вздохнул воевода. – Выбрал же время Иван играть в свои кровавые игрушки! Голод лютый на Руси стоит, уж и человечину стали в бочках засаливать. А я навстречу опричной сволочи сотни подвод с продовольствием выслал… как до осени доживем?!
– Что-то часто плакать ты стал, воевода, словно баба. Пора тебе на войну, пора!
– А скоро? – робко спросил Юрий Токмаков.
– Годик еще нас потерпи и отправляйся… чего спросить хочешь? Спрашивай, отвечу.
– Микула, а почему ты со мной всегда просто разговариваешь? Никаких «Юрашка, Юрашка!», «На мори акияни, на острове Буяни…», ну, как со всеми?
Микула весело расхохотался; глаза его засверкали озорством.
– Вон ты о чем! Так человек ты простой и правильный, с тобой и надо по-простому. Чего тебя смешить-то?
– А других смешишь?
– Кого смешу, а кого и пугаю, это уж как Господь положит. Я ведь не человек, а притча, которую Он рассказывает; своей воли не имею.
– А как ты понял, что на юродство благословлен?
– Этого не открою. Не велено.
* * *
Конные опричники черной змеей вползали в город. Царь на прекрасном тонконогом аргамаке ехал в середине колоны. Нет, покушений на него не было, но… на всякий случай. Боевые холопы расставляли пушки на окраине. Государь объявил, что казней во Пскове не будет, но… на всякий случай. В Тверь вон тоже входили под колокольный звон, и жители хлебом-солью встречали, а царь приказал – и разграбили Тверь! Весело с ним, с царем…
Около Троицкого собора стоял воевода с подносом, а вокруг дьяки[63]63
Дьяк – крупный чиновник на Руси XV–XVII веков.
[Закрыть] псковские, все на коленях.
Иван Васильевич сошел с коня и направился к воеводе. Нет, не к нему, а мимо, прямо ко входу в собор. Князь Юрий почувствовал всю нелепость своего положения: поднос этот глупый, булка на нем… ох, Микула, Микула! Неожиданно для себя князь шагнул вперед и заговорил:
– Великий государь! Прими…
Слова застряли в глотке воеводы – царь остановился и взглянул на него. Юрий Токмаков хорошо помнил прекрасный лик молодого Ивана Васильевича, его лучистые, добрые глаза, в которых лишь изредка просверкивали молнии гнева. Гнева, которому царь никогда не давал воли… Господи, да что же с ним случилось?! Ему же только сорок лет!
На воеводу смотрел оживший мертвец. Красноватая дряблая кожа складками лежала вокруг тусклых глаз, нижняя губа огромного синюшного рта выдавалась далеко вперед и слегка подрагивала, а вокруг неопрятными сосульками свисала сильно поредевшая борода… Кощей!..
…Иван Васильевич узнал этот взгляд, полный ужаса и какой-то странной, горестной жалости. Так смотрели на него все оставшиеся в живых соратники славных дней начала царствования. Те, кто помогал когда-то переделывать устаревшие государственные учреждения, писать новые законы, брать Казань, усмирять крымского хана. Их уцелело немного: Михайло Воротынский, Иван Висковатый[64]64
Князь Михайло Воротынский – герой взятия Казани в 1552 году, в 1572 году – победитель крымской орды в битве при Молодях (недалеко от Подольска). Умер после пыток в 1573 году. Дьяк Иван Висковатый – глава дипломатической службы – казнен летом 1570 года.
[Закрыть], Юрий Токмаков… кого еще вспомнить? Иван Выродков[65]65
Дьяк Иван Выродков – талантливый инженер-самоучка, казнен в 1568 году вместе со всей семьей, включая малолетних внуков.
[Закрыть]… нет, его еще в прошлом году… или в позапрошлом? Неважно… Почему все они, самые умные, самые храбрые, самые талантливые из помощников, оказались изменниками?!
Да потому, что слишком много имели своей воли! Не может быть в государстве иной воли, кроме царской, неужели так трудно понять? Да, иногда царь ошибается, но он же за все и отвечает…
Знакомая волна неуправляемой ярости кровавым потоком заливала глаза. Да кто он такой, этот князь?! Как смеет он жалеть царя?! Попробовали бы сами, умники!!! Не нужны!!! Псы ему нужны, верные, злобные, чтобы грызли врагов зубами, рвали когтями и не смели его жалеть, не смели!!!
– Прочь с дороги, холоп, раб лукавый!
Удар царской плети пришелся по лицу князя Юрия, хорошо – не в глаз. Поднос вылетел из рук, хлеб покатился в толпу, где его мгновенно подобрали чьи-то жадные руки: голод… А жить воеводе оставалось недолго: царь уже тащил саблю из ножен. Только одна женщина в такие минуты могла усмирить царский гнев, но ее уж давно не было в живых. Анастасия, первая жена, бывало, шепнет, ласково коснувшись руки царя: «Иванушка…» – и проясняются глаза, исчезает зверь, готовый вырваться наружу…
– Иванушка! Иванушка! Иванушка!
Сабля так и не покинула ножен на этот раз. Царь, недоуменно потряхивая головой, медленно приходил в себя. Вокруг него верхом на палочке скакал Микула, взметая босыми ногами снежную пыль. Тоненьким чистым голоском, то ли детским, то ли женским, юродивый приговаривал:
– Иванушка, Иванушка! Не пей крови христианской, покушай лучше хлебушка!
Опричники бросились было ловить юродивого, но он исчез, как сквозь снег провалился. Царь небрежным жестом отозвал своих слуг и молча двинулся к вратам собора.
– После службы он спросит обо мне, – прошептал Микула на ухо воеводе, платком отиравшему кровь с лица. – Под колокольней есть каморка, туда и проводите. Встречу! И… молитесь. Непрерывно молитесь!
На литургии царь стоял строго, не пропуская ни слова из службы, часто начинал петь вместе с хором. Священник знал, что Иван Васильевич не терпит спешки во время богослужения, поэтому служил старательно, при этом постоянно поглядывал на венценосного прихожанина. Опричники у него за спиной откровенно скучали, но так, чтобы Иван этого не замечал. Затевалась своеобразная игра: дразнить священника и пытаться предугадать момент, когда царь обернется, чтобы успеть принять благопристойный вид[66]66
По наблюдениям современников, обнаглевшие опричники иногда развлекались так и в Москве.
[Закрыть]. Наконец царь приложился ко кресту и пошел к выходу, знаком приказав воеводе следовать за ним.
– Не серчай, воевода, – царь потрогал пальцем свежий рубец на лице князя Юрия. – Между своими чего не бывает? Что спросишь отступного?
Воевода хотел было сказать что-то льстивое, но у него неожиданно вырвалось:
– Отпусти на войну, государь! Сил нет смотреть, как люди с голоду мрут!
Некоторое время после Божественной литургии Иван мог трезво мыслить, черная муть отпускала его, поэтому он не разгневался, а лишь горько усмехнулся в ответ:
– А кого я на твое место пришлю? Вора, который еще и наживаться будет на голоде? Потом я его, конечно, на кол посажу, но тебе какой с того прибыток? Терпи, воевода, пока на войне затишье… Как большая драка пойдет, сам тебя здесь не оставлю. Где Никола-юрод? Это ведь он давеча скакал на палочке? О нем уж и на Москве разговоры идут, интересно поглядеть…
– Да здесь Микула, в каморке под колокольней. Велел сказать, чтобы тебя, как спросишь о нем, туда и вели.
– Велел?! Ну так и веди, раз велел. По-местному, значит, Микула? Запомню….
* * *
Каморка Микулы была чисто прибрана, но не натоплена: печь в ней и вовсе отсутствовала. Изморозь была повсюду: на стенах, на узком слюдяном оконце, на выскобленном дубовом столе. Только иконы в углу благодаря лампадкам светились теплом, да огарок свечи оттаивал небольшое пятнышко на столе.
– Иванушка пришел! – обрадовался Микула. – Устал с дороги, есть, небось, хочешь? Садись к столу, покушай… У меня хорошо, прохладно, не то, что у воеводы. Кто жарко топит, тот заранее к аду привыкает, так-то! Ну что же ты? Кушай!
Иван остолбенел. На столе лежал окровавленный кусок сырого мяса и больше ничего. Чудит юродивый, но обижать его нельзя, не поймут люди… Вот эти опричники, угрюмо стоящие за спиной, и не поймут, и воевода чистенький не поймет, и люди псковские. Отвечать надо, а что тут ответишь? Надо сказать что-то очень правильное, чтобы запомнили, чтобы повторяли как часть легенды «Микула и царь». Только ведь правду надо говорить Божьему человеку…
– Я православный христианин и мяса в пост не ем! – деревянным горлом выдавил из себя царь.
– Ох ты, не угодил, – огорченно запричитал Микула, – не ест Иванушка коровьего мясца-то! Ты уж прости меня, глупого, что человечинки не приготовил, как ты любишь. Привык Иванушка в Нове-городе кушать человечинку, от говядины-то и нос воротит! Одно слово – царь!
Иван стиснул кулаки так, что кожа на костяшках пальцев чуть не лопнула. Нельзя трогать юродивых, нельзя! Лучше сотню бояр казнить, чем обидеть одного юродивого. И дело вовсе не в глупой человеческой болтовне: поболтают и замолчат, а не замолчат, так и языки отрезать можно. За юродивым сила, с которой нельзя не считаться, за ним – Бог! А Микула, тем временем, подошел совсем близко, лицом к лицу, и заговорил серьезно и веско:
– Не трогай нас, прохожий[67]67
Прохожий («минухне») – так назвал Ивана Грозного блаженный Николай Псковский.
[Закрыть] человек. Проходи себе, проходи быстрей – как бы бежать не пришлось, а бежать-то и не на чем будет!
Мертвая тишина повисла в каморке. Одно дело, кривляясь, ругать царя (юродивым это всегда позволялось), но совсем другое – угрожать. Угроз Иван Васильевич не терпел ни от кого. Гнев, тяжелый и мрачный, вскипал, накатывал, требовал выхода наружу. В таком состоянии царь Иван был способен на все, и Микула это понял. Он дерзко глянул в уже подернутые безумием глаза и четко произнес:
– Проходи, проходи, прохожий. Не нас – себя пожалей!
В этот момент дверца каморки распахнулась от удара снаружи, и под ноги царю вкатился человек. Вкатился не сам, а направляемый мощными пинками ног дюжего опричника. Человек тихонько подвывал, не то от боли, не то от ужаса.
– Говори, пес! – кричал опричник, сопровождая каждое слово новым пинком. Было заметно, что он и сам обмирает от страха.
– Прости, государь, – заскулил человек у ног царя, – не усмотрел! Конь твой любимый пал. Только что стоял, веселый был, всех укусить норовил и вдруг – лег и не двигается. Даже не дернулся, не заржал, а просто лег… Смотрю – мертвый, совсем мертвый! Сколько лет за лошадьми хожу, а такого не видел!
– Васенька, – тихо, и даже как-то ласково, сказал опричнику царь, – ты не бей больше Одолбу-то. Не виноват Одолба[68]68
Одолба – в XVI веке и раньше у некоторых суеверных людей был обычай скрывать «от сглаза» свое настоящее (крещеное) имя. Среди знатных людей того времени мы встречаем мужчин с именами: Пуговка, Одолба, Аленка, Бородатый Дурак, Глупой, Помяс, Тюфяка, Бобос, Голодный, Хрен, Плетень, Честокол (последние трое – братья), Сом, Дубовый Нос и даже Неблагословенный Свистун. Одного священника-летописца мы знаем исключительно по кличке, его собственноручной подписи, «Упырь Лихой»!
[Закрыть], за лошадей моих ты отвечаешь… Да не бледней, не бледней… и ты не виноват. Я правильно говорю, Микула?
– Правильно, прохожий, правильно! – обрадовался Микула.
– Уходим из Пскова! – отрывисто приказал царь и стремительно выбежал из каморки. Снаружи послышались выкрики команд, конское ржание и прочие звуки уходящей армии. Юрий Токмаков без сил опустился на обледеневшую скамью и горько заплакал, уже не в первый раз за эти страшные дни.
– Что с ним, Микула? – недоуменно спрашивал князь. – Почему так страшно стало жить на Руси?
– С ним беда случилась, большая беда, – вздохнул Микула. – Господь православному царю дает много, ох, много! Помнишь его – прежнего? Что ни пожелает – все свершается; за что ни возьмется – во всем удача! Сила, что через тебя в мир изливается, – соблазн большой; враг начинает сладкие слова нашептывать: «Это твоя сила, это ты сам такой могучий!» По себе знаю…
Микула надолго задумался, припоминая давнее, полузабытое. Князь терпеливо, затаив дыхание, ждал продолжения.
– Их двое было, тех, кто берег нашего Иванушку от самого Иванушки, – очнулся Микула. – Царица Анастасия Романовна[69]69
Анастасия Романовна Захарыша-Юрьева (1532–1560) – первая жена Ивана Грозного. Вероятно, единственный человек за всю его жизнь, которого он по-настоящему любил.
[Закрыть] да Макарий-митрополит[70]70
Святитель Макарий (1482–1563) – воспитатель Ивана Грозного в юности и молодости (к сожалению, не в детстве!). Авторитет старого митрополита во всех делах: и в семейных, и в государственных для молодого Ивана Васильевича был непререкаем.
[Закрыть]. Царица умерла, через три года после нее и старенький митрополит преставился, тут Иванушка свою долю-то и забрал.
– Какую долю?
– А помнишь притчу о блудном сыне? Как сын потребовал у отца свою долю наследства, да и промотал с блудницами. Так и царь наш Иванушка подумал, что может сам, без Господа, управлять той силой, которую от Него же и получил. Ведь он – Иванушка – такой могучий, такой умный, такой добрый, такой правильный! Такой, такой, такой… Вот и сказал Иванушка-дурачок Господу: «Отче! Дай мне следующую мне часть имения»[71]71
Лк. 15:11
[Закрыть]…
И стал по своему разумению решать, что грех, а что добродетель. Поначалу-то еще помнил, чему Макарий-митрополит учил, потом все стал по себе мерить.
– Это как?
– Просто. Спрашивает себя Иванушка: «Я хороший?» И сам же себе и отвечает: «Конечно, хороший! Лучше и не бывает! К тому же, я не просто так, а помазанник Божий…» Все! Поставил человек мерочку: что ему не нравится, то и грех, а что нравится, то и добродетель. Как он Филиппу-митрополиту[72]72
Святитель Филипп II (Колычев) (1507–1569) – заступался за невинно осужденных, выступал против опричнины. Был смещен с митрополичьего престола, подвергнут унижениям и сослан в монастырь под стражу. По официальной версии «угорел от неуставного зною келейного» после беседы с опричником Малютой Скуратовым.
[Закрыть], мученику, сказал: «Благослови – и молчи! Только молчи!»; мол: «Руками помаши, отдай, что причитается, а сомневаться в моей безгрешности не смей!» Бедный Иванушка, слепой, слепой… совсем перестал черное от белого отличать. Опричники-то его черные, адово воинство, в Нове-городе младенчиков к спинам матерей привязывали, да в полынье топили… кто выплыть пытался, баграми под лед заталкивали[73]73
Этот невероятный факт подтверждается несколькими независимыми друг от друга источниками.
[Закрыть]. А он смотрел, и сердце его не разорвалось… а помнишь, князь, что в старину называли словом «опричнина»?
– Содержание вдовы, выделенное из наследства…
– Вот-вот. «Отче! Дай мне следующую мне часть имения».
– Значит, блудный сын, – задумчиво сказал воевода. – Но если так, то и покаяние возможно?
– Покаяние, князь, человеку никогда не заказано. Но кто тебе сказал, что блудный сын покаялся?
– Но как же, – растерялся воевода, – в Писании…
– Писание следует с рассуждением и вниманием читать! – назидательно сказал Микула. – Блудный сын валялся со свиньями, у него от голода брюхо к спине прирастало… ты оглянись кругом, князь! Давеча, хлебушек-то царский, прямо перед носом у опричников слопали! Верной смерти не испугались… У нас-то еще ничего: ты хоть Бога боишься – помогаешь словенам, а в Нове-то Городе словене могилы раскапывают, из мертвяков солонину делают. Голод! Да с голодухи люди на все готовы! Блудный сын встал и пошел к Отцу потому, что надеялся едой пузо набить. Так-то! Какое покаяние?
– Но он же сказал: «Я недостоин называться сыном…», – возразил князь.
– Нет! Это уж потом, когда Отец принял его, а поначалу-то он вот как сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих». Различаешь? Не «я согрешил», а «скажу, что я согрешил».
Знает лукавый сын, что и как надо сказать Отцу, как подобрать ключик к Его сердцу; но не знает, глупый, что никакого ключика и подбирать-то не надо.