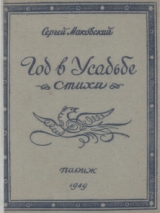
Текст книги "Год в усадьбе"
Автор книги: Сергей Маковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ. ГОД В УСАДЬБЕ. СТИХИ (Париж, 1949)
Посвящаю эту книгу моему сыну Ивану.
С. М.
ОТ АВТОРА
Поэмы, собранные в этой книжке, появлялись, в свое время, в зарубежных журналах и сборниках. Почти все задуманы и написаны «начерно» в Ржевнице (окрестность Праги), тому уж четверть века; большая часть вошла в отпечатанный мною, не для продажи, сборник «Вечер» (1941 г.). С тех пор, просматривая эти стихи, многое в них я решил исправить, изменить, переписать заново. Это побуждает меня издать их, в окончательной редакции, отдельной книгой.
«Рабыней времени ты рождена…»
Рабыней времени ты рождена
и на земле проходишь тенью, —
но, обреченная исчезновенью,
дочь праха, небу ты нужна.
О, вещая! Не умолкай, звучи…
ГОД В УСАДЬБЕ. Сонеты
Посвящаю Марине
ПОСВЯЩЕНИЕ («Я не жил там – жила с тобой мечта…»)
Июнь («Слепительно хорош июньский день…»)
Я не жил там – жила с тобой мечта,
с тобой, моей царевной светлоокой,
на озере, где шепчет над осокой
шершавый лист ольхового куста.
Там – сиротой росла ты одиноко.
Мы встретились… И в песне неспроста
печаль моя как будто заклята
твоей тоской по юности далекой.
Ты рассказать умела, как никто, —
я рифмовал, хоть не всегда умело.
В моем стихе воспоминанье пело,
невольным вымыслом перевито.
И муза с жалостью на нас глядела,
когда подчас нам слышалось: не то…
Июль («Туманно озеро, и тянут утки…»)
Слепительно хорош июньский день,
цветут луга и пахнут медом травы.
Прошелестят на берегу дубравы,
чуть зыблется березок тонких тень.
О, благодать! О, вековая лень!
Овсы да рожь, да нищие канавы.
Вдали-вдали – собор золотоглавый
и белые дымки от деревень.
Не думать, не желать… Лежать бы сонно,
прислушиваясь к шороху дубрав
среди густых, прогретых солнцем трав,
и – тишине и синеве бездонной
всего себя доверчиво отдав —
уйти, не быть… Бессмертно, упоенно!
Август («Спадает зной, хоть и слепят лучи…»)
Туманно озеро, и тянут утки
над порослью болот береговой.
Я вышел в парк тропинкой луговой:
и в парке сенокос, вторые сутки.
Бредут косцы вразброд, Веселье, шутки,
и бедные ложатся под косой,
вечерней окропленные росой,
и колокольчики, и незабудки.
Ромашка, волчий зуб, дрема и сон,
фиалки белые и синий лен…
Мне жаль цветов, загубленных так рано.
Собрав большой пучок, в цветы влюблен,
спешу домой от вражеского стана, —
а небеса горят, горят багряно…
Сентябрь («Спадает зной, хоть и слепят лучи…»)
Спадает зной, хоть и слепят лучи.
Дожата рожь и обнажились нивы.
Гул молотьбы в деревне хлопотливый,
на пажити слетаются грачи.
Люблю тебя, мой август, – горячи
твоих плодов душистые наливы,
люблю берез разросшихся завивы
и звезд падучих россыпи в ночи.
Люблю тебя, радушный, тороватый,
с охотами, с ауканьем, с груздем, —
люблю зайти далеко в бар косматый,
в грозу и бурю мокнуть под дождем
Не налюбуюсь на твои закаты,
повеявшие ранним сентябрем.
Октябрь («Спадает зной, хоть и слепят лучи…»)
Уж первой ржавчины предательские пятна
расплылись золотом и пурпуром в листве.
Клубятся облака в хрустальной синеве,
и тень от них бежит, меняясь непонятно.
Потянет холодком, наутро лед во рве.
Озимые поля чернеют благодатно,
вдоль придорожных меж цветут безароматно
последние цветы в нескошенной траве.
Гвоздика липкая пестрит еще долины
и вереск розовый все медлит отцвести.
В прозрачном воздухе тончайшей паутины
повисли и дрожат чуть видные пути.
С небес прощальный крик несется журавлиный.
О, лето милое, осеннее, прости!
Ноябрь («Пошел снежок, запорошило путь…»)
Осиротел бассейн. Давно ли дружно
в нем отражались купы старых лип,
и блеск играл золотоперых рыб,
и шелестел фонтан струей жемчужной…
Теперь он пуст, теперь его не нужно.
В немых аллеях только ветра всхлип,
синицы писк, дуплистых вязов скрип,
да ты, печаль моя по дали южной!
Примолкла жизнь, далёко племена
болтливых птиц, кроты зарылись в норах.
Лишь воронье: кра-кра! И тишина.
Куда ни глянь – пожухлых листьев ворох…
Безлюдье, грусть, сухой предзимний шорох
и первых заморозков седина.
Декабрь («Сегодня Рождество, сегодня елка…»)
Пошел снежок, запорошило путь.
В санях – беда, а не берут колеса,
того гляди, раскатишься с откоса,
да милостив Господь, уж как-нибудь!
В усадьбе от забот все смотрят косо,
зима не ждет и людям не дохнуть:
капусту рубят, мерзлую чуть-чуть,
валяют шерсть, просеивают просо.
Мелькают дни в трудах по пустякам,
а сумрак стелется туманно-сизый.
Взойдет луна, в серебряные ризы
оденет сад и тронет, по стенам
диванной, завитки тяжелых рам,
рояль в углу, паркеты и карнизы.
Январь («Бело-бело, все снегом замело…»)
Сегодня Рождество, сегодня елка,
сегодня в детской с самого утра
такой содом – шум, беготня, игра,
Чуть сбилась набок нянина наколка.
А под-вечер столпилась детвора
и сказку слушает про сера-волка.
Да перед сном не жди от сказок толка, —
я тороплю ребят: Ну, спать пора!
Не тут-то было. – Сказку, молят слезно, —
еще одну, пожалуйста, одну!
– Нет, дети, спать, – я повторяю грозно.
И в теплую, живую тишину
все погрузилось… Входит няня. – Ну?
Что дети? – Спят. И полночь бьет. Как поздно…
Февраль («Взметает, громоздит, взлохмачивает снег…»)
Бело-бело, все снегом замело,
блестят алмазами поля-пустыни.
Бело-бело, а небо – яхонт синий.
Посмотришь в сад сквозь мерзлое стекло,
и не узнать: там чудо расцвело,
пушистым кружевом заплелся иней…
Уж подан чай. Дрова трещат <в камине.
Кот жмурится. Светло, тепло, жило.
Мальчишки на дворе слепили турка,
пыль от снежков столбом и смех до слез
– Слышь, вы! Не холодно? – Что за вопрос!
А в сказочном бору сигает юрко
косой беляк, и бродит Дед-Мороз,
и о весне задумалась Снегурка.
Март («На мартовском снегу еще скрипучий наст…»)
Взметает, громоздит, взлохмачивает снег,
разбушевалась – ух! – крутит ночная вьюга,
нахмуренной зимы бездомная подруга,
и чудится, метель не отгорюет век.
В угрюмых пустырях, над гладью белых рек
снует голодный волк и, торопя друг друга,
не зная выхода из заклятого круга,
храпит усталый конь и стынет человек.
Как души грешные над братскою могилой,
в пушистом саване взметнутся сосны вдруг…
Скорей бы огонек! Да нет, все уже круг,
бушует ветер злей и буйной хлещет силой.
Кружит сам леший тут… И в зарощи: тук-тук…
Остановился конь. О, Господи, помилуй!
Апрель («Набухли почки верб, и перелески…»)
На мартовском снегу еще скрипучий наст,
а с крыш веселые забрызгали капели
и шапки белые в саду стряхнули ели.
Воркует голубь, смел, нахохлен и грудаст.
Весна! Пасхальный звон в ее волшебном хмеле.
Не рано ль? Но мечтать кто в марте не горазд?
И воздух млеющий живым теплом обдаст,
и слышишь, как поют весенние свирели.
В лугах подтаявших пузырятся ручьи
и тронулись пушком чуть розовым рябины.
Упавшие черны, как угли, хворостины.
Вез устали в кустах стрекочут воробьи.
Крестьяне на гору из синей полыньи
везут прозрачные и голубые льдины.
Май («Я был на кладбище. И там весна…»)
Набухли почки верб, и перелески
в проталинах давным-давно цветут.
Озябших трав подснежный изумруд
и неба синь так вдохновенно-резки!
Теплеет солнце, гуще занавески
отмерзших рощ. И лютик тут как тут,
и над черемухой пчелиный гуд,
и жаворонок вьется в горнем блеске.
День целый птичий гам. Уж возле гнезд
щеглы, чижи, малиновки запели.
Щебечут ласточки, скворец и дрозд трещат…
И соловьи при свете звезд,
неискушенные еще в апреле,
порой и невпопад заводят трели.
Послесловие («Все призрачно в дыму отшедших дней…»)
Я был на кладбище. И там весна:
ирис, жасмин, сирени белой дымы,
и ландышем (цветок ее любимый)
весенняя могила убрана.
Стрекозы легкие носились мимо
и золотом звенела тишина…
Здесь, под крестом берестовым, она
уснула навсегда, непостижимо.
Я помню все. Но ты, забыла ль ты,
не отданная мне ревнивым раем,
любовь мою и слезы и мечты,
отцветшие когда-то вместе с маем?
И мне в ответ могильные цветы:
– Мы любим, оттого что умираем.
Все призрачно в дыму отшедших дней,
но, Боже мой, как безнадежно-явно!
И быль, и сон – давно и так недавно.
Тем сладостнее «вспомнить и больней…
О, как жива моя тоска по ней,
еще вчера и близкой, и державной,
и вот – чужой, безрадостной, бесславной,
покорно тонущей в крови своей.
Россия, Русь! Тебе ли роковая,
предвещанная гибель суждена?
Или стоишь у врат, еще не зная?
Тяжка пред Господом твоя вина, —
слепая, страшная, но все – живая
и все любимая, навек одна.
Ржевница. 1920
СКЕЛЕ
Был пасмурный февраль, всходила чуть трава,
белели в порослях подснежники лесные,
пустынный вечер гас и золотил едва
крутые скаты гор и тучи дождевые.
Местами на камнях весенний таял лед,
и было холодно. Шумел поток в ущелье.
Измаянный тщетой томительных невзгод,
не радуясь весне, я брел на новоселье.
Куда? Не все ль равно! Я шел вперед, вперед,
к мешку дорожному приучивая спину,
туда, где не было южнобережных вод,
через Шайтан-Мердвен в Байдарскую долину.
Без цели, наугад – скорей, куда-нибудь!
Дубы корявые, ободранные буки,
как злые нищие, мне преграждали путь,
шипы кустарников кололи больно руки.
Все выше между скал обрывистых тропа.
Вот – перевал, и вниз кремнистая дорога,
и снова хилый лес и камни и толпа
коряг обугленных, черневших так убого…
И вдруг – о, волшебство! – передо мной простор,
согретый ласковым, лучисто-нежным югом,
и в золоте зари чуть видимый узор
холмов, раскинутых широким полукругом…
Как хорошо… О, нет, нет никогда во сне
простор не грезился чудесней и безбрежней,
и Божья красота не улыбалась мне
спокойнее, добрей, блаженно-безмятежней!
Прохладная изба. Из окон вдовий двор, —
колодезь, клумбы роз, табачные сараи,
соседок за стеной нерусский разговор,
индюшек и гусей рассыпанные стаи…
Все, все отрадно здесь, милей день ото дня:
оладьи на обед и к ужину султанка,
и эта пасека у ветхого плетня,
и хлопотливая красавица гречанка, —
ее рассказ о том, как нынче трудно ей
управиться одной с работой деревенской,
и выводок пяти подростков-дочерей,
смущающих меня задумчивостью женской…
Страдою полон день. С утра и млад и стар
в чаирах боронит и поливает гряды.
Не умолкает скрип нагруженных мажар,
свершаются труды, как тихие обряды.
Не налюбуешься! По заросли брожу —
все тропы исходил. В Узундже и Саватке
друзей моих, татар, я навещать хожу:
люблю наряды их и гордые повадки,
неторопливый пляс на свадебных пирах
и верность древнюю гостеприимства праву,
«селямы» важные и в сакле, на коврах —
степенный разговор и кофий по уставу.
Настанет вечер. Тишь. Кузнечик заскребет,
у завитых плетней – играющие дети.
Угрюмый муэдзин на минарет идет,
и молча старики присели у мечети.
Отчетливо звенят гортанные слова
в вечернем воздухе, протяжные как стоны.
Им вторит иногда, вдали, едва-едва
церковный колокол. И вместе плачут звоны…
Все ниже солнце. Вот в огне его луча
холмов песчаные порозовели склоны
и гаснут. В сумерках, отрывисто мыча,
понурые бредут волы в свои загоны.
И дружною толпой, окончив страдный день
в окрестных табаках, работницы-хохлушки
пройдут по зеленям и, уплывая в тень,
затянут вольные, знакомые частушки.
И Русью вдруг пахнет, и сердце защемит…
Уйти бы вдаль – туда, в раздолья ветровые,
где не избыть ни слез, ни крови, ни обид.
Отечество, прости! Воскреснешь ли, Россия?
Весна давно прошла. Отпели соловьи,
кукушка за рекой и та откуковала,
и вылетели пчел мятежные рои,
веселой зеленью долина заиграла.
Короче солнца путь и жарок летний прах,
повысохли ручьи на дне ущелий сирых,
черешня дикая поспела на горах,
и яблони цвели и отцвели в чаирах.
Как скоро! Поглядишь: румянятся плоды
и пухнет помидор в соседнем огороде,
желтеют пажити, огромные скирды
насупились в полях. Уж лето на исходе!
Но так же все горят и нежат небеса,
и рано-порану туманы гор колдуют,
и по краям ложбин кудрявятся леса,
и в рощах горлицы без умолку воркуют.
Все той же музыки мечтательной полна
краса осенняя твоих угодий, Скеле, —
и утра благовест, и ночи тишина,
и звоны полудня, и вечера свирели…
Скеле у Байдар. 1919.
Нагарэль. Сонеты
Памяти Н.С. Гумилева
I. «Нет, – больше, сударь! Шестьдесят четыре…»
II. «Извольте, расскажу. Хоть забулдыга…»
Нет, – больше, сударь! Шестьдесят четыре.
Уж двадцать два – на Флоре капитан.
А раньше: Грек, Меркурий, Океан…
Да, старость не на радость в Божьем мире.
Удушье, знобь, не голова: чурбан.
Ногами тоже плох, со сна – что гири.
Немудрено. По кругосветной шири
намаешься в ненастье и туман!
Зато и пожил. Sacramente… споро.
Где не бывал, что песен да вина!
А женщины! Послушай, старина…
Но крепче всех запомнилась одна:
плясунья из таверн Сан-Сальвадора,
креолка, Нагарэль, дочь матадора.
III. «Однажды: Юнга, – слышу голос, – в рубку!..»
Извольте, расскажу. Хоть забулдыга,
поверьте на слово: не врал досель.
Что было, сударь, было. Нагарэль…
Оглянешься, и память – словно книга.
Ну-с, в ту пору уж несколько недель,
у Бахии, на палубе Родрига,
испанского сторожевого брига,
я проклинал тропический апрель.
Зной, ливень, штиль. По вечерам из порта —
и музыка, и песни. Как дурак,
ночь напролет стоишь, стоишь у борта,
в уме прикидываешь так и сяк,
и отпуска, бывало, ждешь до черта.
Однажды утром… Чокнемся, земляк!
IV. «Да, началось. На долгую беду…»
Однажды: «Юнга, – слышу голос, – в рубку!»
Бегу. А капитан (старик, добряк
и пьяница, да трезвый – не моряк)
глядит хитро, пожевывает трубку.
«Что ж, твой черёд!» – и показал на шлюпку.
Весь день в порту, из кабака в кабак,
брожу с матросами, курю табак
и вздрагиваю, как завижу юбку.
Тогда же под вечер в таверне «Крот»
и встретились… Ну, подмигнул украдкой.
Пришла, подсела, черным глазом жжет.
Молчит… И вдруг, змея, прильнула сладко
и на тебе! – поцеловала в рот.
Так началось. А кончилось… не гладко.
V. «Влюбился – смерть! Красавица? Нимало…»
Да, началось. На долгую беду.
Не ем, не сплю. Болтаюсь день без толку,
а ночь – скорей на бак: залезу в щелку
и притаюсь, да за борт. Как в бреду.
Плыву, ныряя чайкой, на гряду
отлогих дамб, к рыбачьему посёлку,
и там на отмели мою креолку
между сетей и старых тряпок жду.
Частенько не придет. Плывешь обратно,
и Божий мир не мил. А невдомек,
что сызмала девица-то развратна
и ночь, поди, прогуливает знатно…
Эх, сударь, молодость! Жил паренек,
да наскочи, как рыба, на крючок.
VI. «Наш парусник грузился понемногу…»
Влюбился – смерть! Красавица? Нимало.
Жердинка смуглая, пятнадцать лет.
Но взор, повадка, бровь углом… Да нет,
не рассказать. Ну, бес. А уж плясала!
Сорвется – вихрь, запляшет белый свет.
Плывет, горит. Вот кружится, вот стала
и прыг на стол – и каблучком удало
отстукивает трели кастаньет.
А то раздета, бубен, – ишь сноровка! —
танцует голая. И грех, и стыд,
какой любви мужчинами не сулит:
Вся выгнется и грудью шевелит
и бедрами поводит этак ловко.
Дурная, сударь, истинно чертовка!
VII. «И что ж? Ровненько через год, в Июне…»
Наш парусник грузился понемногу,
когда задул попутный нам зюйд-вест,
и капитан решил: немедля в Брест.
Для храбрости глотнув маленько грогу.
Простились. Да… Она сняла свой крест
и мне надела с клятвой на дорогу.
А я клялся – себе, и ей, и Богу —
вернуться через год из дальних мест.
Разбойничьей послушные примете,
мы снялись в ночь. И вот уж, на рассвете
(с брам-реи вдаль глядел я), смутным сном
казался порт в тумане золотом,
а там – и отмель, и рыбачьи сети,
и словно кто-то машущий платком.
VIII. «Знакомые места! Живым манером…»
И что ж? Ровненько через год, в июне,
до одури любви изведав плен,
я бросил бриг у гибралтарских стен
и к Бахии приплыл-таки – на шхуне.
Да, молодость, – чего не дашь взамен.
Как я был горд и счастлив накануне!
А за год-то в моей морской фортуне
произошло довольно перемен:
и денег прикопил, и стал матросом,
не юнга, чай, – большим, густоволосым
(мне было прозвище «Кудрявый гусь»)
и, кажется, не слишком тонконосым.
Я так мечтал: посватаюсь, женюсь
и фермой где-нибудь обзаведусь.
IX. «Но время лечить все: рубцы от ран…»
Знакомые места! Живым манером —
к отцу, тореро. След простыл. Беда!
Я начал поиски: туда, сюда,
в таверны, к рыбакам, в притон к мегерам.
Один ответ: весной сбежала. Да!
Не то с заезжим русским офицером,
не то с другим каким-то кавалером, —
в Европу, в Азию, невесть куда.
Ах, сударь, тут, уединясь в сторонку,
я понял, что любовь и злость точь-в-точь
одно… Ведь я любил, любил девчонку,
а в мыслях: вот схватить бы, истолочь,
да в море вышвырнуть, как падаль, прочь!
И кулаком грозился я вдогонку.
X. «Матросам, сударь, что? И небогаты…»
Но время лечить все: рубцы от ран,
обиды сердца, медленное горе.
Мою любовь угомонило море,
развеял ветер, усыпил туман.
Не скоро, но забыл, для новых стран
и новых встреч, о днях в Сан-Сальвадоре.
Утешился. Сначала в Балтиморе,
потом в горах Невады у гитан.
Из порта в порт за грузом, без оглядки.
Сегодня Рио, завтра Уругвай.
В Тай-пей чаи, в Гюэ бананы сладки.
На Яве помирал от лихорадки.
Тонул в тайфун, – ну, думаю, прощай!
Бывало тяжело, бывало – рай.
XI. «Прошло лет шесть… Нет, восемь. Из Босфора…»
Матросам, сударь, что? И небогаты,
а веселы в свой час. То здесь, то там,
небось, научишься по кабакам
залежные прогуливать дукаты.
Да, времечко! Жилось. Команда – хваты.
И сколько их, красавиц, льнуло к нам
всех званий и мастей: марсельских дам,
фузанских гейш, гречанок из Галаты…
У нас, у моряков, особый дар:
хоть женщины охочи до обновок,
да любят нас, будь только парень ловок,
без умысла – за молодость и жар,
за якоря и бронзовый загар
и голубой узор татуировок.
XII. «Запомнился мне вечер! Ни актрисы…»
Прошло лет шесть… Нет, восемь. Из Босфора
спешили мы в Кале. Как вдруг – норд-ост.
Волна взбесилась, заливает мост.
Тут я в Лагос укрылся от простора.
На набережной давка. Вдоль забора —
афиши, флаги. Перед будкой – хвост.
Прочел: Театр «Минерва»… Между звезд —
мисс Нагарэль, звезда Сан-Сальвадора…
Что было! Разве скажешь? Не речист…
Заплакал, верите ль? Да к черту! Нервы.
Бросаюсь в кассу. Ряд? – Поближе, первый.
И ровно в семь, за час, приглажен, чист,
разглядывал я занавес «Минервы»
и зал пустой. А сам дрожу, как лист.
XIII. «Стучусь опять, а сердце – хоть умри…»
Запомнился мне вечер! Ни актрисы,
ни действия не видел я грехом.
Всё – сцена, зал – летело кувырком,
душа – котел, а сердце съели крысы…
В антракт, собравшись с духом, за кулисы.
Что? Узнаешь? – Сначала, нет. Потом:
Ах, ты? – спросила, – поминаешь злом?
И выпорхнула кланяться на бисы.
Я все сказал: – Клялась ты, Нагарэль,
твой крест на мне. Куда бы ни бросала
судьба – в грозу, в полярную метель,
в водоворот тропического шквала, —
на всех путях ты, маятная цель,
звездой небес передо мной сияла!
XIV. «Тогда ее увидел… разодетой…»
Стучусь опять, а сердце – хоть умри.
Вон-на! У ней какой-то португалец.
Я замер. Ну, – смеется, – мой скиталец,
коль хочешь, приходи сегодня… в три,
живу я: пять на площади Бари, —
и протянула надушенный палец.
Как пьяный, вышел я, смешной страдалец:
приду ужо, да только отопри!
Лил дождь, и ветер гнул стволы бушуя,
когда в кромешной тьме я подходил
к назначенному дому. У перил
я задержал шаги, беду почуя.
Прислушался: сквозь смех – звук поцелуя —
Ощупал нож и к двери. Отворил.
XV. «Так свой рассказ, – мы были в кабачке…»
Тогда ее увидел… разодетой,
а на столе хрусталь, вино, цветы,
и тут же – наглого в углу тахты
того синьора с длинной сигаретой.
Мне в душу кровь ударила: «Эй ты!» —
я сшиб его и волю дал кастету,
всего измял, расплющил, как галету,
и шлепнул вниз с балкона. В грязь, в кусты.
Затем уж к ней. «Молись!» – Хрипит от страху
проклятая. И вдруг мою наваху
как выдернет, да мне же в щеку: на!
Боль чертова, но ненависть сильна.
Я бросился опять. Кровь… тишина…
Рука не дрогнула. Нож – в сердце с маху.
Так свой рассказ, – мы были в кабачке
обугленного дымом Порт-Саида, —
окончил шкипер, сумрачного вида
гигант с багровым шрамом на щеке.
О, как близка была его обида
мне, грешному! В его седой тоске
печаль о том, что скрылось вдалеке
вмиг ожила… О, память-Немезида!
Я вспоминал: и реял сонм теней,
ко мне взывали призрачные хоры…
И слышал я, в прибое волн, укоры
всех, всех… погибших, может быть страшней,
чем ты, моряк, мне рассказал о ней,
о Нагарэли из Сан-Сальвадора…
Ржевница. 1921
ЛУННЫЙ ВОДОЕМ. Сонеты
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом все смерклось, все дрожит…
«Руслан и Людмила».
I. «Огонь потух, и пусть – оставь заботу!..»
II. «Я вышел в ночь. Полуувядший сад…»
Огонь потух, и пусть – оставь заботу!
Пусть лунная лазурь из-за гардин
угасит лак докучливый картин
и мебели седую позолоту.
Так, день за днем – о, сколько раз, без счету! —
здесь у камина я сидел один, и
догорая наводил камин
на одиночество мое дремоту.
Потух… Часы двенадцать бьют в углу.
Сквозь сон смотрю на мертвую золу,
неумолимому внимаю басу.
Бой, равнодушный бой к добру и злу,
что говоришь полуночному часу?
Умолк… Дверь отворилась на террасу.
Я вышел в ночь. Полуувядший сад
благоухал в осеребренных дымах,
фонтанами аллей неисчислимых
просвечивало кружево аркад.
И проходя вдоль миртовых оград,
я запах узнавал цветов любимых…
Вот и бассейн: на водах недвижимых
уснули, лебеди у балюстрад.
Как в зеркале, садовая руина
и кипарисы отразились в нем,
шиповником заросшая куртина
и статуи богинь. И вея сном,
из пасти у чугунного дельфина
струя бежала в лунный водоем.








