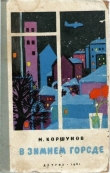Текст книги "Чудесный рожок"
Автор книги: Сергей Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Чудесный рожок

Осенью я охотился по берегам Клязьмы, на Владимирщине.
Пойма уже оголилась, вода в реке стала прозрачной и холодной; студеные росы падали по вечерам.
В один из таких росных вечеров, обойдя всю пойму, мы возвращались в деревню Мишнево на ночлег.
Свежие сумерки выстудили небо, и в нем – чистом, бледном, пустынном – уже теплилась, мерцая, крупная синяя звезда, первая предвестница ночи. В той стороне, где по отдаленному лаю собак угадывалась деревня, заиграл пастуший рожок. Тоскливая, протяжная песня без слов, полная скорби о чем-то несбывшемся или навсегда потерянном, становилась все слышнее и явственней по мере нашего приближения. Это был напев знакомой русской песни о человеке, не нашедшем своей доли.
– Матвей жалуется, – сказал мой спутник, местный колхозник Федор Тряпкин, и продолжительно вздохнул.
– Как жалуется? – не понял я.
– Слепой он, Матвей-то, вот и жалуется на рожке, – пояснил Федор, почему-то ускоряя шаг.
Я прислушался.
Доля, моя доля, где ж ты… —
выпевал рожок, и это действительно было очень похоже на жалобу обездоленного человека.
Мы уже подходили к деревне, когда песня тихо замерла, но через минуту вдруг снова потекла нам навстречу.
– Пойдем ближе, послушаем, – сказал я Федору.
– Ну его! Не слыхал бы, – энергично отмахнулся Федор.
Некоторое время он шагал молча, хмуря пучковатые брови, потом убежденно, строго и серьезно добавил:
– Ты иди, если хочешь, а мне – нельзя. У меня того… пережиток, запой то есть, – понял? И от Матвеевых погудок я враз напьюсь. Так что не неволь, иди сам.
Задами, меж амбаров и сараев, я пошел на звук рожка. Было уже совсем темно, и я едва разглядел за садовым плетнем, обросшим полынью, татарником и чертополохом, Матвея, сидевшего на лавочке спиной к врытому в землю столбу.
Рожок надрывался, плакал, повторяя все ту же жалобу, все тот же вопрос или упрек кому-то:
Доля, моя доля, где ж ты?
Быть может, эта тоскливая песня была в слишком резком контрасте с умиротворением и тихой грустью, навеянными осенней охотой, но только мне показалось, что ее поет убогий духом, озлобленный человек, не сумевший превозмочь свое, пусть огромное, горе, понять доступную всем радость бытия и теперь в эгоистическом порыве мстящий людям, не зная сам за что.
Я отступил от плетня, чтобы уйти, но слепой, вдруг оборвав игру, спросил спокойно и внятно:
– Кто тут?
– Охотник из города, – ответил я.
– Ночлега ищешь, что ли?
– Нет, я у Тряпкина ночую.
– У которого Тряпкина, у Федора?
– Да.
– А тут пошто ходишь?
Я не ответил, он тоже молчал. Было слышно, как, шурша и постукивая о сучья, падали с яблонь сухие листья.
Матвей, одетый в белое, виделся мне бесформенно-мутной тенью. Меня поразил его голос, спокойный, доброжелательный. Ни тоски, звучавшей в песне рожка, ни озлобленности, о которой я только что мельком подумал, не послышалось мне в нем. Молчание прервал Матвей.
– Иди сюда, я тебе веселую сыграю, – сказал он.
– А вы и веселую играете? – спросил я.
Теперь не ответил он. Я перелез через шаткий плетень и сел на лавочку рядом с ним.
– Играете, значит, и веселую? – опять спросил я.
– А это как душа скажет, – усмехнулся он. – Я против души не играю.
– Жалуются люди, что от ваших песен тоскливо им, – сказал я.
– Кто это?
– А вот хотя бы Тряпкин.
И я рассказал ему о том, какое впечатление производит его игра на запойного Федора Тряпкина. Я думал, это заставит его задуматься, может быть, даже обидит, но он только тихо засмеялся, говоря:
– Вольно ему напиваться, а только я не нанятый его веселить. Федькиным словам, если хочешь знать, грош цена. В колхозе хлеб еще не весь обмолочен, а он, чай, с тобой на охоту шляется.
Эта мерка в оценке человека была неожиданной для меня. «Что это – наносное, чужое, случайное, как слово „пережиток“ в речи Федора, или продуманное, искреннее и свое?» – подумал я, а он в это время неторопливо продолжал:
– Душа, говорю. Против нее не сыграешь. Нет такого человека, чтобы всю жизнь веселый, а уж я и подавно. Сидишь, сидишь в темке, да и обнимет тоска. Кабы не видать мне свету, может быть, легче жилось. А то помню ведь! У меня это тоже вроде запоя. Налетит вот эдак на душу, она и стонет, жалуется. Говорят: береги пуще глаза, оно и верно. Хуже нет слепоты!
– А отчего слепота? – поинтересовался я.
– Трахома, – коротко ответил он.
Я нарочно стал раскуривать папиросу, чтобы лучше разглядеть Матвея. Оранжевый свет спички, отражаясь в неподвижных, стеклянных глазах слепого, ненадолго выхватил из темноты его лицо, в крупных чертах которого залегли глубокие тени, но я все же успел рассмотреть его. Это было корявое от старости лицо, вырубленное грубо и небрежно, как заготовка, с выражением настороженности и какого-то напряженного выжидания.
– Вот ты пришел, – продолжал Матвей, – вижу, человек интересуется, мне как-то сразу полегчало. Душа отогрелась. Теперь и веселую сыграю.
Он поднял с колен рожок. Я со страхом ждал, что в веселой песне у него прорвется тот же мотив тоскливой жалобы, но – нет! Он играл долго, упоенно, словно рассказывая близкую сердцу, удалую разбойную быль, и не было в ней ни слова печали и уныния…
– Всяко, всяко играли, – сказал Матвей, кончив песню.
– Нами свету-то повидано – ох, много… Тех уже и нет давно, я один остался…
Слова его перешли в невнятное бормотанье; он опустил голову и, казалось, опять погрузился в свою печаль, забыв обо мне, но через минуту очнулся:
– На рожки у нас шло дерево разное – и береза, и липа, а покойный Кондратьев, Николай Василич, умел работать их из можжевела… Дерево это прочное, тугое – звук в нем не вязнет, исходит чистым, неизмятым… Сам-то Николай Василич ох как ловко играл. Другой покраснеет, надуется, а этот свободно, легко выводит, точно своим голосом поет. Да и голос у него редкостный… Теперь везде – гармонь, а раньше-то на свадьбах, и на гулянках, и на похоронах – все мы… Да. Умелыми-то рожечниками одна деревня перед другой хвасталась. Не всякий тебе сыграет. Тут, кроме умения, полагается силу в груди иметь, а на губе нужно мужур набить, мозоль эдакую, а то губа к рожку прикипает – с кровью рвешь… Про старину-то вы разве знаете!.. Под носом у вас взошло, а в голове-то и не посеяно… Вот я расскажу тебе, расскажу…
Я долго еще слышал это невнятное бормотанье, но постепенно речь его прояснилась, и он заговорил словами вескими, запоминающимися, точно брал каждое из них в щепоть и споро вкладывал его слушателю в ухо.
Чувствуя себя бессильным передать живой колорит этой речи, через которую впервые столь осязательно удалось мне прикоснуться к прошлому, я расскажу о нем так, как оно представлялось мне в рассказе Матвея.
В прежние времена по берегам Клязьмы шумели вековые дубовые рощи, сосновые боры. Но крестьяне и пришлые барышники валили лес без разбору, оттеснили его от деревень, и легла тут пашня, в клочья изодранная чересполосицей, истощенная и высосанная трехполкой.
От тех далеких времен осталось лишь несколько корявых сосен, которые не шумели под ветром, а как-то особенно звенели, словно между ними были натянуты невидимые струны.
Были эти сосны еще молодой порослью, когда вернулся в Мишнево мужик Фоня Тряпкин по прозвищу Бездомный. По слухам, обошел он всю Россию, батрачил «в хохлах», ватажил на Оке, на Волге, добывал соль на Каспии и денег привез – невпроворот.
Щедростью своей крепя в мужиках веру в эти слухи, обильно поил их Фоня водкой.
– На хозяйство будешь вставать? – спрашивали мужики, искательно заглядывая ему в глаза.
– Непременно, – отвечал Фоня.
Смотрел на Фонино лицо, овеянное иноземными ветрами, припаленное южным солнцем, молодожен Матвей Козлов, и в хмельном тумане сказкой вставал перед ним счастливый, сытый край, легкая – не в тягость, а в удовольствие – работа.
Жена его Мария пошла за него против воли родителей, приданого за ней не дали и даже отказали молодоженам от стола и крова. Отец Матвея, конокрад и пьяница, взял их к себе, но у него, кроме дырявой избы да ловких на воровство рук, ничего не было. Матвей сначала рядился у лесных барышников вытаскивать из реки мореный дуб и пилить его, а потом мир нанял его пастухом.
Он взял кнут и рожок и пошел в луга.
В те времена по воскресеньям бывали в Суздале большие базары. Оставив стадо на подпаска, Матвей любил толкаться там среди разного люда, приценялся к товарам, но уходил налегке, как и приходил.
Однажды на выходе из города догнал он односельчанина Николая Васильевича Кондратьева. Пошли вместе. На западе догорала спокойная, бледно-розовая заря, в болотистом кочкарнике мирно трещали лягушки, и вечер поздней весны был тепел, ласков и нежен.
– Вольно, хорошо, – сказал Матвей, вдыхая запах пробудившейся земли. – Ты как думаешь, Николай Василич, насчет Фониных слов? Запали мне его побасенки в душу, дразнят. Хочется и мне удачи кусок.
– Фонина удача легкая, а может, и нечистая, – ответил Кондратьев, меряя дорогу спорыми, неторопливыми шагами.
– Жизнь тяжеленька, – вздохнул Матвей. – Баба вот не несет от скудости харча. Приработок надо искать.
– Одному трудно, – сказал Кондратьев.
– Оно так.
– Артелью надо действовать. Я вот по ярмаркам, по базарам, по кабакам пошатался, вижу – люди музыку хорошо слушают. Заведут там в кабаке машину или какой-нибудь искусник из пропойных артистов на скрипке потянет, сейчас народ на песню, как пчела на мед, собирается. И плачут, и смеются, и ругаются… Стало быть, глубоко задеты. Отсюда догадка у меня появилась: собрать из рожечников хор и играть в людных местах. Давать будут, особенно купец. Он на грустную песню падкий.
– Сомнительное дело, – подумав, сказал Матвей.
– Как хочешь, я не неволю, – ответил Кондратьев.
Долго шли молча. На фоне темного, островерхого леса ярко-оранжевой точкой мелькнул костер. Тихая, переливчатая песня рожка донеслась оттуда, и Матвей заметил, как по красивому, опушенному мягкой подстриженной бородкой лицу Кондратьева прошла улыбка.
Эх, да и пойду я в степи… —
печально выговорил рожок, и вдруг Кондратьев подхватил сильным тенором:
Поищу там доли-и…
Рожок смолк, но через мгновение ответил тоскливой просьбой:
Матушка пустынная, приюти сиротку…
– Ну вот и спелись, – сказал Кондратьев, подходя к костру. – Здорово живете.
У костра сидел мужик с рожком в руках, другой – лежал на спине, закинув за голову руки, и смотрел в небо.
– Здравствуйте, прохожие люди, – ответил рожечник на приветствие Кондратьева.
– Чьи будете?
– Коверинские. Лошадей вот пасем, а вы?
– Мишневские.
– Не Кондратьев ли?
– Он.
– То-то мы слышим, будто он.
– Много у вас в Коверине, кто умеет играть? – спросил Кондратьев, присаживаясь у огня.
– Почитай, каждый мальчишка дует, да только зря все это…
– С голодного брюха больно-то не заиграешь, – вставил мужик, лежавший на спине.
– Приятель у тебя, знать, сытый, – усмехнулся ему в ответ Кондратьев, – Хорошо играл.
Рожечник встрепенулся и оживленно заговорил:
– Это мне очень приятно от тебя слышать, Николай Васильевич, потому слава о тебе идет по деревням большая. Говорят, великий ты искусник на рожке… А сытость наша известна.
– По ярмаркам с рожком надо идти, – убежденно сказал Кондратьев.
– А землю пахать кто будет? – спросил мужик, все так же пристально глядя в небо.
– Окупится.
– Ой ли?
– Я бы пошел, – вмешался в разговор рожечник, – да один как пойдешь? Боязно.
– Зачем один? Хор собьем. Ты приходи в Мишнево, зови еще мужиков, которые играют. Из Суслова придут, из Горок, из Машкова… Сыгровку устроим и пойдем с богом.
– У нас это дело обдумано, – сказал Матвей, вдруг поверивший в затею Кондратьева. – Вы не сомневайтесь…
Так было положено начало первому хору владимирских рожечников. Долго они скитались по российским дорогам, по которым в те времена проходило много разного люда – кто в поисках куска хлеба, кто – истины, кто – приключений. Но на самом деле все искали одно и то же – простое человеческое счастье.
Однажды в избе Кондратьева появился человек громадного роста и необъятной толщины, назвавший себя по имени Антоном Картавовым, а по роду занятий антрепренером. С ним приехала жена Мотя – красивая брюнетка, маленькая и стройная, как девушка. Все дела вершила она; Картавов только отдувался и громко хохотал над своими же шутками.
Эта чета пригласила рожечников на гастроли в Москву, в Петербург и другие города России, суля хорошие барыши.
Рожечники подумали и согласились.
Летом 1883 года они выступали в ресторанах и летних садах Петербурга.
Под жилье им отвели большой дощатый балаган в глубине парка, где их неожиданно посетил молодой офицер, окруженный сиянием блестящих пуговиц, эполет и аксельбантов. Он объявил рожечникам желание государя императора Александра III послушать их игру.
Рожечников везла в Петергоф карета, обитая внутри красным бархатом, и это было очень похоже на какое-то волшебное превращение. Рожечники торжественно молчали, гордо переглядываясь.
Император Александр слушал их на свежем воздухе, под липами Петергофского парка со всей своей семьей.
Матвей от робости и напряженного старания не сбиться видел лишь белую пену кружев на платьях великих княжон да мужичью, лопатой, бороду императора.
Играли недолго.
– Кто же у вас le chef d’orchestre? – весело сверкая глазами и подходя к рожечникам, спросил император Александр. – Ты, Кондратьев?
Кондратьев выступил вперед и молча поклонился. Император, взяв у него из рук рожок, отошел к княжнам. Те тоже улыбались, постукивая ногтями по отполированному рожку. Потом император поднес рожок к губам и неуверенно подул. Получился громкий шип. Княжны дружно засмеялись.
– А где же тут пищик? – удивленно спросил император, и глаза его опять засверкали.
Царь был веселый. Рожечники натянуто улыбнулись.
– Пищика в этом инструменте не полагается, – объяснил Кондратьев.
– Вот как? – сказал император.
Потом он похвалил их и отпустил.
Обратно тоже ехали в карете. У себя в балагане трепетно открыли конверт, который им сунул все тот же блестящий офицер, шепнув заговорщицки: «От государя».
В конверте оказалось 150 рублей ассигнациями.
– Иной купец в ресторации больше отвалит, – усмехнувшись, сказал Кондратьев.
В следующем году Картавов решил везти рожечников за границу. Нашел переводчика, вертлявого, маленького и черного, как жучок, человека, который бойко болтал на французском, немецком, английском и еврейском языках.
В Париже переводчик водворил рожечников в лучшую гостиницу и пропал вместе с Картавовым на несколько дней.
Картавов вернулся злой, мрачный, осунувшийся. Тщательно оглядев себя в зеркало, он неопределенно хмыкнул и залег спать, а проснувшись, долго сидел, обхватив руками болевшую с похмелья голову, и причитал:
– Обобрал меня, сукин сын! Все дотла я спустил, братцы! Господи, Матреша-то теперь что скажет…
Он послал жене телеграмму, прося выслать денег, и, пока ждал их, все горевал и бранил переводчика. Но когда деньги прибыли в Париж, Картавов опять пропил их и тайно от рожечников уехал в Россию.
На улицах парижане преследовали докучливым вниманием россиян, обутых в лапти, одетых в желтые озямы и высокие поярковые шляпы с пряжкой. Столичные французские газеты печатали групповые портреты рожечников в «национальных костюмах».
Между тем Кондратьев настойчиво искал возможности дать несколько концертов, чтобы расплатиться за гостиницу и уехать в Россию. Наконец это удалось ему с помощью какого-то русского графа, приехавшего в Париж. Рожечники собрались уезжать.
Неожиданно к ним зашел чернявый переводчик.
Он набивался в антрепренеры, звал в Лондон, но россиян неодолимо тянуло на родину.
– Нет, – сказал Кондратьев, – будем уж домой пробираться. У меня от заграничной жизни двое с ума сошли.
Это было правдой. Два рожечника вдруг захандрили. Они молчали, уставившись пустыми глазами в стену, вздыхали, отворачиваясь, когда с ними заговаривали, или отвечали вяло, невпопад.
Матвей вспомнил, что он где-то слышал о болезни под названием «черная малахолия», которая бывает у людей от тоски по родине, сказал об этом Кондратьеву, и тот заторопился ехать.
В России, возле самого вагона их встретила чета Картавовых. Антон Картавов, под пристальным взглядом жены, кланялся рожечникам, смущенно бормоча о том, что повинную голову меч не сечет, и снова приглашал их на гастроли.
Хищные зеленоватые глаза Матреши сверкали плутовской улыбкой…
В 1896 году рожечники выступали на знаменитой Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.
Усталые, отупевшие от духоты, пыли и многолюдия, они сидели в тени эстрады, когда к ним подошел высокий тощий парень, которого очень старили усы и длинные волосы.
«Поп-расстрига», – сразу определил Матвей и отвернулся.
– Давно вы этим делом занимаетесь? – спросил парень окающим басом.
Интересующихся было много. Обычно с ними говорил Кондратьев, но сейчас он куда-то отлучился, поэтому все молчали, ожидая, когда заговорит старший по возрасту – Силан Вавилов из Машкова. Силан нехотя рассказывал, что играют давно, упомянул про покойного государя, про Париж и как-то ненароком свел на деревню, на землю.
– Стало быть, игра-то от нужды? – спросил парень и повел понятный и близкий рожечникам разговор о крестьянской нужде.
– Повидано ее, – согласно вздыхали рожечники. – Мы сорок шесть губерний объехали, всего нагляделись. Что и баять!
Потом без просьбы решили сыграть парню «Долю», влезли на эстраду и взялись за рожки. А он один стоял внизу и слушал эту песню-жалобу, унылую и грустную.
Вернувшийся в это время Кондратьев подозрительно оглядел парня, спросил:
– Кто будете?
– Пешков, – сказал парень. – Мастеровой малярного цеха.
Вскоре Матвей отстал от рожечников. У него начали болеть глаза, слипались воспаленные, распухшие веки, красноватая мгла дрожала, переливалась перед глазами. С каждым днем она становилась все непроницаемей, мутней.
Земский врач Лутошкин осмотрел Матвеевы глаза, вздохнул и сказал:
– Большой ты, дядя, а глупый. Сгубил глаза-то.
– Чего же теперь? – спросил Матвей.
– Чего же! – передразнил Лутошки. – Лечить будем. А уж если не вылечим – не обессудь. Надо было раньше приходить.
Недели две он держал Матвея в больнице, потом, сняв с его глаз повязку, сказал:
– Ну вот, дядя, веки у тебя подсохли. Чешутся?
– Чешутся.
– Хорошо. Ну, а видеть не будешь. Я не колдун, ничего поделать больше не могу. Мертвые не воскресают. Гуляй-ка домой. Митька тебя проводит.
Митька – ленивый и грубый парень, служивший при больнице, довез Матвея до ближайшей к Мишневу станции, вывел на дорогу и, отбежав на безопасное расстояние, крикнул:
– Ступай прямо. Она доведет, дорога-то!
Матвей, вытягивая перед собой руки, высоко поднимая колени и шлепая по дороге всей ступней, двинулся к деревне.
По холодку, по особенной тишине, нарушаемой лишь невнятными шорохами леса, он чувствовал, что наступает ночь. И хотя в его положении это было совершенно безразлично, он испугался, представив, как плотная темень августовской ночи обступает его со всех сторон.
Руки внезапно встретили шершавый ствол сосны. Где-то в лесной чаще ухнул и захохотал филин.
– Господи, господи, – сказал Матвей, подняв лицо к небу.
Обняв ствол сосны, он съехал по нему на землю, ткнулся в холодный, росистый мох и заплакал.
Утром его нашли и проводили в Мишнево соседние истоминские мужики.
С той ночи Матвей впал в какое-то оцепенение.
Он жил теперь в избе умершего тестя; поутру уходил на зады, к сараям, садился там на солнцепеке, млел от жары и думал. К вечеру, когда отчетливее и острей становились все запахи, его охватывало беспокойство. Он брал рожок и начинал играть – уныло, тягуче.
Мария подходила к нему и в сердцах кричала:
– Да будет тебе! Вон аж Шельма воет от твоих погудок.
И, действительно, старая облезлая собака Шельма, заслышав унылую песню рожка, начинала тихонько скулить и жалась в сенях к двери, просясь в избу.
Когда стало холодно, Матвей перестал ходить на зады, и никто уже не слышал его рожка.
Весной вдруг рожок ожил и неожиданно запел веселую, озорную песню.
Случилось это так.
В мае Мария родила сына. Ослабевшая после трудных родов, она сидела в тени кустов бузины и держала ребенка у груди, покачиваясь из стороны в сторону и напевая вполголоса бессмысленную колыбельную песню.
Пришел состарившийся Фоня, сильно разбогатевший за последнее время. Он принес во спасение своей души подарки новорожденному и спросил, как звать ребенка.
– Ильей, – ответила Мария.
– Гм, – сказал Фоня, – пророческое имя.
Из негнущихся узловатых пальцев он состроил «рога», боднул ком пеленок и задумчиво произнес:
– Нонче день постный, а ты, мерзавец, молоко лопаешь… Не резон.
Ребенок громко заплакал. В это время на крыльцо вышел Матвей с рожком за поясом.
– Плачет? – спросил он, подходя к жене. Вынул рожок, нагнулся к ребенку и, смешно приплясывая, заиграл веселую песенку…
Занимался неяркий осенний рассвет, когда я уходил от Матвея. Все та же крупная синяя звезда, тускнея, мерцала в небе, и, глядя на нее, я думал о том, что стал неизмеримо богаче, чем был вчера, когда она возвещала о приближении ночи. Может быть, встреча с Матвеем прибавила несколько живых, сообщающих аромат достоверности, подробностей к моим энциклопедическим сведениям о кондратьевском хоре владимирских рожечников; или дала материал для рассказа, которые в ту пору я пытался писать; а может быть, заставила испытать чувство гордости за свой неиссякаемо талантливый народ? Бесспорно, все это так и было. Но позднее я понял, что она обогатила меня чем-то еще…
В моей городской жизни бывают периоды, когда неодолимо, властно, до тоски меня начинает тянуть к реке, к запаху луга, к дыму костра, к случайным встречам с такими же охотниками – бескорыстными и немногословными любителями природы, – с колхозными пастухами, бакенщиками, лесниками… С тех пор как я узнал Матвея, эта тяга усложнилась потребностью пожить иногда у старика день-два и вдохнуть тот «русский дух», который исходил от его рассказов, от песен его рожка, от всего его облика, какой, должно быть, принимали былинные богатыри в дни своей старости. Всегда он был за работой – в страдную пору даже косил, а зимой кустарничал – строгал ложки, гнул дуги, плел корзины, мастерил ульи. Чистоплотный, трудолюбивый и непоколебимо спокойный, он заставлял простить ему редкие приступы болезненной тоски, когда стонал и жаловался неразлучный с ним рожок, а он заводил излюбленный разговор страждущего русского человека о «душе».
У него была внучка, названная в память умершей бабушки Марией – худенькая белокурая девочка с печальными и добрыми глазами.
Матвей часто брал ее сильными руками, сажал на свое широкое плечо и нес куда-нибудь, заставляя рассказывать о том, что она видит. Девочка пугалась, но старик гладил шершавой ладонью ее босые ножки, ласково уговаривая:
– Не робей, тихоня, не робей.
Она рассказывала ему о плотниках, кладущих сруб фермы; о бабах, везущих с поля снопы на ток; о стадах, идущих с лугов, а он согласно кивал головой, и лицо его в этот момент теряло обычное выражение настороженности и ожидания.
Однажды я видел Матвея на полевой дороге, идущего с Марией навстречу ветру, огромного, седого, с высоко поднятой головой. Он был одет в длинную белую рубаху, перехваченную в поясе витым шнурком, и под ветром она облепила его грудь, ходуном ходившую от глубоких вздохов. Не шевелясь, затаив дыхание, я стоял у обочины дороги и, глядя вслед ему, думал о том, какую могучую жажду жизни и участия в ней сохранил этот старик. И еще мне вспомнились его слова, прозвучавшие теперь, как заповедь:
– Я против души не играю.




![Книга Хорошо рожок играет... [Журнальный вариант] автора Алексей Мусатов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-horosho-rozhok-igraet.-zhurnalnyy-variant-273930.jpg)