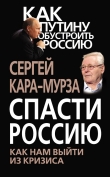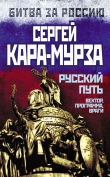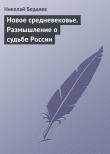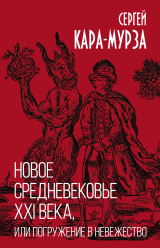
Текст книги "Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество"
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
В основе политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости…
Бывшая РСФСР образует республику Россия и ряд других республик. Россия разделена на четыре экономических района: Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Каждый экономический район имеет полную экономическую самостоятельность…»
C 60-х годов, в условиях спокойной и все более зажиточной жизни, в умах заметной части горожан начался отход от жесткой идеи коммунизма в сторону социал-демократии. Это явно наблюдалось в среде интеллигенции и управленцев, понемногу захватывая и квалифицированных рабочих. Для перерождения были объективные причины. Главные из них – глубокая модернизация России, переход к городскому образу жизни и быта, к новым способам общения, европейское образование, раскрытие Западу. Общинная, Советская Россия могла бы это пережить, переболеть. Не вышло – ее попытались убить, но только искалечили.
Идеологическая машина КПСС не позволила людям увидеть этот сдвиг и поразмыслить, к чему он ведет.
Вот актуальная проблема!
Личный сюжет: синтезы и распады Евразии
В одной книге сказано: «Гражданская война в Туркестане была очень тяжелой. Туркестан был отрезан от всего мира и никаких директив от РСФСР получить не мог… Недалеко – граница. Персия, Афганистан. Там орудовала Англия, которая помогала всякому борьбе с нами… На протяжении 1917–1918–1919 годов в Туркестане произошел ряд белогвардейских восстаний» (книга «Война в песках»).
На помощь! (фрагмент)
В ночь на 5 марта 1918 года пришла телеграмма от тов. Колесова. Телеграмма была немногословна и убедительна. Он извещал, что отряды Красной гвардии окружены войсками эмира, и просил немедленной помощи. Содержание телеграммы в ту же ночь стало известно; рабочие железнодорожных мастерских, бросив работу, оживленно обсуждали на митингах тревожную весть и выносили решения немедленно идти на выручку.
Меня пригласили в Белый дом на экстренное заседание Совнаркома…
Председательствующий сказал мне:
– Мы только что обсудили телеграмму и вынесли решение. Вы, товарищ Домогацкий, назначаетесь командующим Бухарским фронтом, а на вас, товарищ Гудович, Совнарком возлагает обязанности начальника штаба фронта…
Гонцы и курьеры полетели по городу, созывая командиров красногвардейских отрядов. Через час новый штаб уже был в сборе и разрабатывал план действий.
Мобилизованы были: 1-й Ташкентский отряд, саперный отряд и артиллерия. Однако самый тщательный подсчет отрядов давал цифру не более двух тысяч бойцов. Выступать против многотысячной армии эмира было рискованно. Было решено немедленно приступить к формированию новых частей. Наполнивший просторы Белого дома шум голосов и топот ног нарушили нашу работу.
Рабочие, еще не зная о решении Совнаркома, на многотысячных митингах требовали немедленного выступления в помощь тов. Колесову, направляя своих представителей в Совнарком.
Рабочие деятельно помогали штабу, выделяя из своих рядов командиров, сами формируя отряды. К 5 часам вечера в нашем распоряжении была солидная сила.
Солнце еще не взошло, когда отряды под торжественные звуки «Интернационала», напутствуемые пожеланиями тысяч провожающих, отправились на фронт.
В Катта-Кургане мы сделали первую остановку. Дальше начиналась территория Бухары. Конная разведка, высланная вперед, сообщила, что весь путь до Зера-Булака, крупного пункта Бухары, разрушен.
Железнодорожные постройки, станции, будки – все было сожжено и изуродовано. Спиленные телеграфные столбы повисли на проводах. Кучи обугленных шпал. Изуродованные трупы рабочих и служащих железной дороги, иссеченные ножами и шашками, валялись вдоль пути.
Вырезанные языки, обрезанные уши и носы, выколотые глаза. На телеграфных столбах раскачивались тела замученных людей. Тучи птиц вились над ними, лениво отлетая при нашем приближении…
– Палачи проклятые! – вырывалось у красногвардейцев.
Медленно восстанавливая путь, двигались мы вперед.
Под Зера-Булаком наша разведка налетела на конницу белобухарцев. Встреча была неожиданная для обеих сторон, и только этой неожиданностью очевидно можно было объяснить, что маленькой кучке кавалеристов удалось обратить в бегство втрое сильнейший отряд белобухарцев.
После этой схватки противник уже не оставлял нас в покое. На горизонте то и дело появлялись конные отряды. Пользуясь малейшей задержкой наших эшелонов, бухарская конница стремительно налетала на красногвардейцев, занятых починкой пути, и так же стремительно скрывалась в степи, когда мы открывали по ним огонь из пулеметов. С каждым часом силы белобухарцев увеличивались. Увеличивались и зверства, творимые ими над мирным населением, подозреваемым в симпатиях к нам.
Особенно тяжело доставалось евреям. Кулачество и духовенство, всеми силами разжигая фанатизм бухарцев, натравливали население на евреев, выставляя их нашими сообщниками. В Зиатдине толпа этих несчастных, вынужденных покинуть насиженные места, окружила штабной вагон, со слезами прося у нас помощи и защиты. Истерзанные матери протягивали нам детей, лишившихся отцов; девушки с рыданиями рассказывали о насилиях, творимых над ними бандитами.
– У меня на глазах зарезали моего брата, пытавшегося вступиться за меня… меня изуродовали…
– Мой отец, мой бедный отец! Как он кричал, когда солдаты издевались надо мной… а потом его живым бросили в огонь… как он мучился! Ой!.. Ой!.. Ой!..
Молодая еврейка с безумными глазами прижимала к груди сверток, из которого высунулись уже окостеневшие ручки ребенка.
Красногвардейцы мрачно наблюдали это горе и отчаяние.
Пока бойцы размещали по вагонам беженцев, саперный отряд ушел вперед починять разрушенную дорогу. К станции подтянулись все наши эшелоны, двигавшаяся в хвосте артиллерия и отряд самаркандских рабочих, выступивший вслед за нами.
Внезапно вдали послышались тревожные гудки паровоза. Донеслась перестрелка. Очевидно, с саперным отрядом что-то случилось. Вскоре выстрелы умолкли. Непрерывные гудки указывали, что опасность велика.
Бойцы схватили винтовки.
Минут через десять на станцию быстро вошел нагруженный шпалами и рельсами поезд…
Отряд белобухарцев в несколько тысяч человек наступал на станцию. Двумя колоннами мы двинулись навстречу неприятелю. Бой длился до вечера.
Прекрасно вооруженные английскими винтовками эмирские войска дрались упорно, несколько раз пытаясь перейти в атаку. Их упорство столкнулось с ожесточенным сопротивлением красногвардейцев.
Несколько раз бухарская конница пыталась обойти нас с флангов, но каждый раз вынуждена была отступать под ударами кавалерийского отряда тов. Зелендинова.
К вечеру следующего дня мы добрались до станции Кермине. Местные жители, встретившие нас, сообщили, что в крепости, охранявшей город Кермине, в пяти километрах от станции сосредоточено большое количество эмирских войск. Туда же отступили вчерашние отряды противника.
Пятеро красногвардейцев, владевших узбекским языком, переодевшись в халаты, под покровом ночи пустились в разведку. Вернувшись, они рассказали:
– В крепости родной дядя эмира бек керминский. В его распоряжении больше пяти тысяч войск. Бек собирается на рассвете напасть на нас, чтобы сонными захватить и всех перерезать.
Быстро составили план действий. Командиры будили уснувших бойцов и строили походные колонны. Молча, бесшумно двинулись отряды к крепости, спеша до рассвета окружить ее и не дать белобухарцам инициативу в руки. Изредка звякнет штык о штык, выругается вполголоса споткнувшийся боец…
Все ближе и ближе наступают красные бойцы. Уже ясно видны халаты бухарских сарбазов и белые чалмы мулл, воодушевлявших солдат. Кое-где начинается рукопашная схватка. Не выдержали солдаты бека. Сначала по одному, а затем целыми группами они поспешно скрывались за глиняными дувалами городских построек и по темным кривым уличкам города отступали к крутому берегу Зеравшана. Крепость была в наших руках.
Оставив в крепости гарнизон, мы повернули обратно, спеша на станцию к оставленным эшелонам…
В окна вагона вползал рассвет. Склонившись над картой, мы изучали обстановку. Тревожный гомон. Шум голосов за окнами вагона оторвал нас от карты. По коридору громыхали быстрые шаги. Адъютант, влетев в купе, взволнованно доложил:
– Дозоры задержали кого-то. Говорят, из крепости.
Не дожидаясь, мы бежим из вагона навстречу приближающейся толпе. Дехканин-узбек в рваном халате, беспрерывно кланяясь, ломаным русским языком пытается что-то сказать.
– Эмир… сарбаза… много, много сарбаз, русский офицер. … красный аскер секим…
– Да говори ты по-своему!
Узбек, обрадованно мотнув головой, быстро говорит на родном языке… Для большей ясности он проводит рукой по горлу. Этот жест лучше всяких слов объясняет все собравшимся красногвардейцам.
Красногвардейцы выскакивают из вагонов, строятся в походные колонны. Артиллерия уже начала обстрел укреплений. Метким выстрелом удалось пробить вышку минарета мечети, лишив неприятеля возможности наблюдать за нашим продвижением.
Бой был жестокий.
К полудню нашей батарее удалось сбить два орудия противника. Посланная в обход белобухарцам наша конница, прорвавшись в их тыл, подожгла мост через Зеравшан, отрезав врагу путь к отступлению.
Только небольшая часть противника успела перейти на другую сторону: мост, не выдержав тяжести, обрушился в мутные воды Зеравшана. Кладбище было в наших руках. Через некоторое время крепость сдалась.
Большой дворец, разукрашенный майоликом, с красивыми открытыми террасами, резко выделялся среди окружавших его серо-желтых домов простых смертных. Широкая мраморная лестница вела на террасу, где в окружении своих приближенных стоял бек. Каменными изваяниями стояли сановники бека. Сквозь шпалеры разодетой в блестящие парчевые и шитые золотом бархатные халаты бекской челяди наш штаб прошел к лестнице и поднялся на верхнюю площадку.
– Я и мои войска и население, – сказал нам бек, – сдаемся на милость победителям. Мы знаем, что советская власть очень милостива к народу…
При этих словах в рядах красногвардейцев началось движение, и чей-то голос негромко, но четко сказал:
– Советская-то власть милостива, а вы что сделали с нашими товарищами?
Каменные изваяния на ступеньках лестницы чуть дрогнули, и бек, на мгновение замявшись, продолжал уже менее торжественным тоном:
– Я имею к вам две просьбы… Здесь во дворце собраны женщины и дети. Оградите их от насилий.
Чувствуется, что безопасность его жен в настоящий момент его больше всего волнует. Высказав свое главное желание, он уже спокойнее заканчивает:
– Всем моим приближенным, советникам и войскам прошу даровать жизнь. С этого момента мы перестаем быть вашими врагами.
Пленников заперли в одну из комнат. Выделили отряд коммунистов для охраны женщин, находившихся в одной из комнат дворца. Они испуганно шарахнулись в угол при нашем появлении. Велико было их изумление, когда они поняли, что страшные «красные аскеры» совсем не собираются причинить им вред.
В одной из комнат дворца обнаружили шесть русских казаков во главе с подъесаулом, которые при нашем приближении, побросав оружие, подняли руки. На женской половине дворца, на постели одной из жен бека, лежал еще не остывший труп русского подполковника Ванновского, сына известного генерала, бывшего военного министра. Он застрелился.
Я стоял на террасе. Внезапно кто-то тихо дотронулся до моей руки, я увидел старика-узбека, очевидно одного из слуг бека. Старик, оглядываясь по сторонам, знаками просил следовать за собой.
Я пошел. Какими-то полутемными переходами мы спустились в погреб. Отгороженные толстой железной решеткой, лежали люди, вернее, призраки людей… Слабый свет, пробивавшийся сквозь маленькое отверстие, не позволял различить их лиц.
При нашем появлении пленники зашевелились и, видимо приняв нас за кого-то, боязливо отползли в дальний угол ямы.
– Это ваш сарбаз. Скажи, чтобы сломали замок, – сказал мой проводник.
Я позвал красногвардейцев. Пленников было 22 человека. Все они – красногвардейцы, захваченные в плен при отступлении отрядов тов. Колесова из-под Старой Бухары. Окольными путями их доставили в керминскую крепость. Несмотря на то что многие из них были ранены, никакой помощи им оказано не было. В течение двух недель им не давали даже хлеба. Ежедневно в подземелье спускались и мучили несчастных. Среди мучителей-палачей выделялся подполковник Ванновский, застрелившийся после сдачи крепости. Двое из пленников сошли с ума.
Во дворе крепости красногвардейцы обнаружили еще одну тюрьму.
Глубокая сырая яма, обложенная кирпичом, не имела ни выхода, ни входа. Сверху люк, через который спускались осужденные. Прикованные цепями к кольцам, вделанным в стены, они заживо гнили. Смрадом пахнуло, когда открыли люк.
На грязном, загаженном полу ямы вмялось человек десять арестантов-узбеков. Некоторые из узников находились здесь по многу лет. Освобожденные от цепей, они не хотели покидать ямы без разрешения бека. Пришлось насильно вытаскивать их.
Поздно ночью бек со своей свитой был отправлен на станцию Кермине…
Подвинувшись на другой день на несколько верст от Кермине, наши головные отряды встретили паровоз с вагоном тов. Морозова, одного из начальников отряда тов. Колесова. Трудно передать ту радость и волнение, которые охватили всех нас, когда красногвардейцы увидали друг друга:
– Мы считали себя обреченными на смерть, – сказал командир поезда Морозов.
Собравшись у тов. Морозова, мы подробно ознакомились с положением отряда тов. Колесова. Его артиллерия не имеет снарядов, патроны на исходе. Отряду не хватает продуктов, потому что вместе с ним движется несколько тысяч беженцев, спешно эвакуировавшихся. Беженцы чрезвычайно задерживают продвижение отряда. Увлеченные распросами, мы не замечали, как проходило время.
Громовое «ура» потрясло воздух и заставило нас выскочить из вагона. Вдоль железной дороги приближалась масса вооруженных людей. Это подходили головные отряды тов. Колесова…
Тов. Колесов совсем болен. Он не стал даже отвечать на вопросы и сказал:
– Ребята, со мной не разговаривайте, дайте мне уснуть…
Свалился и уснул.
Часа в три ночи дозорные привели в штаб шестерых бухарцев – делегацию от эмира. Наши предположения оправдались. Встревоженный взятием Кермине, пленением своего дяди, а также соединением наших отрядов, представлявших сейчас внушительную силу, эмир постарался предупредить события и послал делегацию для переговоров о мире.
Глава делегации, седобородый сановник, торжественно заявил:
– Эмир, да хранит его Аллах, очень просит освободить его дядю – бека Кермине. Эмир пойдет на все уступки, если вы это сделаете.
На экстренном заседании нашего штаба были выработаны основные требования, обеспечивающие мирную жизнь и работу советского Туркестана и жителей Бухары. Наши условия в основном сводились к четырем требованиям:
1. Немедленное разоружение и роспуск армии, сформированной эмиром.
2. Возмещение убытков, понесенных железной дорогой, и восстановление разрушенных участков.
3. Соблюдение эмиром полнейшего нейтралитета во внешней политике по отношению к советской власти и обеспечение мирной жизни советских граждан в Бухаре.
И последнее условие – удаление из пределов Бухары всех белогвардейцев…
Пленный бек, приглашенный на заседание, полностью согласился с текстом договора. В тот же день штаб отправил меня в Ташкент для утверждения договора правительством советского Туркестана.
Договор был утвержден без всяких изменений.
Многотысячная толпа встретила меня в Кермине. Высоко подняв над головой лист мирного договора, я во всю силу легких крикнул:
– Мир!..
Могучее «ура» громом раскатилось по степи.
Гудович А. На помощь // Война в песках [717].
* * *
В деревне я строил дом (1993 г.), мой сосед поставил на меже вагончик, в нем завелись люди – бригада строителей. Все они съехались издалека, по зову своего атамана Саши (таджик) – из-под Винницы, из Мордовии и Таджикистана. Меня звали «дядя Сережа», а Коля-таджик звал меня «дядя». Приехал он из-под Курган-Тюбе, из самого пекла, с выбитым глазом и поврежденным лицом. Трясся от холода, и я дал ему шинель и мою телогрейку. А ведь он в своем городе принадлежал к элите – «скорой помощи». Теперь он превратился в какое-то двойное существо. Однажды он собрался в город – звонить домой. Надел костюм, галстук. Вышел из вагончика другой человек, его было не узнать – интеллигентный, элегантный, уверенный в себе.
В Коле жила глубокая, животная тоска по советскому строю. Я встречал ее и в других таджиках из «горячих» мест. Стоило ему выпить, он встревал в любой разговор и без всякой с ним связи сообщал:
– А у нас старики говорят, что через семь лет Советский Союз восстановится.
Его сознание сузилось на одной мысли – прокормить пятерых детей, которых он оставил дома. На «скорой помощи» он получал зарплату 16 нынешних рублей – на пять буханок хлеба в месяц. Вот и пришлось ему найти и попроситься в бригаду. Но это было не фундаментальное решение вопроса. Когда стало подмораживать, Коля совсем загрустил и пришел ко мне.
– Как жить, дядя? – слезы ручьем из пустой глазницы.
– О чем же вы думали, когда русских гнали и советскую власть свергали?
– Да разве это мы? Это же все из Москвы шло.
– Теперь терпеть надо, быстро не выправить…
Сорвались у меня с языка злые слова. Но ведь мы сами уничтожили благополучие и справедливость нашей жизни. Конечно, жалко наших людей, по мере сил надо поделиться телогрейкой и капустой. Но обманывать не хочется…
По данным социологов, в 1992 г. «подавляющая часть опрошенных рабочих, колхозников, сельской и технической интеллигенции не разделяла идей суверенизации страны, 77 % опрошенных выразили сожаление о распаде СССР, даже высказались против независимости Таджикистана… Иные настроения овладели политической и хозяйственной элитой, она решительно высказалась за независимость Таджикистана» [704].
Я, как советский ребенок, увидел Евразию (и читал про неё)
В моем детстве, два последние года войны, я жил у деда в деревне. Он был казак из Семиречья из станицы Лепсинской. Казаком он был бедным, работал много – семеро детей. Изба полна детей, тут же и теленок. Под старость перебрался ближе к Москве. Он рассказывал мне о своей жизни, образе жизни и хозяйства, с которым постоянно соотносили себя казаки.
Когда в 1867 году было учреждено Семиреченское казачье войско и туда переселили с Алтая часть сибирских (бийских) казаков, эта небольшая общность русских казаков переживала быстрый процесс этногенеза – в новой природной и этнической среде. Прошло всего 30 лет, и семиреченские казаки приобрели новые специфические культурные черты, приспособленные к активной и полноценной жизни в новой среде. Например, он постоянно поминал киргизов. Как зима, приезжают знакомые киргизы: «Василий, возьми мальчишку в работники на зиму, а то помрет». Значит, прокорми всю зиму. Так что, кроме своих семерых, два-три киргизенка. Да еще жеребенок бегает за ними, как собака, прыгает на кровать, пытается залезть на печку. Приходили и китайцы.
Но после 1920-х и 1930-х гг. во многих местах раскулачивание вели сами кулаки, занявшие важные позиции в местной власти. Коллективизация означала временное создание на селе обстановки революционного хаоса. В эти моменты возникала «молекулярная» гражданская война – сведение всяческих личных, экономических и политических счетов. Такой обстановкой наиболее эффективно пользуется самая сильная и организованная часть. В момент коллективизации возникали рецидивы тлевших угольков гражданской войны. Это было похоже на «перестройку» в некоторых местах. Были вспышки и разрывы разных типов – в условиях кризисов и в состоянии культурной травмы.
Во время войны я, в три года, увидел распад людей, и эти картины меня потрясли. Можно сказать, что тогда я не умел обходить разрывы. Эти образы выплывают из памяти, как из тумана. Помню, мы ехали из Москвы в Казахстан в эвакуацию. В нашей теплушке ехал мужчина (видимо, была бронь). Он на остановках покупал бутылку молока, потом вынимал кружку, садился в вагоне и пил маленькими глотками. Дети подходили к нему и плакали, среди них моя сестра. Матери уговаривали их не плакать, и они плакали тихо, почти неслышно, стеснялись. Это потом мне рассказала мать, – я не плакал, а лицо было красное.
В деревне нас называли выковырянные (эвакуированные). Нас разместили по колхозным избам. Мы привыкли к деревне. А вот другое воспоминание: я много ходил по деревне и её окрестностям, далеко-далеко – до Кустаная. Мне встречалось много разных людей: русские, казахи, немцы и много приехавших. Матери наши сразу пошли работать: зимой в школе, а летом в поле. В нашей детской жизни отражалась жизнь взрослых, а там шовинизма не было ни в традиции, ни в идеологии. Казалось бы, наши отцы в то время массами гибли под ударами немцев, а здесь – вот они, немцы, отселенные с Запада. Но ни у кого и в мыслях не было их подозревать.
Вот я летом 1942 года иду по степи – мать на току, я поиграл с пшеницей и пошел путешествовать. Ушел далеко, ничего не видно кругом, и пришел к странному домику. В нем что-то стучит, работает машина. Открылось окошечко, и показалось сморщенное лицо старухи-казашки. Посмотрела она на меня, потом исчезла, а потом опять выглянула в окошечко и протягивает мне вниз кусочек хлеба с маслом. Это была маслобойка, и все масло до грамма шло на фронт. В последний раз я ел масло до войны и не помнил его вкуса, а теперь попробовал его в «сознательном возрасте». Ничего вкуснее не приходилось мне пробовать с тех пор. Мы не обмолвились со старухой ни словом, она вернулась к своей машине, а я пошел дальше.
Однажды я подошел к пустому рынку, кто-то продавал только квас. Смотрю, стоит с кружкой странный человек, даже страшный – лицо черное от солнца, молчит. Я отошел и спросил у женщины: «Тётя, кто этот человек?» Я навсегда запомнил смысл этого разговора. Помню, что эта женщина тихо объяснила примерно так: этот человек – бродяга, он ушел в степь от людей и не знает, куда идет; может, у него горе – мы не знаем; тебе не надо к нему подходить.
Потом мы жили в Челябинске, в квартире было несколько семей. У одной женщины была собака, которую она выращивала для фронта. Мы все кормились около этой собаки – ей полагался обильный паек овсянки. Зато и любили мы ее по-особому – и она нас любила. Я часто вспоминаю и думаю… В тот год мы стайками бегали по городу, у всех родители до вечера на работе. В пустующую комнату поселили молодого солдата Павла (на костылях) – он долечивался после госпиталя. Он дал мне звездочку на шапку и сделал деревянный автомат – замечательный, с диском. Привязал веревку, и я его носил за спиной. Получил он из дому баночку меда, и каждое утро все дети являлись к нему в комнату. Он съедал одну ложечку сам и по ложечке давал каждому из нас. А потом, когда оставалось совсем на донышке, один из нас не выдержал, пробрался в комнату солдата и съел весь мед. Павел пришел к нам на кухню с пустой банкой и чуть не плача. И мы все ревели, глядя на него. Он тыкал пустую банку всем под нос и кричал: «Это что? Это что?»
Мальчишки постарше были для меня как братья. Как-то они спросили – ты можешь помочь? Маленьким лучше подают! Мне надевали сумку, и я ходил по квартирам, просил хлеба, а они поджидали меня за углом. Но дело оказалось трудным. Очень многие женщины, которые открывали дверь, заводили меня в комнату, разогревали еду и усаживали меня обедать. После того как я из-за дверей просил «подать голодному кусочек хлеба», отказаться от еды я не мог. Я заставлял себя съедать один обед за другим и, пройдя один дом, чувствовал себя совершенно больным. А однажды мне досталась, видно, последняя порция супа, со дна кастрюли, и в нем было очень много перца горошком. Я полагал, что нищий должен быть очень скромным и ничего не выплевывать, и жевал и проглатывал весь этот перец. Кончилось тем, что я пообедал у одной учительницы, которая работала вместе с моей матерью и меня знала. Моей матери собрали, сколько могли, продуктов, чем ее удивили – мы жили не хуже других. Дело выяснилось, и пришлось мне моим приятелям отказать.
Около нас был вокзал, и каждый день мы провожали солдат на фронт, с оркестром. Я проводил день на улице с мальчишками. И бывало, мы видели печальное зрелище – как конвоир с каменным лицом ведет дезертира, уткнув штык своей винтовки ему в спину. Их вылавливали на чердаках. Мы были на стороне конвоира и в то же время дезертира с тоскливым и отрешенным взглядом, все почему-то в серой одежде, казались нам родными. Можно даже сказать, что казались родными, чуть ли не одним целым – солдат-конвоир и дезертир. И потом, уже взрослым, я у многих людей замечал: при виде человека под конвоем, заключенного, они смотрели на него таким взглядом, словно это их родной брат.
Ещё из того времени. Иногда откуда-то послышится чей-то плач, все дети 4–5 лет начинают плакать. Сразу. Не раз я видел: идет женщина и вдруг начинает рыдать, и все на улице бегут к ней, окружают, обнимают. И тоже все бегут, если кто-то упал, ушибся. Может, поэтому дети были неосторожны, все знали, что тебя схватят, даже без взрослых, и бегом понесут к врачу (на себе испытал). Врачи были часто совсем старенькие, но как внимательно они нас осматривали и лечили! Не только конкретную травму или болезнь, а всего тебя, все косточки. Это исток – он держит людей.
И так, люди и я всю жизнь идем через небольшие или грозные взрывы, распады и соединения людей (всех типов). А сейчас…
Мне было уже пять лет, много было раненых солдат на костылях – они поправлялись после госпиталя, прежде чем поехать домой. На рынке они покупали кружку молока и кусок хлеба и ели молча и неторопливо. И любовь, которой окружал их весь рынок, казалась каким-то особым видом энергии, силовые линии этого поля были почти осязаемы. Тогда я, конечно, ничего этого не думал – это я сейчас пытаюсь передать мои детские, по сути биологические ощущения. Но если бы меня сегодня спросили, в чем для меня образ нашей земли и нашего человека, я бы назвал именно это – раненый солдат на том рынке, с кружкой молока и куском черного хлеба, в этом синергическом поле любви.
На вырученные деньги я покупал отруби и бутылку патоки. В патоке на танковом заводе закаляли стальные детали, и работницы понемногу выносили ее на продажу.
Образ военного времени, в котором прошло мое детство, всегда присутствовал в жизни страны. За всю свою жизнь не видел я ни в ком воинственности и поэтизации военных действий. Более того, много родных и близких возвращалось с фронта, о многом было переговорено с фронтовиками. Сейчас я с удивлением вспоминаю: ни один из них ничего не рассказал о своих победных приключениях. Рассказывали, кто со смехом, кто с горечью, о том, как били нас. Поразительно, как в многонациональном народе строго соблюдалось негласное, никем не предписанное табу. Так что война осветила мою жизнь, как и жизнь большинства населения, – не ужасами зрелища смерти, а особым всеобщим душевным состоянием.
В Москве зимой жить было трудно, но не унывали. Отопления не было, спали в валенках. На кухне, как осенью разлилась на полу вода, так всю зиму был лед, как каток. Дядя Митя (слесарь и вообще мастер по всем делам в доме) сложил нам печку, трубу вывел в форточку. Дымила наша печка сильно – не было тяги. Взрослые уходили на работу рано, до ночи, а я сидел с маленькой двоюродной сестрой, она только стала ползать, и мы вместе ползали по полу, потому что в полуметре от пола уже был такой дым, что дышать было нельзя. Граница дыма была резкая.
Я вырос, нужно перешивать детям из военной формы. Портнихи ходили шить по домам. Мне сделали хороший китель. Работы у портних было много, они со всеми дружили и очень боялись «финна», всегда об этом говорили. Я тогда уже начал читать, я знал финна в «Руслане и Людмиле» и удивлялся, что его боялись. Слово «фининспектор» тогда не употреблялось. К нам ходила портниха – татарка из Крыма. Фамилия Кара-Мурза там известна, мой дедушка по отцу был из Крыма, и она к моей матери была расположена, с доверием. Когда Крым освободили, она плакала, говорила очень взволнованно. Потом успокоилась, все повторяла: «Слава богу! Слава богу!» Я не очень-то понимал, о чем речь, потом только сопоставил и понял. Портниха боялась за родственников-татар. Думала, что их будут судить за сотрудничество с немцами, а это по законам военного времени была бы верная смерть. Когда стало известно, что лично судить никого не стали, а всех татар выселили из Крыма, она была счастлива. Когда пришло сообщение о гибели моего отца, эта портниха сильно плакала.
Такие сообщения почему-то сразу становились известны во дворе, всем сверстникам. Даже не знаю, как. Сочувствие и поддержка двора оказывали очень сильное действие.
Я прошел тяжёлую трудную картину. Коротко: в Москве, 1937 г. сдавали дом, нам (нашим родителям и сестре) дали две комнаты, другие три комнаты заняла семья украинцев – старики, их взрослая дочь и внучка. Наши соседи были из хозяев (кулаков), но они «самораскулачились» – вовремя раздали имущество родственникам и приехали в Москву, где училась в вузе их дочь. Она стала доктором медицинских наук, влиятельным человеком. Моя мать говорила, что она спасла мне жизнь, и была ей очень признательна. Зимой 1944 г. я заболел менингитом, и тяжело. Наша соседка быстро и даже не вызывая врача меня отправила в больницу на Соколиной горе. Быстрота помогла, я поправился.
Как только освободили Украину, к соседям стали приезжать худые люди с мешками – их родственники привозили им продукты: пшено, сало, лук. Они добирались с невероятными трудностями, на них было страшно смотреть – в грязи, почерневшие, с воспаленными глазами. Соседи не слишком скрывали свои антисоветские чувства, но старшие были осторожными, а внучка (из МАИ, инженер) превратилась в злобное, воинственное существо. У нее внезапно возникли мессианские картины их хутора, которого она не видела.
У них была домработница из Липецкой области, молодая, добрая женщина, – Мотя. И работящая – на грани разумного. Все умела делать и радовалась любой работе. Стали они строить большую дачу. Она работала как строитель, и бревно сильно ударило в живот. Начался рак желудка, сделали операцию. После операции она лежала в небольшой комнате, где было две кровати – для нее и бабушки украинцев. Через несколько дней заходит к нам в комнату Мотя и плачет: внучка пришла и требует, чтобы она съезжала, потому что надо им новую домработницу селить. А она еще слаба, домой уехать не может. Моя мать пошла поговорить – те ни в какую. Мать позвонила в профсоюз, чтобы нанимателям объяснили права домработницы. И вот оттуда позвонили и объяснили.