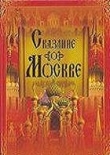Текст книги "Под шапкой Мономаха"
Автор книги: Сергей Платонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Нет надобности останавливаться на сношениях Москвы за время Бориса Годунова с прочими государствами Запада: они были случайны и отрывочны. Москва играла в них пассивную роль и, когда к ней обращались, искала обыкновенно или возможности приобрести новых союзников против своих исконных врагов, или же получить новых поставщиков или покупателей на своих рынках. Далее и выше этих целей московские дипломаты не смотрели. Зато эти близкие цели они умели понимать и достигать с большою прямолинейностью и настойчивостью. Пережив ряд тяжких военных и дипломатических неудач, потеряв многолетние завоевания, ослабев от внутренних неурядиц, московское правительство не потеряло бодрости духа и воли. Оно оказалось готово на новую борьбу тотчас по окончании старой; оно зорко наблюдало и метко оценивало внутренние затруднения своих соседей и хорошо понимало, когда надо уступить и когда дозволительно ударить врага. Не умея превратить здорового инстинкта и острой сметки в норму и принцип, оно, однако, было устойчиво и последовательно в своих приемах и действиях и, благодаря свойственной ему подозрительной осторожности, не позволяло никому играть собой. Эти свойства – бодрость и активность, осторожность и наблюдательность, последовательность и самостоятельность – получали должное признание со стороны: Москву бранили и над нею иногда смеялись, но с нею должны были считаться. Руководитель московской политики Борис мог хвалиться тем, что заставил соседей признать возрождение политической силы Москвы после понесенных ею поражений.
3. Отношения к Востоку: туркам, татарам и Кавказу. – СибирьВ отношении тюрко-татарских народов политика Бориса Годунова была прямым продолжением политики Грозного. Судьба поставила русское племя в тесное прикосновение со всеми группами татарских племен. В отношениях Москвы к европейской группе татар во времена царей Федора и Бориса исходной точкой служило завоевание Москвою Казани и Астрахани. Выйдя Волгою на Каспийское побережье и освоив Среднее и Нижнее Поволжье, Москва окончательно ликвидировала татарскую власть в этих местностях, создав из Астрахани угрозу и татарским народам кавказской группы. К такому политическому успеху Москвы турецко-татарский мир не мог отнестись безучастно и спокойно. Грозному предъявляли разного рода претензии и требования как турецкий султан, так и крымский хан. Москве грозили войною и возмездием. Турки собирались от Азова по Дону добраться до «переволоки» на Волгу (у нынешнего Царицына (Волгоград)) и идти отбирать Астрахань; однако эта сложная затея им не удалась. Татары из Крыма грозили самой Москве и в 1570-х годах сделали несколько попыток до нее добраться. Однажды только (в 1571 году) им удалось подойти к стенам русской столицы, пожечь посады и побить много народа. Москва «наполнися сеченых во всех улицах от конца до конца», по выражению Палицына; но московские цитадели не были взяты, и татары ушли. Это был при Грозном самый страшный набег; остальные не проникали далеко от южных границ в глубь государства. Умудренная горьким опытом Москва усиленно укрепляла свои южные рубежи и заселяла «дикое поле» на южных окраинах. В своем месте мы расскажем, насколько планомерна и действительна была эта работа по укреплению и заселению юга. Она привела к тому, что татарские набеги на самую Москву стали неисполнимы. В последний раз крымцы пробрались было к Москве в 1591 году, но тотчас же и убежали назад с большим срамом. Под стенами Москвы встретила их в боевом порядке целая армия, стоявшая в подвижном полевом укреплении, «гуляй-городе». Она не допустила татар к стенам города и грозила им сама нападением. Хан оставался под Москвою менее суток и «побежал», никуда не уклоняясь для добычи, прямо домой: «… которою дорогою пришел, тою же дорогою и назад вышел». Русские преследовали татар; вернулась их в Крым лишь третья часть, и сам хан приехал в Бахчи-Сарай бесславно – ночью, в телеге, раненый: видели, что левая рука у него была подвязана. Отражение хана от Москвы было обращено Годуновым в большую победу. Сам Борис, державший начальство над войском вместе с князем Ф.И. Мстиславским, получил чрезвычайную награду (между прочим города в Важской земле и звание «слуги», которое почиталось «честнее боярского»). Щедро награждены были и другие воеводы. На месте «гуляй-города» был основан так называемый «Донской» монастырь. Хотя на следующий год (1592) татары жестоко разорили рязанские и тульские места, однако общий характер отношений к Крыму определился в пользу Москвы. В Москве не было страха перед Крымом, и московское правительство, не озираясь на Крым, свободно действовало против других татар. Так, ногаи были приведены в подчинение Москве и сами сознавались, что уже «учинились в воле государя московского: чья будет Астрахань, Волга и Яик (говорили они), того будет и вся Ногайская орда». Так же решительно отваживалась Москва наступать и на татар кавказской группы, хотя здесь на первых порах ожидала ее чуствительная неудача.
Выход на Каспийское море открыл для Московского государства возможность непосредственных сношений с Кавказским и Персидским побережьем и со среднеазиатскими ханствами. В самую пору завоевания Казани и Астрахани, в 50-х годах XVI века, начались операции московских ратей на Северном Кавказе. Кабардинцы тогда уже вошли в зависимость от московского государя; Грузия тогда уже обращалась за помощью к Москве. В 1567 году русские поставили на реке Терек город – Терский острог; он должен был служить базою для действий в Кабарде в помощь князю кабардинскому Темрюку (на дочери которого женился Грозный). Город не устоял, был брошен, снова появился в 1578 году и снова не устоял: «…царь для брата своего Селим-салтановой (Турецкого) любви тот город велел оставить и воеводу и людей своих оттуда велел отвести». Турки ревниво оберегали сферу своего влияния на Кавказе и не только требовали удаления с Терека государевых людей, но жаловались московскому царю и на вольных московских казаков, которые «гуляли» и «воровали» на Тереке. Казаки были там в значительном числе и досаждали всем местным владетельным князькам своими разбоями и насилиями. Но они же служили при случае и великому государю московскому и его союзникам – грузинским владетелям; например, они «стояли у Александра царя (Кахетинского) летом по щелям в горах от Шевкала (Дагестанского) на сторожах». Поэтому Москва в отношении казаков держалась здесь обычной своей манеры: она их бранила и обзывала «ворами» в дипломатических сношениях с турками и с кавказскими князьками, но не «унимала» на деле и готова была пользоваться ими для своих целей колонизации и завоеваний. Переговорами о Терском городе и о терских казаках и начал Борис сношения своего правительства с Кавказом и турками, «чтоб на Терке казаки не жили», «чтоб ни один казак на Терке и на Дону у Азова не был» и чтобы государь «город на Терке велел разметати и воевод и людей своих с Терки всех свести велел». Московские послы все это обещали, а московская власть ничего исполнять не намеревалась. Напротив, московское правительство крепило свои связи с христианским Закавказьем и подумывало встать твердою ногою в Грузии, где боролись влияния московское, турецкое и персидское. По-видимому, Борис рассчитывал воспользоваться борьбою за Персию турок и персиян и, помогая последним, сначала ослабить турок, а затем справиться и с персиянами. Вмешательство Москвы в кавказские дела формально оправдывалось тем, что православная Грузия искала защиты у Москвы против своих врагов. В 1586 году кахетинский «князь» или «царь» Александр прислал в Москву сказать, что он «сам своею головою и со всею землею под кров царствия и под царскую руку рад поддается»; а из Москвы ему ответили, что царь Федор Александра князя «под свою царскую руку и в оборонь хочет взять». С тех пор открытою заботою московского правительства стало обеспечение и укрепление пути из Астрахани в Грузию. На Тереке кроме старого городка «на устье Сунчи-реки» построили новый город «на устье Терском». Гарнизон этого города должен был стеречь дорогу из Руси в Закавказье, а кроме того, не «перепускать» турок через Терек на персиян. Завязавшиеся с Грузией сношения показали, что ближайшим врагом для союзных Москвы и Грузии были не столько сами турки, сколько местный мусульманский владетель «Шевкал», или «Шамхал», Тарковский, владения которого в Дагестане закрывали дорогу в Грузию из Астрахани. Против него Борис дважды снаряжал войско. В 1593 году воевода князь Андрей Иванович Хворостинин был отправлен для того, чтобы в «Шевкальской земле» построить два города и укрепиться в них. Первый город, на реке Койсу, поставить удалось, а второй (южнее – в Тарках) «поставить не дали»: русское войско было разбито и оставило на поле битвы до 3000 человек; «сами же воеводы с оставшими людьми утекоша». В 1604 году попытка утвердиться в земле Шевкала была повторена, но окончилась еще печальнее. Воевода Иван Михайлович Бутурлин завоевал город Тарки и остался в нем, но весною 1605 года турецкие войска вместе с Шевкалом осадили его там. Бутурлин капитулировал на условии свободного возвращения на Русь. Условие, однако, не было соблюдено: вся русская рать была избита, когда вышла из крепости. Погибло более 7000 человек и в числе их сам Бутурлин. Наступившее за тем в Московском государстве междоусобие на время прекратило сношения с Кавказом: и на Тереке и в Астрахани «от воров от казаков стала смута великая», и Москва утратила своих друзей на Северном Кавказе.
В отношении татар сибирской группы правительству Бориса Годунова пришлось заново начинать дело покорения, заглохшее со смертью знаменитого «велеумного атамана» Ермака. После гибели Ермака Сибирское царство, захваченное им, вернуло свою независимость: в августе 1584 года русские покинули город Сибирь, и в нем снова сели ханы. Казалось, сибирская авантюра казаков прошла без следа. Но московское правительство решило не упускать из своих рук сибирской земли. В том же 1584 году оно представляло дело цесарю так, что-де «сидят в Сибири государевы люди, и Сибирская земля вся, и Югра, и Кондинский князь, и Пелымской князь, вогуличи и остяки, и по Оби по великой реке все люди государю добили челом и дань давать почали… соболи и черные лисицы». Когда в Москве узнали об оставлении Сибири, ее решено было возвратить: в начале 1586 года туда была послана рать. По московскому обычаю, страну осваивали посредством «городов», то есть крепостей. Придя на место к лету 1586 года, воеводы начали ставить города: на реке Туре – город Тюмень, на реке Иртыше – Тобольск. Тобольск находился вблизи города Сибири; оттуда воеводы «добыли» Сибирь, захватили хана Сейдяка и его город запустошили (1588). С тех пор «старейшина бысть сей град Тоболеск (говорит летописец), понеже бо ту победа и одоление на окаянных бусормен бысть, паче же и вместо царствующего града причтен Сибири». Кругом этого «стольного града» Тобольска шла некоторое время борьба с татарами, мечтавшими прогнать русских назад; но эта борьба скоро показала, что перевес сил окончательно перешел на русскую сторону. Русские города росли почти ежегодно. На путях в Сибирское царство и на важных стратегических пунктах стали Пелым (1593), Нарымский острог (1596), Кетский острог (1596), Верхотурье (1598), Туринский острог (1600), Томск (1604). На севере от главного пути колонизации сибирской тогда же возникли города: Березов (1593), Обдорск (1593) и Мангазея (1601). Свою новую колонию, царство Сибирское, Москва оберегала от чужой эксплуатации. Когда англичане просили о разрешении ездить морем в Печору и Обь (1584), московское правительство ответило им, что «пристанищ морских в тех местах нет и приставать тут не пригодится; а лише в тех местах ведутся соболи да кречеты, – и только такие дорогие товары, соболи и кречеты, пойдут в Английскую же землю, и нашему государству как без того быть?». В этом риторическом вопросе лучшее объяснение того, что ценила и чего искала Москва в Сибири.
4. Вопрос о патриаршестве в МосквеСовсем особняком стоял в политике Бориса вопрос об отношениях к православному Востоку. Московское правительство твердо держалось «главной мысли того века, что Русское царство, единственное независимое православное царство, должно заменить собою погибшую Византийскую империю» (слова КН. Бестужева-Рюмина). Представляя собою «новый Израиль», в среде которого сохранилась правая вера и истинное благочестие, московская светская власть в сношениях с православными церквами Востока обычно действовала и за себя, и за московскую церковь с ее иерархией. Царь, а не митрополит Московский писал грамоты восточным патриархам; царь разрешал представителям восточно-греческого духовенства въезд в его государство и в столицу; царь благотворил греческим церквам и духовенству; царь предстательствовал за них пред «агарянскими», то есть турецкими, властями. Вступая на московскую почву, греки сразу же испытывали на себе полноту власти московского монарха решительно во всех делах, какие бы их в Москве ни интересовали. Поэтому они привыкли взирать на его царское величество как на единственный источник благ и милостей, и обещали ему молиться Богу денно и нощно, «чтобы он совершал всякое благо и чрезмерные благодеяния ежеденно, ибо имеет к тому готовность». Внутреннее состояние московской церкви, ее отношение к светской власти и степень ее независимости и самостоятельности оставались для греков неясными, так как им не было ни возможности, ни необходимости вникать в эту сторону московской жизни. Официальные встречи с московскими иерархами исчерпывали весь круг необходимого общения с местным церковным миром, а затем пред греками везде появлялся государев дьяк или иной служилый человек, действовавший именем великого государя.
Именно в такой бытовой обстановке был поднят, обсужден и разрешен вопрос об установлении в Москве патриаршества. Чисто церковный, казалось, и канонический, он получил характер государственного и политического вопроса по преимуществу и был современниками истолкован, как первый крупный политический успех самого Бориса: «…устроение се бысть начало гордыни его», – заметил Иван Тимофеев по этому поводу о Борисе Годунове. Руководящая роль светских властей в деле о патриаршестве заставила некоторых историков даже вовсе упустить из вида церковно-историческое значение события. Так, Н.И. Костомаров решился сказать, что «Борис в делах внутреннего строения имел в виду свои личные расчеты и всегда делал то, что могло придать его управлению значение и блеск; такой смысл имело преобразование, совершенное им в порядке церковной иерархии: Борис задумал учредить в Московском государстве патриархию». И некоторые другие историки (даже Карамзин) склонны были деятельное участие Годунова в деле учреждения патриаршества толковать как его своекорыстный умысел, направленный в целях личной политической карьеры. Конечно, такое понимание дела неприемлемо для серьезного исследователя, знакомого с основными течениями московской общественной мысли XVI столетия. Не один Борис, а все вершины московского общества мечтали об установлении в Москве патриаршего сана. К этому вел идеал единого православного христианского царства, который был создан в Византии и требовал, чтобы честь царская и патриаршая стояли вместе и неразлучно, помогая одна другой. Перенесенный на Русь, этот идеал здесь не осуществился сразу: созданная им при Грозном царская власть не восприняла своего венчания от лица патриарха, но по теории должна была воспринять, а потому и желала патриарха на Руси. Ей, царской власти, поэтому принадлежал и почин в данном деле и ведение самого дела. Новейший исследователь вопроса об учреждении патриаршества в Москве, профессор А.Я. Шпаков, отметил очень резкими штрихами преобладание органов светской власти в сношениях о патриаршестве с греческим духовенством, хотя он и далек был от мысли отрицать национальное и церковное значение самого дела установления патриаршества. Борис в переговорах с греческими иерархами являлся ловким и удачливым представителем московского правительства, но действовал он отнюдь не за себя, а за все Московское царство и за весь народ «нового Израиля».
Желание иметь около себя патриарха было царем Федором наследовано от его отца. Уже при Грозном созрела мысль, что, раз московский государь заступил для всего «православия» место греческого царя, он должен был иметь при себе и патриарха, как имел его византийский император. По словам профессора Шпакова, «цветущее состояние и высокое положение нашей церкви, ее отношения к константинопольскому патриарху – делали учреждение патриаршества неизбежным». Оставалось только найти повод к возбуждению дела. Такой повод представился в 1586 году, когда в Москву явился антиохийский патриарх Иоаким. Это был первый приезд в Москву восточного патриарха: до тех пор в Москве бывали греческие иерархи низших степеней. В Москве греки искали субсидий (или, как тогда выражались, «милостыни»), а также заступничества пред турецкими властями. Искал того же и патриарх. Высокого гостя приняли в Москве торжественно: почтили его «встречами», удоволили дарами и дали неделю отдохнуть от далекого пути на «подворье» (во дворе Ф.И. Шереметева); там, однако, его, по обычаю, окружили «приставами» и разобщили со всем живым миром. Царь принял патриарха с пышным церемониалом, причем в Кремль гостя привезли, несмотря на летнее время (25 июня), в парадных митрополичьих санях, самым торжественным «чином». После царского приема последовала встреча патриарха в Успенском соборе с московским митрополитом Дионисием, причем патриарху пришлось пережить неприятную минуту. Вопреки формам отношений, принятым на Востоке, митрополит, ступив навстречу гостю, носившему высший сан, благословил его первый, не выждав патриаршего благословения. Патриарх запротестовал и, по выражению официальной московской записи, «поговорил слегка, что пригожее было бы от него митрополиту принять благословение прежде, да и перестал о том». Смиренный проситель не посмел много учить своих милостивцев и принял ту роль, какую ему дали его покровители. Зато он скоро был удовлетворен царскою милостыней и ласково отпущен домой. Не сохранилось точных официальных свидетельств о тех переговорах, какие велись с Иоакимом на счет установления патриаршества в Москве. В позднейших своих записях и речах московские чиновники разноречиво вспоминали то, что было делано и говорено по данному делу. Царь Федор будто бы тайно помыслил о патриаршеском поставлении на Москве со своею супругою и ближними боярами и объявил свою мысль патриарху Иоакиму через Бориса; а патриарх со своей стороны «рекся (то есть обещал) о том посоветовати со всеми патриархи и с архиепископы и с епископы, со всем освященным собором». Что именно было условлено между Борисом и патриархом, точно, по отсутствию данных, сказать нельзя. Но Иоаким, если и обещал что-нибудь Борису, не исполнил ничего из того, на что надеялись в Москве. В Москве же, по-видимому, питали твердую надежду, что дело о патриаршестве через Иоакима получит ход на Востоке, и потому отправили туда, к патриархам, вместе с Иоакимом своего московского гонца, чтобы он тайно просил патриархов установить патриархию на Москве. Ответа, однако, не последовало, ибо на Востоке вовсе не желали исполнить желание московского государя.
Но милостыню московскую там получать желали, ибо в ней очень нуждались. А потому (быть может, и не без связи с делами о патриаршестве) в 1588 году внезапно появился на Руси константинопольский патриарх Иеремия. В Москве ожидали с Востока патриарших грамот и послов, а прибыл лично патриарх, и притом не из младших, а первенствующий на Востоке патриарх цареградский. Московские политики, конечно, помнили, что в 1561 году, когда цареградский вселенский патриарх утверждал царский титул за великим князем московским, он написал в своей грамоте, что венчание на царство царей есть исключительное право только двух патриархов православных: римского и константинопольского (а за отпадением первого, это право принадлежит одному только константинопольскому). И вот теперь этот особо правомочный святитель идет сам в Москву. Естественно было предположить, что столь редкое, можно сказать, небывалое происшествие знаменует собою новый фазис дела о московском патриаршестве. Вселенский патриарх в Москве, думалось, установит патриархат скорее, чем кто-либо иной. Отправляя своих людей навстречу патриарху Иеремии, царь приказывал прежде всего разведать у патриарха и у его свиты: «…каким он обычаем идет ко государю и с чем идет?», «…со всех ли приговору патриархов поехал и ото всех ли с ним патриархов к государю есть какой приказ?» Пытаясь проведать цель поездки патриарха, пытались установить и законность самого Иеремии и узнать, истинный ли он патриарх и «Феолиптос, которой преж тово (Иеремии) был патриарх, куды ныне пошел, и вперед ему ли, Иеремею, быти в патриархех, как он назад приедет во Царь-город, или Феолиптосу?». В Москве догадывались, что предшественник Иеремии Феолипт не умирал, а куда-то «сшел», и желали установить, что с ним сталось (он был низложен султаном) и крепко ли сел на его место Иеремия. Таким образом, волнуясь приездом необходимого и важного гостя и ожидая от него существенных благ, Москва торопилась выяснить, насколько можно ему верить. По-видимому, результаты разведок получились удовлетворительные, и в Москве Иеремию приняли как подлинного вселенского патриарха, с большим почетом. Но ожидания не исполнились и надежды не сбылись. Оказалось, что Иеремия не привез с собою решения по вопросу о патриаршестве, а только просил «милостыни» и сообщал политические вести с Востока и из Литвы, через которую проехал.
Тогда в Москве созрел план, исполнителем которого, если не творцом, был Борис Годунов. План состоял в том, чтобы не выпустить Иеремии из Москвы без того или иного решения дела об учреждении патриаршества в Москве. Патриарха вселенского решили склонить или единолично поставить патриарха на Руси, или же дать обязательство провести это дело на Вселенском Соборе, который будет созван по его возвращении на родину. Иеремию окружили ловкими агентами-приставами: умело ему льстя, они подготовляли его к податливости и соглашению. Сам же Борис зачастил к патриарху на подворье для тайных бесед, как только там обозначились первые признаки податливости. Спутники Иеремии, греки, составлявшие его свиту, с огорчением отмечали, будто «такой патриарх имел нрав, что никогда не слушал ни от кого совета, даже от преданных ему люден, почему и сам терпел много, и церковь в его дни». Зарвавшись в беседах с хитрыми москвичами, Иеремия сказал лишнее слово. Он понимал твердо, что единолично не может создать московский патриархат; но, желая угодить Москве, а самому тепло устроиться, он думал разрешить задачу тем, чтобы самому остаться в Москве в сане патриарха. «Если хотят, то я останусь здесь патриархом», – заметил он одному из греков, своих спутников, митрополиту Иерофею. Иерофей резко возразил, говоря, что это невозможно: «… ты не знаешь обычаев этой страны, здесь иные порядки, иные нравы; русские не хотят тебя иметь своим патриархом; смотри, чтобы тебе не осрамиться». Но патриарх остался глух к возражениям и предостережениям: он высказал ту же готовность остаться и в разговоре с московскими приставами – и на этом был уловлен. По словам профессора Шпакова, «смомента произнесения им: остаюсь – переговоры быстро двинулись вперед, и в русских памятниках мы уже находим официальное их описание». Борис Годунов получил царское приказание с патриархом «посоветовати, возможно ли тому остатися, чтобы ему быти в его государстве, Российском царстве, – в стольнейшем граде Володимире». Получив в общих выражениях согласие Иеремии, хитро пожелали, чтобы он согласился жить не в Москве, а во Владимире. Захудалый Владимир испугал Иеремию. Он имел в виду стольную Москву, блестящий дворец московского царя и пышный «чин» кремлевского митрополичьего (в будущем патриаршего) двора; а ему предлагали городок с тремя или четырьмя сотнями дворов на посаде и с обваленною и запустошенною крепостью на высоких берегах тихой Клязьмы. О Владимире один из спутников Иеремии выразился, что он – «хуже Кукуза», армянского городка, где был заточен Иоанн Златоуст. Понятно, что патриарх отказался;«… чтобы мне быти в его государеве государстве», – ответил он Борису, – и яз от того не отмещуся; только мне в Володимире быти не возможно, занеже патриархи бывают при государе всегда; а то что за патриаршество, что жити не при государе? Тому остаться никак не возможно!» В Москве тоже понимали, что патриарх всегда бывает при государях, и если прочили Иеремию во Владимир, то лишь затем, чтобы сбыть его и вовсе с рук. Грек, не разумевший по-русски, пришедший в Москву не зван, а сам собою, при другом живом цареградском патриархе Феолипте, судьба которого была неведома, – такой грек не представлял для Москвы особой прелести. Он сделал то, что от него требовалось: дал принципиальное согласие на установление в Москве патриаршества, – и он мог уйти. Борис хитро довел его до отказа поселиться во Владимире и повел дело далее. Царь Федор на соборе гласно выразил сожаление, что Иеремия отказался от Владимира и пожелал Москвы. «И то дело не остаточное! – говорил царь. – Как нам то учинити, что… преосвященного Иева митрополита всея великия России от Пречистыя Богородицы и от великих чюдотворцев (из Москвы) изженути, а учинити греческого закона патриарха? А он здешнего обычая и русского языка не знает и ни о которых делах духовных нам с ним говорити без толмача не умети». Вывод отсюда следовал один: «посоветовати» с патриархом, чтобы он поставил на Москву патриархом Иова митрополита. Борис Годунов и посольский дьяк Андрей Щелкалов «посоветовали» с Иеремией о том столь настоятельно, что грекам «совет» показался требованием. Патриарх, опрометчиво признавший возможность существования в Москве патриарха-грека, нехотя дал согласие на поставление патриарха туземца и стал просить отпуска домой. Оставалась церемониальная часть дела. Иеремия указывал на необходимость избрания патриарха собором; церковный собор был созван в январе 1589 года и состоял из высших иерархов русской церкви. Только теперь, полгода спустя после прибытия Иеремии на Русь, московское духовенство приобщалось к делу установления на Руси патриаршества и вступало в сношение с приезжими греческими иерархами. По указанию царя собор избрал по три кандидата на патриаршество и на две вновь учрежденные митрополии – новгородскую и ростовскую. Царь из трех кандидатов в патриархи выбрал, разумеется, Иова. От Иеремии спросили греческий чин поставления в патриархи и его изменили, сделав более торжественным. Затем начались торжества наречения и поставления новых иерархов с участием Иеремии и его свиты. Двадцать шестого января 1589 года Москва наконец получила патриарха: Иов был торжественно посвящен в этот сан в Успенском соборе.
Дело было сделано; оставалось его письменно оформить. Иеремию удержали в Москве до тех пор, пока не изготовили торжественную грамоту об учреждении патриаршества в Москве. Патриарх вселенский подписал эту грамоту вместе с русскими иерархами и с тремя лицами его собственной свиты (греческим митрополитом, архиепископом и архимандритом). Затем греки были отпущены милостиво домой (в мае 1589 года) с обязательством оформить на соборе восточных церквей совершенное ими в Москве дело. До Константинополя Иеремия добрался только через год (весною 1590 года) и созвал немедленно собор высших восточных иерархов. Собор вошел в суждение о правильности того, что было содеяно Иеремией в Москве, и, конечно, не все признал канонически правильным; однако патриархат московский был собором признан и московскому патриарху было определено пятое место среди патриархов православных, о чем и послали соборную грамоту в Москву. В Москве же обиделись: там желали своему патриарху по меньшей мере третьего места, ибо Москва стала третьим царством после Рима старого и Рима нового (или Византии). Восток не уступил. На втором соборе, бывшем в начале 1593 года в Царьграде, в присутствии московского посланника дьяка Григория Афанасьева, вопрос о московском патриаршестве был пересмотрен, и дело было оставлено в прежнем положении, главным образом под влиянием ученого александрийского патриарха Мелетия Пигаса. Но и Москва упорствовала: там положили в пренебрежение собор 1593 года и упорно продолжали считать своего патриарха третьим – ниже константинопольского и александрийского и выше антиохийского и иерусалимского. Успех свой Москва чрезвычайно ценила и светло праздновала, между прочим, тем, что иерархически повышала многие свои епископские кафедры: к двум митрополиям (новгородской и ростовской) прибавлено было еще две (казанская и крутицкая; последняя – в самой Москве – «на Крутицах»); установлено шесть архиепископий и устроено шесть новых епископий. Так росла московская иерархия. Наблюдавший критически московские церковные события митрополит Иерофей, ученый грек, все их приписал энергии и способностям Бориса Годунова. «Царь Федор, – писал он, – был человек смирный, по всему подобный младшему (или «малому» императору) Феодосию, простой, тихий; а шурин царя по имени Борис был ко всему способен, умен, лукав: он всем заведовал, и его все слушались».