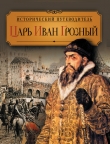Текст книги "Иван Грозный. 1530–1584"
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– К сему же прими и венец царский Мономахов, и жезл, и прочую утварь царскую, которой мы, великие князья, венчаемся на великое самодержавство Русского царства. А ты, Аграфена, – добавил он, – от сына моего Ивана ни пяди никогда не отступай.
Ввели великую княгиню Елену: она с плачем билась на руках у боярынь, едва держалась на ногах.
– Перестань, – успокоил ее Василий, – мне легче, ничего не болит, благодарствую Бога.
По ее просьбе он благословил их младшего сына Юрия и пожаловал его уделом – Угличским княжеством. Елене Василий завещал, кроме того, опекунство над Иваном до его совершеннолетия – то есть, по тогдашним обычаям, до пятнадцати лет. Хотел сказать ей также напутственное слово, но она так вопила и кричала, что он скорее отослал ее.
Чуя приближение смерти, Василий торопил с последними обрядами. Послал за владыкой Коломенским Вассианом, Троицким игуменом Иоасафом, старцем Мисаилом Сукиным и стряпчим Федором Кучецким, который присутствовал при кончине Василиева отца, – с тем, чтобы они читали над ним канон на исход души. У своего духовника протопопа Алексея государь спросил, видал ли он, как душа расстается с телом. Тот отвечал, что такое ему редко случалось видеть. Духовные чины встали вокруг княжеской постели с образами Владимирской Богоматери, что писал Лука Евангелист, Николы Гостунского, великомученицы Екатерины и другими, на которые Василий смотрел беспрестанно. Наконец, подозвав митрополита и владыку Вассиана, он сказал им:
– Изнемогаю, постригите меня, как я того желал всегда.
Даниил и Вассиан одобрили его решение. Но Шигона и некоторые бояре стали отговаривать Василия, ссылаясь на то, что не все великие князья, в том числе и сам святой князь Владимир Киевский, умерли в чернецах, а между тем сподобились праведного покоя. Дело было в том, что пострижение великого князя лишало его Мономахова венца. Шигона с ближайшими советниками государя опасались, что Василий в случае выздоровления должен будет отречься от престола.
У постели умирающего загорелся жаркий и не совсем пристойный спор. Василий не мог вставить слова, крестился, шептал молитвы из акафиста; язык у него отнимался, он знаками просил пострижения, указывая на приготовленное иноческое платье… Наконец митрополит Даниил и епископ Вассиан взяли верх, спор притих. Даниил поспешил кончить обряд пострижения, нарек нового инока Варлаамом, возложил ему на грудь схиму и Евангелие. Василий уже отходил. Духовник впился в умирающего глазами: вот раздался последний вздох, чуть раскрылись уста – и отец Алексей вложил Василию в рот святое причастие…
«И виде Шигона дух его отошед аки дымец мал…»
Василий умер 4 декабря в десятом часу ночи. По уверениям предстоявших, лицо его в этот миг как будто просияло. Сейчас же раздался всеобщий вой и плач.
Митрополит, помочив хлопчатую бумагу, сам отер тело усопшего до пояса. Потом он отвел братьев Василия в переднюю избу и привел их к присяге Ивану и Елене, – чтобы жить им в своих уделах, а государства не хотеть, людей к себе не отзывать, а против недругов, латинства и басурманства, стоять заодно. К присяге были приведены также бояре, дети боярские и дворяне. Покончив с государственными делами, Даниил отправился утешать Елену. Она еще ничего не знала, но, увидав идущих к ней митрополита, мужниных братьев и бояр, догадалась обо всем, упала в обморок и пролежала в беспамятстве два часа.
Между тем Троицкий игумен Иоасаф с иноками своего монастыря убрали тело Василия, положили его на монашеский одр, взятый из Чудова монастыря, и отслужили заутреню, часы и каноны. Наутро к телу стали допускать народ, пришедший проститься с государем. В первом часу дня митрополит велел звонить в большой колокол и ископать могилу в меру в Архангельском соборе. В тот же день тело Василия было похоронено в каменном гробу возле гробницы его родителя.
Как знать, может быть, этим младенческим впечатлениям от похорон отца и обязан был царь Иван – хотя бы отчасти – каким-то страстным влечением к смерти и одновременно жутким страхом перед ней.
Глава 5
Разнобоярщина
Как будто человек обязан выбирать между унижением и возмездием.
А. Камю. Записные книжки
После смерти Василия в Кремле сложилась соблазнительная для многих ситуация. Впервые на московский престол воссел малолетка, опекаемый чужестранкой, дочерью литовского изменника, – какой отличный повод для игры честолюбий! Прекрасно сознавая шаткость своего положения, Елена прежде всего позаботилась о том, чтобы права ее сына были закреплены публичной церемонией. В псковской летописи сохранился рассказ об официальном поставлении малолетнего Ивана на великое княжение. В Успенском соборе собрались митрополит Даниил со всем причтом церковным, князья, бояре и простые москвичи. Благословив Ивана крестом, митрополит сказал:
– Бог благословляет тебя, государь, великий князь Иван Васильевич, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, Болгарский, Смоленский и иных многих земель царь и государь всея Руси! Добре здоров будь на великом княжении, на столе отца своего!
Присутствующие пропели многолетие и стали подходить к новому государю с подарками. По городам разослали гонцов с приказом воеводам приводить людей к присяге великому князю Ивану Васильевичу.
Со стороны законности власть нового правительства была как будто обеспечена. Но Елене не на кого было опереться: ее родственники и близкие люди являлись скорее ее врагами и соперниками, чем помощниками. На любовь и расположение Василиевых братьев, которым она с сыном загораживала дорогу к великокняжескому престолу, надеяться было нечего; опекунский совет стремился править именем малолетнего государя помимо ее воли; а ее дядя, князь Михаил Глинский, был не такой человек, чтобы делить власть с кем бы то ни было.
Молодая правительница нуждалась в надежном мужском плече. И вот рядом с ней появился князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский. Было ли его внезапное возвышение следствием давней связи с Еленой, или они сблизились только после смерти Василия, при посредничестве мамки Ивана и сестры Оболенского Аграфены Челядниной, об этом можно только гадать. Выше я уже имел случай привести доводы в пользу первого предположения. Даже оставляя в стороне вопрос о том, был ли Оболенский отцом Ивана, следует заметить, что молодой князь, несмотря на его близость к покойному государю (вспомним его роль на свадьбе Василия и Елены), все же не обладал настолько значительным весом при дворе и в думе, чтобы Елена могла надеяться с успехом противопоставить его своим влиятельным противникам. Скорее здесь можно увидеть выбор поневоле… Елена и Оболенский сразу появляются на исторической сцене, как бы спаянные общей судьбой, – такими они и покидают ее… Им было дано слишком мало времени, чтобы тайна их союза могла раскрыться, вольно или невольно; они не успели ясно заявить о своих притязаниях. Носил ли их союз вынужденный оборонительный характер? Или, быть может, они готовились сменить на московском престоле династию Калиты? Еще одно соображение заставляет подозревать их в честолюбивых замыслах. Согласно суздальскому преданию, сын Соломонии умер в возрасте семи лет, то есть в 1533 году. Год его смерти точно совпадает с началом правления Елены и Оболенского! И потом, эта пустая детская гробница, куда директор суздальского музея заглянул, очевидно, далеко не первым… Но кто же более Елены и ее фаворита был заинтересован в сокрытии всяких следов существования несчастного Георгия?
Как бы то ни было, крамола после смерти Василия обнаружилась быстро. Столь же незамедлительно последовал разящий ответ.
Елене донесли, что удельный князь Юрий Дмитровский присылал своего дьяка Третьяка Тишкова к московским боярам и князю Андрею Шуйскому – звать их к себе на службу. Шуйский попрекнул Тишкова, сославшись на присягу, которую давал князь Юрий, на что дьяк заявил: «Князя Юрия бояре неволей привели к целованию: так что это за целование?» Шуйский передал эти слова Елене и опекунскому совету. Юрий был схвачен, посажен в тюрьму, где спустя два года и умер, вероятно уморенный голодом и тяжелыми условиями содержания.
Следующей жертвой властолюбия Елены пал князь Михаил Глинский. Крепко обманувшись в своих надеждах управлять племянницей, он начал открыто укорять ее в беззаконном и бессовестном сожительстве с Оболенским. В ответ рассерженная Елена упрятала своего знаменитого дядю в темницу. Герберштейн передает, что его обвинили в отравлении Василия, подобно тому как в Литве его обвиняли в намерении отравить великого князя Александра. Если это известие верно, то Елена со своим любимцем предстают перед нами людьми весьма неразборчивыми в средствах. Вместе с Глинским пали другие члены опекунского совета – князья Иван Федорович Бельский и Иван Михайлович Воротынский: их также заключили в тюрьму. Князь Семен Бельский и Иван Ляцкий, родственник Захарьиных, подались в Литву от греха подальше. Шуйские уцелели, за исключением князя Андрея Михайловича, которому не пошел впрок донос на князя Юрия, – он тоже очутился в темнице.
Другой брат Василия, князь Андрей Старицкий, не замешанный в деле князя Юрия, некоторое время спокойно жил в Москве. Собравшись затем к себе в Старицу, он в нарушение присяги стал выпрашивать на дорожку еще городов в удел. Ему резко отказали и только дали в память о покойном брате и государе дорогие шубы, кубки и коней. Андрей уехал, не скрывая неудовольствия. Тогда одни доброхоты шепнули Елене и Оболенскому о неудовольствии удельного князя, другие предупредили Андрея, что его хотят схватить.
Елена стала звать Андрея обратно в Москву, стараясь успокоить его: «Не слушай лихих людей и стой крепко на своей правде. А у нас на сердце ничего против тебя нет». Но Андрей, видя участь князя Юрия, не доверял ласковым речам и в Москву не ехал. Тогда появился новый донос, что он хочет убежать в Литву. Обеспокоенная Елена повторила свое предложение приехать, под предлогом открывшейся тогда войны с Казанью. Андрей ответил, что болен, и попросил прислать лекаря. Елена направила к нему доктора Феофила, который, возвратясь, донес, что у Андрея болезнь легкая – болячка на ляжке, а он лежит между тем в постели. Поведение Андрея усилило подозрительность Елены. Последовало новое приглашение в Москву – и опять пришел отказ. Наконец Елена потребовала от Андрея быть на Москве непременно. Андрей ответил письмом на имя Ивана, от чьего лица вершились все дела: «Ты, государь, приказал к нам, чтобы нам непременно у тебя быть, как ни есть. Нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни… А прежде, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили. И я, от болезни и от беды, с кручины отбыл ума и мысли». Что было у него на уме, смотрел ли он в сторону Литвы, неизвестно. Но вдруг он узнал, что его гонец с письмом схвачен по дороге, а князь Оболенский выехал в поле со многими людьми, чтобы перекрыть ему дорогу в Литву. Андрей в страхе побежал с женой и детьми в Новгород. Отсюда он разослал грамоты к новгородским помещикам, приглашая их к себе на службу: «Великий князь мал, а государство держат бояре: у кого же вам служить? Приходите ко мне – я готов вас жаловать». Многие дворяне и дети боярские подались к нему. В самом Новгороде архиепископ Макарий и наместники удержали народ от бунта.
Войско князя Оболенского преследовало беглого князя по пятам и настигло недалеко от Новгорода. Противники встали друг против друга. Андрей не решался начать битву, ибо не был уверен в своем войске (накануне его караулы поймали сына боярского, пытавшегося переметнуться к Оболенскому; на пытке он назвал такое множество сочувствующих ему людей среди воинства Андрея, что князь предпочел оставить дальнейший розыск). Он обратился к Оболенскому, прося правды. Фаворит именем Елены обещал ему прощение, если он поедет в Москву. Андрей поверил и сложил оружие. Но Елена не проявила благородства. Скорее всего, между ней и Оболенским уже существовало соглашение на этот случай. Она возмущенно заявила, что не давала никаких обещаний. На Оболенского для виду был положен государев гнев. Андрея же бросили в тюрьму, чтобы впредь такой смуты не было, а то многие московские людишки от того поколебались, – правительство Елены, как видно, не имело большой поддержки в народе. Вместе с князем были заточены его жена Евдокия и сын Владимир – их мытарства начались задолго до того, как им пришлось иметь дело с Грозным.
Внутренние усобицы перемежались с внешними войнами. Три года повоевали с Польшей и Литвой, опустошили литовские пограничные земли, сами потерпели немало и заключили перемирие на пять лет. На востоке пришлось отбиваться от казанцев, которые пограбили Костромской уезд. Собрались было и сами в гости наведаться, но тут крымский хан пригрозил: коль пойдет московский князь на Казань войною, то пусть его, хана, на Москве смотрит. Пришлось отвечать, что великий князь мира хочет. Шестилетний Иван впервые принял иностранных послов – казанцев.
Дела управления шли обычным чередом – не хуже и не лучше, чем всегда. В Москве Китай-город был обнесен рвом и каменной стеной с четырьмя башнями. На границах появились новые крепости – Мокшан, Буйгород, Балахна, Пронск; Владимир, Ярославль, Тверь, Кострома, Вологда были укреплены заново. Приняты и испомещены в разных русских землях беженцы из Литвы – триста семей. Для борьбы с порчей монеты велели поддельщикам и обрезчикам лить в рот олово и отрубать руки и выпустили в обращение новую монету, на которой великий князь был изображен не с мечом, как прежде, а с копьем, – копейку.
Казалось, жизнь улыбалась Елене – внутренние враги были повержены, внешние не особенно досаждали… И вдруг 3 апреля 1538 года, во втором часу дня, она скоропостижно скончалась. Летописи ни словом не упоминают о ее предварительной болезни; Герберштейн утверждает, что великая княгиня была отравлена боярами. В тот же день ее погребли в Вознесенском девичьем монастыре, где находилась усыпальница царских особ женского пола. В летописи не упомянуто даже, чтобы митрополит совершил над ней отпевание. Народ и бояре не выказали ни малейшей скорби. Плакали и горевали по умершей только малютка Иван да князь Оболенский.
Прошла с ее смерти всего неделя, и «боярским советом князя Василия Шуйского и брата его князя Ивана и иных единомысленных им» князь Оболенский был взят – «и посадиша его в палате за дворцом у конюшни и умориша его гладом и тягостию железной».
Смерть кружилась вокруг своего маленького любимца, ходила за ним по пятам, склонялась над его детской кроваткой, заглядывала ему в очи… Слишком рано дано было Ивану ощутить на своих губах вместе с детскими слезами горький привкус небытия, почувствовать бренность человеческой жизни. И, еще не постигая ее величие, он отлично понял ее ничтожество…
* * *
Власть опекунского совета (в котором не хватало только умершего князя Михаила Глинского) была восстановлена. Бояре оказались правителями Русской земли. То, на что они уже не смели и надеяться, сбылось. Железная рука московского самодержавия не просто ослабила хватку на их горле, но совершенно разжала пальцы и бессильно повисла. Наступил благоприятнейший момент, когда беспощадной централизаторской политике московских князей можно было противопоставить более мудрый и взвешенный государственный подход, если таковой, конечно, имелся.
И тут выяснилось, что никаких политических целей и программ у боярства нет. Оно показало полную неспособность блюсти не только государственный и династический, но даже и собственный сословный интерес. Государство в его глазах было не государством и даже не вотчиной, а какой-то завоеванной землей, в которой можно чинить самый дикий произвол. Место политики заступили личные страсти, место идей – инстинкты; семейная вражда подменила борьбу партий и направлений. «Всякий пекся о себе, а не о земских и государских делах», – печально замечает летописец.
Первое место в опекунском совете и в думе заняли старейшие Рюриковичи, князья Шуйские, потомки суздальско-нижегородских князей, которые были лишены своих отчин великим князем Василием Дмитриевичем, долго не желали покориться своей участи и только при Иване III перешли на службу московским государям. Главой рода Шуйских был князь Василий Васильевич. О его характере дает представление следующий случай. Василий III назначил его наместником во вновь приобретенный Смоленск. После поражения русских войск при Орше многие знатные смоляне вступили в тайные переговоры с литовским воеводой князем Острожским, шедшим к городу. Шуйский прознал об измене. Когда Острожский появился под Смоленском, он увидел на его стенах повешенных заговорщиков, при каждом из которых был какой-нибудь подарок, полученный недавно от Василия III за передачу города под государеву руку: одни висели в дорогих собольих шубах, у других на груди был серебряный ковш и так далее. Крутая и незамедлительная расправа Шуйского над заговорщиками возымела действие: изменников в Смоленске больше не оказалось, вести переговоры стало не с кем, и князь Острожский отошел от города.
Подобную жестокую решимость князь Василий Васильевич проявил и после смерти Елены, когда речь зашла о его личных и родовых интересах. Он немедля устранил от великого князя всех, кто имел на него хоть малейшее влияние. Мы уже видели, как он расправился с Оболенским. Пострадала также и мамка Ивана, Аграфена Челяднина, которую малолетний государь очень любил, – ее сослали в Каргополь, в монастырь. Другого способа управлять государством, кроме как чинить на каждом шагу произвол и насилие, Шуйский, видимо, себе не представлял. Будучи псковским наместником, он оставил по себе недобрую память баскака и темника; люди же его, говорит летопись, были «аки звери дикии до христиан, и начали поклепцы на добрых людей клепать, и разбежались добрые люди по иным городам, а игумены честные из монастырей убежали в Новгород».
Недовольные всесилием Шуйских сплотились вокруг князя Ивана Федоровича Бельского, освобожденного из заточения в числе других бояр, пострадавших во время правления Елены. Бельские-Гедиминовичи, не уступавшие Шуйским в древности рода, попытались оспорить у них право распоряжаться всеми делами. Вместе с примкнувшими к ним митрополитом Даниилом и думным дьяком Федором Мишуриным они сумели именем малолетнего Ивана возвысить некоторых угодных им лиц. Это страшно озлобило Шуйских. Разгорелась ничем не прикрытая придворная война, «встала вражда между боярами великого князя», по выражению летописца. Бельский вновь попал в заключение, его сторонники были разосланы по городам. Мишурина Шуйский велел своим детям боярским схватить и ободрать на своем дворе; затем его, нагого, бросили на плаху и обезглавили, – «не любя того, что он за великого князя дела стоял». Распоясавшемуся временщику не понадобилось для этой казни ни государева, ни думского согласия. Митрополита Даниила пока не тронули, потому что Шуйские скоро сами понесли чувствительную потерю – в октябре 1538 года умер князь Василий Васильевич. Род Шуйских возглавил его брат Иван Васильевич. Он докончил начатое. Уже в феврале следующего года митрополита Даниила сослали в Волоколамский монастырь, где он прежде был игуменом, – «за то, что он был в едином совете с князем Иваном Бельским». Там его заставили подписать грамоту об отречении от митрополии, причем составленную в самой оскорбительной форме: Даниил снимал с себя сан не по болезни или немощи, а по неспособности к такому высокому служению. Вместо него в митрополиты был поставлен игумен Троице-Сергиевой обители Иоасаф Скрипицын. Святители, одобрившие низложение старого митрополита и избравшие нового, конечно, немало погрешили против церковных правил. Русская Церковь вступала в период глубокого упадка, потакания мирским властям и забвения своей духовной независимости и святительского авторитета. В последующие десятилетия она еще оказалась способной выдвинуть из своих рядов несколько замечательных фигур, но эти одинокие светочи христианства не столько разгоняли мрак, сколько заставляли острее ощутить непроницаемость сгустившейся вокруг них тьмы.
Жизнь на Москве для честных людей сделалась невыносимой. Например, архитектор Петр Фрязин, приехавший при Василии III в Москву из Рима, принявший православие, женившийся на русской и получивший поместья, почел за лучшее убежать в Ливонию. Там, на вопрос дерптского епископа, что побудило его оставить Московию, он ответил, что «великого князя и великой княгини не стало, государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы в земле никому нет, между боярами самими вражда, и уехал я от великого мятежа и безгосударства». Последнее слово, как известно, имеет греческий эквивалент – «анархия».
Митрополит Иоасаф отказался быть игрушкой в руках Шуйских. Летом 1540 года он с некоторыми боярами осмелился ходатайствовать перед великим князем об освобождении Бельского. Опальный князь получил свободу. Это стало первым известным нам волеизъявлением Ивана Васильевича, которому было тогда десять лет. Он начинал правление актом прощения и милосердия!
Шуйские были застигнуты врасплох. С досады они самоустранились от дел. «И о том вознегодовал князь Иван Васильевич Шуйский, – пишет летописец, – на митрополита и на бояр учал гнев держати, и к великому князю не ездити, ни с бояры советовати о государских делах… а на князя Ивана Бельского великое враждование имети и зло на него мыслити».
Сам Грозный позднее приписывал этот переворот своей державной воле: «Мне же в возраст достигшу, не восхотех под рабскою властию быти, и того ради князя Ивана Васильевича Шуйского от себя отослал на службу, а у себя велел есми быть боярину князю Ивану Федоровичу Бельскому». Конечно, он преувеличивает, но само его стремление государствовать в десятилетнем возрасте стоит отметить.
Началось правление Бельских и митрополита Иоасафа, ставших «первосоветниками» у государя. Ничего выдающегося или просто заметного сделано ими не было, но по сравнению с предыдущими неистовствами Шуйских новое правление отличалось мягкостью и гуманностью; открытые беззакония прекратились. Пскову возвратили его старинное право собственного суда по уголовным делам при посредстве выборных целовальников (присяжных), независимо от московских наместников – «и была христианам радость и льгота большая от лихих людей, от поклепцев, от наместников… Злые люди разбежались, стала тишина». Из тюрьмы вышли жена и сын удельного князя Андрея Старицкого – Владимиру Андреевичу даже возвратили отцовский удел. Милость была оказана и другому удельному князю – Дмитрию Угличскому, племяннику Ивана III, уже около полувека сидевшему в оковах в Вологде: с него сняли цепи, но темницы не отворили. Бельский думал воротить и своего сбежавшего брата, Семена Федоровича, но тот уже давно метался между Литвой и Крымом, подымая грозу против своего отечества. Набеги казанцев и крымцев, казалось, сплотили враждующие боярские роды и направили их энергию на защиту государства. Летом 1540 года крымский хан Сагиб-Гирей вторгся на Русь со всей ордой, оставив в Крыму только старых и малолетних; с ним шли турки, ногаи, кафинцы, астраханцы, азовцы – всего около ста тысяч человек. Москва была в страшной тревоге. Государь Иван Васильевич пришел в Успенский собор, молился у иконы Владимирской Богоматери и у гроба митрополита Петра чудотворца и потом спросил у митрополита Иоасафа и бояр: оставаться ли ему в Москве или ехать в другие города? Бояре единодушно ответствовали: быть государю в Москве. Тогда стали запасаться пищей, ставить по местам пушки, расписывать людей по воротам, по стрельницам и по стенам. Великий князь писал воеводам, стоявшим на пути хана, чтоб промеж них не было розни и чтоб они за святые церкви и за православное христианство крепко пострадали; а он, великий князь, рад жаловать не только их самих, но и детей их. Государево послание воодушевило войско. Воеводы с умильными слезами обратились к воинству: «Укрепимся, братья, любовью, помянем жалованье великого князя Василия! Государю нашему, великому князю Ивану, еще не пришло время самому вооружиться, еще мал. Постраждем за государя и за веру христианскую! Смертные мы люди: кому случится за веру и за государя до смерти пострадать, то у Бога незабвенно будет, и детям нашим от государя воздаяние будет». Ратные люди ответствовали: «Рады государю служить и за христианство головы положить, хотим с татарами смертную чашу пить!»
Утром 30 июля Сагиб-Гирей появился на берегах Оки и начал переправу. Передовой полк Пронского было дрогнул, но на помощь ему поспешили со своими отрядами князь Микулинский, князь Серебряный, а за ними показались полки князей Курбского, Ивана Михайловича Шуйского и Дмитрия Бельского. Хан не ожидал такой встречи и сказал изменнику Семену Бельскому и его людям: «Вы мне говорили, что великого князя люди в Казань пошли и что мне встречи не будет, а я столько воинских людей в одном месте никогда и не видывал». Не дав сражения, он ушел в орду той же дорогой. Русские преследовали его до самого Дона и возвратились с победой. Государь на радостях пожаловал воевод великим жалованьем, шубами и кубками.
В общем, правление Бельских обещало много хорошего, однако оно быстро пало. Князья Михаил и Иван Кубенские, Дмитрий Палецкий, казначей Иван Третьяков, многие думные дворяне и дети боярские вознегодовали на Бельских и Иоасафа за их первенствующее положение; мятежников поддержали новгородцы. Составился заговор в пользу князя Ивана Шуйского, который в это время находился во Владимире с войском, в ожидании приказа выступить против казанцев. Заговорщики назначили ему срок, когда он должен был прибыть в Москву, – 3 января 1542 года.
То, что произошло в этот день в Кремле, превзошло по дикости все предыдущие выходки Шуйских. «И бысть мятеж велик… на Москве и государю страхование учиниша».
В ночь на 3 января Иван Шуйский со своими людьми без приказа государя скрытно вступил в Москву; еще раньше сюда прибыли его сын Петр и Иван Большой-Шереметев с толпой вооруженных слуг. За три часа до света они напали на двор Бельского и захватили спящего временщика. Затем в Кремле был учинен настоящий погром. За сторонниками Бельского гонялись по всему дворцу, а одного из них – боярина Щенятева – выволокли задними дворами из государевых палат, где тот надеялся укрыться. На митрополита Иоасафа заговорщики накинулись с особым ожесточением: окна его кельи забросали камнями. Испуганный митрополит искал спасения во дворце, но мятежники ворвались туда вслед за ним, подняли страшный шум, разбудив и напугав великого князя. Иоасаф побежал на Троицкое подворье, но дворяне и дети боярские с ругательствами преследовали его и там. Владыку едва не убили: он остался жив лишь благодаря заступничеству Троицкого игумена Алексея и князя Дмитрия Палецкого, которые именем Сергия чудотворца вырвали его из рук разбушевавшихся погромщиков. Иоасаф был сослан в Кириллов монастырь на Белоозеро, оттуда переведен в Троице-Сергиеву обитель, где и скончался. Бельского ждала та же участь: сосланный в Кирилло-Белозерский монастырь, он вскоре был убит там по приказанию Шуйских.
На митрополичий престол был возведен Новгородский архиепископ Макарий. Сам он в своем духовном завещании свидетельствует, что всеми силами противился этому назначению, однако был понужден принять сан не только всем собором святителей, но и самим благочестивым царем Иваном Васильевичем и не посмел ослушаться. Этот выбор был самый счастливый, и, если Шуйские приложили к нему руку, мы должны чистосердечно поблагодарить их за это.
Вновь наступило время засилья Шуйских. Правда, князь Иван Васильевич вскоре по болезни удалился от двора. Вместо него старшую линию рода возглавили князья Андрей и Иван Михайловичи Шуйские и Федор Иванович Скопин-Шуйский (дед знаменитого героя Смутного времени). Первенствовал князь Андрей так же нагло и свирепо, как и его предшественник, творивший все, что ему вздумается. Летопись характеризует его одним словом – «злодей»; для своего обогащения он пересматривал старые судебные дела, правя с ответчиков по сто рублей и больше, «а во Пскове мастеровые люди все делали для него даром и большие люди подаваша к нему дары».

Псари по приказанию Иоанна хватают князя Андрея Шуйского.
Рисунок И. Дмитриева-Оренбургского
Позднее Иван Грозный так описывал боярское самоуправство в годы своего малолетства: «Они наскочили на грады и села, ограбили имущество жителей и нанесли им многоразличные обиды, сделали своих подвластных своими рабами, и рабов своих устроили как вельмож; показывали вид, что правят и устраивают, а вместо того производили неправды и нестроения, собирая со всех неизмеримую мзду, и все творили… не иначе, как по мзде».
Летописец подтверждает его слова, приравнивая правление бояр к татарским набегам: «Тамо бо языцы поганые христиан губяху и воеваху, зде же бояре и воеводы мздами и налогами и великими продажами христиан губяху. Такожде и обычные дворяне и дети боярские и рабы их творяху, на господ своих зряше. Тогда же в градах и селах неправда умножися, и восхищения и обиды, татьбы и разбои умножишася, и буйства и грабления многие. И во всей земле бяше слезы и рыдания и вопль мног».
Теперь ни один боярский род не мог соперничать с Шуйскими. Опасность для них могла исходить не от влиятельной фамилии, а от людей, находившихся в непосредственной близости к государю, и они ревниво следили за окружением Ивана. Вскоре Шуйские с неудовольствием заметили привязанность тринадцатилетнего государя к молодому боярину Федору Семеновичу Воронцову.
9 сентября 1543 года во дворце разыгралась сцена, превосходящая всякое воображение. Трое Шуйских и их сторонники – князья Шкурлятев, Пронский, Кубенский, Палецкий и боярин Алексей Басманов – в столовой избе у государя, в присутствии самого Ивана и митрополита, схватили Воронцова, стали бить его по щекам, оборвали на нем платье и хотели убить – «за то, что его великий князь жалует и бережет». Митрополит Макарий пытался вступиться за Воронцова, но безуспешно; более того, один из буянов наступил на мантию владыки и разодрал ее. Только мольбы и слезы ребенка-государя удержали Шуйских от кровавой расправы над неугодным им человеком. Воронцова оставили в живых – «для государева слова» – и сослали в Кострому.
Но это было последнее безнаказанное боярское самовольство.
29 декабря того же года Иван неожиданно для всех велел схватить князя Андрея и отдать псарям, которые поволокли «злодея» к тюрьмам и по дороге убили его; изуродованный труп «лежал наг в воротах два часа». Пособники Шуйских были разосланы по городам. Жестокая расправа со всемогущим князем привела бояр в оцепенение. «С этих пор, – говорит летописец, – начали бояре от государя страх иметь и послушание».