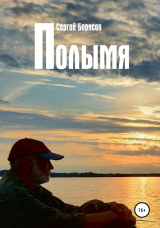
Текст книги "Полымя"
Автор книги: Сергей Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Давно надо было это сделать – проредить. А он хранил, будто невесть какую ценность. Также свои вырезки хранил отец – не выбросил, а стянул папки потуже завязками и убрал на антресоли. Как немых свидетелей прошлого, избавиться от которых – все равно что утратить часть себя.
–
Первым порывом, когда он обнаружил отцовские захоронки, было свалить их в большие черные мешки – так он поступил с носильными вещами. Эти мешки Олег прихватил с кладбища, уже тогда зная, что понадобятся. Можно было бы и купить, невелика цена и совсем не редкость, но тут они раздавались бесплатно, а коли так, отчего не взять? Прибиравшиеся на могилах наследники и потомки доверху набивали мешки палой листвой – кладбище было старым, укрытым деревьями, – а он запихивал в них носки и трусы, майки, рубашки, шляпы, ботинки, костюмы, куртки, жилеты, драповое пальто.
На это пальто долго и оценивающе смотрела мать, когда заехала на квартиру бывшего мужа – на разборки, не в нынешнем, когда выясняют отношения, а в прежнем понимании слова. Вроде бы даже потянулась, но рука опустилась, повисла плетью. Мать не взяла ничего, кроме нескольких фотографий. Уже в дверях сказала: «Владей», – и застучала каблуками по лестнице. Отец жил на пятом этаже «хрущевки», так что ходу отсюда было только вниз.
Пальто Олег затолкал в отдельный мешок. Всего их набралось шесть – с годами люди обрастают вещами, потому что им все труднее от них избавляться. Олегу до этой стадии, хотелось верить, было еще далеко, и ставшие ненужными шмотки – чуть порванные или испачканные, но пригодные к носке, да просто разонравившиеся, – он выносил к мусорным контейнерам во дворе. Там, что надевается, вешал на ограду, во что обуваются, ставил подле нее. Через пару часов вещи исчезали, и он ни разу не видел, кто их уносит. Копавшихся в баках наблюдал часто, а вот чтобы кто проявлял интерес к развешанному на ограде или обуви, не доводилось ни разу. Но вещи исчезали, и не было в том никакой мистики, а значило только одно: кому-то они были нужны – по болезни крохоборчества или по крайней бедности.
Поступить так же с отцовским гардеробом было разумно, но абсолютно невозможно. Почему, Олег не смог бы объяснить, но было бы в этом что-то неправильное. И вообще, каково это – увидеть пальто отца на забулдыге, сшибающем у станции метро мелочь на опохмел? Нет уж.
Он сделал иначе – из романтических, идеалистических, да хоть бы и психопатических побуждений. Загрузил мешки в багажник «мазды» – два не поместились, их запихал в салон – и отправился за МКАД на полигон бытовых и строительных отходов, по которому днем и ночью в свете прожекторов елозили огромные желтые бульдозеры.
–
На этом полигоне он впервые оказался на излете своей журналистской карьеры. Ведущая городская газета, откликаясь на поручение сверху, желала восславить усилия столичных властей по утилизации мусора. Облечь все в слова было поручено специальному корреспонденту Дубинину. И он поехал, и восславил со всем усердием. Но этим не ограничился. В популярном и очень «зубастом» либеральном журнале тиснул очерк о человеческом отребье, прибившемся к полигону.
Встретили его в журнале с объятиями, но материал к публикации приняли не сразу. После резановского фильма про обетованные небеса и паровоз, который доставит туда всех нищих телом, но не духом, всех обиженных, оскорбленных, обездоленных, довольно долго отношение интеллигентских масс к бомжующим было не по виду их и не по сути. Впрочем, такие были годы, когда на улице оказывались люди, того вовсе не заслуживающие – не пьяницы, не гуляки, не тронутые умом, а просто не вписавшиеся в новые экономические условия: потерявшие работу, обманутые строителями «пирамид», безоглядно поверившие посулам новых властей и получившие дефолтом под дых. Этих людей и впрямь впору было пожалеть, но сильные выкарабкивались, не требуя сочувствия, а слабые быстро превращались в то, что его недостойно. Во всяком случае, Олег пересилить себя не мог, у него жалости не было.
В стойбище бомжей – они ютились в хижинах из ДСП, под навесами из билбордов, ставших ненужными после последних выборов, в землянках – он увидел опустившихся, опухших существ, которые когда-то были мужчинами и женщинами. Задарма – ни в какую, но за поллитру любой здесь готов был поведать историю своего падения, в чем, конечно же, не было его или ее вины, но лишь стечения обстоятельств, естественно, «непреодолимой силы», как не без налета сарказма отметил Олег в своем тексте. В числе прочего в ходу была неразделенная любовь – бомжихам это представлялось веской причиной, они даже слезу пускали, говоря о бросившем их женихе или ушедшем к какой-то шалаве муже. Их нынешние партнеры, мрачнея синюшными мордами, во всем винили предавших их жен и отрекшихся детей.
Олег поговорил со многими. Не скупясь, потратился на выпивку. И что услышал, увидел, то и написал. При этом к печальным выводам не подталкивал, морализаторством не занимался, милость к падшим не призывал. Именно это охладило первоначальный пыл редактора журнала.
«Так кто же виноват в их бедственном положении?» – спросил он строго.
Олег пожал плечами.
«Кризис, спровоцированный властью! – отчеканил редактор голосом, знакомым миллионам радиослушателей: на одной из FM-радиостанций у него была именная программа, целый час по четвергам. – Это результат ее преступной бездеятельности, наплевательства на простых граждан».
Олег слышал подобные обличительные речи тысячи раз, только с противоположным адресом. На планерках в газете, рупоре городского начальства, с той же непримиримостью клеймили краснобаев, казалось бы, полностью себя дискредитировавших в 90-е, почти захлебнувшихся в вылитых на них помоях, но выживших, отдышавшихся и теперь смеющих что-то вякать. Да как их только Кремль терпит, грантоедов!
«Нужен выпад – резкий, разящий, убийственный. Сделаешь?»
Олег покачал головой.
«Тогда извини, но в таком виде этот материал в нашем журнале опубликован не будет».
«Не вопрос. Нет, так нет».
Редактор снял очки, выхватил из рукава пиджака платок и стал протирать стекла:
«Олег, мне известно, где ты работаешь. Представляю, как тебе непросто среди чинодралов и подхалимов, и тем не менее ты остаешься лояльным режиму. Соглашусь, у каждого из нас свои резоны, свой предел прочности, но нельзя прогибаться до бесконечности! И все же я не сужу и не осуждаю, и уговаривать тебя, прельщать двойным гонораром не собираюсь, я лишь спрошу еще раз: внесешь правку?»
«Нет».
«Почему?»
«Лень».
«Ну, знаешь…»
«Я знаю, что этот материал – такой, какой есть, – возьмут другие, на вашем журнале свет клином не сошелся. Возьмут, и ты это тоже знаешь».
«Да, – вынужден был согласиться редактор. – С принципами сейчас не очень, а ты «золотое перо», умеешь подать товар лицом. За то и ценим».
«Мерси за комплимент. Так я пошел?»
«Куда?! Ишь, намылился. Сиди!»
«Сижу», – Олег был сама покладистость.
«Вот и сиди. Ладно, очерк твой мы берем.
«Но чтобы без отсебятины: не вычеркивать, не дописывать».
«Обижаете, товарищ спецкор, мы в мухлеже не замечены».
«Это я на всякий случай. Любое правило когда-нибудь нарушается. Так вот чтобы не на мне споткнуться».
«Тоже мне… кочка. Ты лучше скажи, как подписывать будешь? Своим именем?»
«Я похож на самоубийцу? Или мне моя работа не дорога? Псевдонимом».
«Трусишь! – уличил и даже обрадовался собеседник. – А как же принципы?»
«Я о них даже не заикался. Это твоя прерогатива: ум, честь, совесть. А я просто ленюсь. И ничего больше и краше».
«Выкрутился? – Редактор водрузил очки на переносицу. – Хороший ты парень, Дубинин, но я бы с тобой в разведку не пошел».
«Я бы с тобой тоже».
Через неделю статья о бомжах с мусорного полигона была напечатана и даже вызвала нешуточную дискуссию среди слушателей радиопрограммы редактора-ведущего. Тот ее умело срежиссировал, очертил полярные мнения, столкнул спорщиков лбами, а в заключительном слове отважно бросил обвинение власть предержащим: доколе?
Вместе с тем по отношению к Олегу он повел себя порядочно: текст остался в исходной версии, а настоящее имя автора фигурировало только в бухгалтерской ведомости. Хотя для представителей масс-медиа не стало секретом, кто сие сотворил. И в родимой редакции тоже были в курсе, но проглотили молча: все-таки под псевдонимом – сам прикрылся, коллег впрямую не подставил и другую статью о полигоне написал, хвалебную, в ней про бродяг и нищих ни слова. А что это значит? Это значит, наш человек, конъюнктуру чувствует и фишку рубит.
Олег в эти дни был настороже: на провокационные вопросы не отвечал – отшучивался, на дружеские подначки глаза не закатывал. Он ждал, когда уляжется волна, ибо таков закон журналистики: любая сенсация выдыхается, любая новость умирает, вопрос лишь в сроках, для одной достаточно недели, для другой часов.
И еще он спрашивал себя: а зачем тебе, мил человек, это было надо – бомжи, их истории, зачем надо было об этом писать, а написанное продавать? Нет, конечно, гонорар карман не тянет, но он лишь сопутствующее явление и уж точно не причина – не настолько велик, хотя и весом.
Олег крутил и так, и эдак, и по всему выходило, что им двигало тщеславие, которое всегда идет рука об руку с гордыней, тщеславие особого рода, когда требуется не столько восхищение окружающих, сколько собственное одобрение: да, паря, не могёшь, а могешь!
Признание сего факта было малоприятным, но, прозвучав, от него уже некуда было деться. Разве что притушить, и Олег отправился на полигон. Бомжи, не ведавшие, что стали героями очерка, его узнали, водке с закуской обрадовались, тут же стали откупоривать и распаковывать. Ради этого все дела были отложены. Те, кто рылся на склонах мусорной горы, потянулись к ее подножию. Те, кто обжигал провода и кабели, – за «цветмет» здесь же, неподалеку, скупщики давали неплохие деньги, – тоже оставили свои труды. Собравшись в кружок, пустили по рукам пластиковые стаканчики. Пили торопливо и без лишних разговоров. Только мужик, толстый, багровый, с отвислыми брылями, делающими его похожим на престарелого бульдога, он здесь был за вожака, просипел сорванным голосом: «Благодарствуем». А потом, оглядев свою гоп-компанию, рявкнул: «Размочились – и баста». Бомжи тихо загудели, но перечить никто не посмел, да и бутылка с остатками водяры была в лапище их предводителя. Распрямляя ссутуленные плечи, одни вернулись к кострам, остальные полезли наверх – туда, где разворачивались, готовясь в разгрузке, «камазы»-мусоровозы.
«С чего такая щедрость?» – наконец поинтересовался вожак.
«От широты душевной. – Олег достал сигареты. – Будешь?
«Не курю. – Бомжига в два глотка добил бутылку, кхекнул и пояснил: – Берегу здоровье».
–
Он ехал на полигон в машине, набитой раздувшимися, будто обожравшимися мешками, не зная, там ли, в чахлом перелеске, еще стойбище бомжей. Но куда они денутся?
Столько лет прошло, и он не рассчитывал увидеть знакомые, хотя уже полустершиеся в памяти лица. Так и оказалось, лишь «бульдог» был на посту, и брыли при нем. Он все так же покрикивал на своих «бойцов» и отказался от предложенной сигареты.
«Отец, значит. Понимаю».
Это было видно по прищуру, да по всему, что он действительно понимает, почему Олег не выбросил вещи в контейнер у дома, почему привез сюда, почему не хочет раздать, а ведь взяли бы, расхватали!
«Сделаем в лучшем виде».
Вожак окликнул двух доходяг, таких зашуганных, пришибленных, что дальше, кажется, и некуда, только в могилу. Те подошли в готовности выполнить любое повеление: скажут «укради» – украдут. А если скажут «убей»?
В две ходки мешки перенесли к костру, в котором исчезала, пузырясь, превращаясь в черные капли, изоляция брошенного в огонь кабеля. Целый ворох его обрезков валялся рядом в ожидании своей очереди.
Ни малейшего интереса к тому, что в мешках, босяки не проявили. Дотащили, свалили и встали в ожидании дальнейших распоряжений.
«По одному», – приказал их повелитель.
Первый мешок лег на витки кабеля, на мгновение надулся, как воздушный шар, и лопнул. Дым над костром стал гуще.
Последний мешок разорвался. На землю вывалилось пальто. Олегу на память пришло когда-то вычитанное: «Драп хохотунчик три копейки километр». Но о чем шла речь, это не удержалось, да и неважно, тут броскость важнее точности, ирония – смысла, форма – содержания.
Доходяги оживились. Один нагнулся…
«Не трожь!» – пролаял «бульдог».
«Пусть берут», – сказал Олег. А что еще он мог сказать?
«Не трожь!» – повторил главный по стойбищу, поднял пальто и бросил его в костер. В этом коротком полете пальто развернулось, и полы его стали крыльями.
Они еще постояли, глядя, как скукоживаются, обугливаются, обращаясь в прах когда-то купленные, когда-то носившиеся вещи, в каждой из которых была частица судьбы человека.
«Memento mori», – изрек вожак.
Олег, совсем не удивившись познаниям повелителя помоечных жителей, посмотрел на него, соглашаясь, что о смерти нужно помнить, но вспоминать лучше пореже, иначе жизнь станет невыносимой, а ее завершение желанным избавлением от безрадостных мыслей.
Он сходил к машине и вернулся с пакетом, в котором обещающе звякало, а острые углы упаковок с колбасой и сыром норовили проткнуть целлофан.
«Вот, – он протянул пакет. – Спасибо. Удружил».
Бомж пакет взял, внутрь не заглянул, сказал:
«Надеюсь, не увидимся больше».
«И я надеюсь».
–
Когда уезжал, Олег сразу же попал в пробку: на перекрестке царапнулись два автомобиля, водители кинулись выяснять отношения, и дорога встала. Он посидел, подождал, потом выбрался наружу. Глянул поверх крыш замерших машин. На перекрестке спор грозил перерасти в драку.
Он закурил, глядя на мусорную гору, очертаниями похожую на знаменитую скалу Улуру в австралийской пустыне. И одновременно на гигантский батон, зачерствевший и подернувшийся плесенью. Когда-нибудь, и, может быть, уже скоро, полигон закроют. Затем будут долго ломать голову, что с ним делать. В конце концов придумают: рекультивируют, присыплют неотравленной землей, расставят подъемники, протянут канаты, и появится в ближайшем Подмосковье новая горнолыжная трасса. И тут уже не будет места ни бомжам, ни их стойбищу. Они растворятся. Пройдет несколько лет, и единственным подтверждением того, что они существовали под мудрым водительством брылястого вождя, будет статья в либеральном журнале, подписанная псевдонимом – автором, которого нет. Memento mori.
Впереди загудели зло и требовательно. Машины задергались. Видимо, царапнувшиеся все же разобрались.
Олег вернулся за руль. На двери фургона, стоявшего перед ним, были намалеваны фрукты – настолько аляповато, что помещенный в центр композиции ананас смахивал на ручную противопехотную гранату «Ф-1», только на «лимонку» зачем-то сверху шлепнули пучок похожих на птичьи клювы листьев.
Такие ананасы, образцово-показательные, толстенькие и будто лаком покрытые, декора ради во множестве красовались на столах ресторанной зоны отеля в Таиланде. Туда они ездили с Ольгой и Лерой, семьей. Там, в шезлонге под пальмой, прихлебывая джин с тоником и часто поднося к уху диктофон, он и написал очерк о подмосковной свалке и ее обитателях.
Вокруг было тропическое благолепие с потугой на роскошь, и миниатюрные тайки, слетевшиеся на побережье в поисках работы, готовы были всячески служить клиенту: «Пива? Да, мистер… Что-нибудь еще? Массаж?» Должно быть, поэтому, на контрасте, сцены жизни мусорного стойбища получались яркими, сочными, объемными. Настолько, что при желании, обладая избирательным и пристальным взглядом, в этом частном можно было увидеть общее: параллели, тенденции. Эх, Расея! Неизбывна и горька твоя участь. И как ясно видится это издалека! Совсем по-есенински: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье». И виделось… Самые проникновенные слова о Родине писатель Тургенев сочинил, проживая во Франции и не помышляя о том, чтобы вернуться в зачуханную сторонку. Вот только уж больно продолжительно и увлеченно клеймил тебя Иван Сергеевич, нимало не заботясь о том, кто что скажет, мнения прелестной Полины Виардо было ему с избытком.
Олег строчил в блокноте с пагодой на обложке и жалел, что не прихватил на отдых ноутбук. Писалось легко, и хорошо получалось. Правда, порой ему казалось, что есть в этом несоответствии – как он здесь all inclusive и как они там, в грязи и вони полигона, – изрядное паскудство. Но ощущение это как появлялось невесомой тенью, так и улетучивалось. Достаточно было той тени, что дарили пальмы, а эта мешала, покушаясь на безмятежность отдыха.
Безмятежного? Не совсем. Слишком многолюдно, суетно, шумно, слишком много русской речи, которая отпускника за границей чаще напрягает, чем радует.
И разговоры! Что было съедено на завтрак, идти ли на обед и что готовят на ужин: «Там указано, что будут морские гады, кальмары всякие, креветки, устрицы». – «Фу, какая мерзость». – «Но попробовать надо». – «Все это чужеземное, не наше, все только во вред, у нас метаболизм другой». – «Чего? Ну да, ну да». – «Вся эта еда для нас неполноценна, противопоказана». – «Но есть что-то надо». – «Мне одна женщина рассказывала, что в соседнем отеле люди потравились». – «Да что вы?» – «А чему тут удивляться? Еще неизвестно, что они в землю кидают, растет-то как на дрожжах. А руки… Вот как вы думаете, ихние повара руки моют?» – «Ужас какой».
Такие звучали диалоги, по содержанию которых легко было определить, сколько дней отдыхающей… чаще все же не отдыхающему, а отдыхающей осталось до отъезда. Сначала был период адаптации, чуть испуганного узнавания; затем освоение и вторичное тестирование солнца, моря, сервиса и меню; потом, ближе к концу отпуска, усталое высокомерие собственника, все испытавшего, испробовавшего: «Рыба сегодня жестковата, и вкус не выражен. Вот два дня назад под французским соусом была хороша, да. А вы вон те пирожные возьмите, они им удаются, я всегда беру».
Он слушал эти рассуждения и поучения, ухмыляясь: через несколько дней эти знатоки кулинарных разносолов и курортного быта вернутся к картошке с макаронами, котлетам и консервированным помидорам из дачных заготовок. Это дома. А на работе у кого-то и времени не будет, чтобы поесть по-человечески, потому что дела гонят, заботы гнобят и начальство скупое. И этот кто-то, улучив десяток минут, будет цеплять пластиковой вилкой лапшу быстрого приготовления, обсуждая с такими же, как он, недостатки «роллтона» и «доширака». И авторитетно скажет в конце повторяющейся изо дня в день дискуссии: «А все-таки «роллтон» лучше, надо только заваривать умеючи – кипятка строго по рисочке, и не передержать, а то слипнется». Вот так все и будет, граждане, а то «рыба жестковата, вкус не выражен». Гурманы, бляха-муха! Dolce vita! Дорвались до сладкой жизни.
А еще децибелы! С каждым днем понаехавшие говорили все увереннее, возвращаясь от настороженного вполголоса к привычной громкости. Если на пляже он паче чаяния оказывался менее чем в десяти метрах от лежаков, на которых простерлись тела таких переговорщиков, то, помянув добрым словом «дебильник» с его «московским временем», перебирался со своим блокнотом подальше. Обернувшись, он прикидывал, достаточно ли широка нейтральная полоса, отделявшая его от их пляжных зонтиков, чьи купола, так похожие на обойные гвозди, казалось, знобило от ударов звуковых волн. И думал о продуктивном решении, прикидывая, где бы взять такой молоток, чтобы хлобыстнуть со всей дури и загнать гвоздь по самую шляпку?
«Что ты такой раздраженный?» – в один из дней спросила Ольга, укладываясь на соседний лежак. Обычно это занимало много времени – расстелить полотенце, достать разномастные баночки и тюбики, но сейчас она управилась быстро, в пару минут.
«Все нормально».
«Да ну?»
Конечно, напрасно, не стоило, но он объяснил. И услышал в ответ:
«Злой ты».
«С чего ты взяла?»
«Видно. Сам знаешь, что не прав, и от этого злишься еще больше».
«Это я не прав?»
«Ты. Потому что обобщаешь. У тебя люди – как под копирку, а они не такие. Многие из года в год по заграницам ездят. Для них Египет с Турцией – дом родной».
«Мы в Таиланде».
«Оставь, ты же понимаешь, о чем я. Здесь тоже русские на каждом шагу. И что, они все орут, хамят персоналу, напиваются как свиньи? Ты видишь только черное, глаз такой».
«Какой есть».
«Надо быть снисходительным, а не дано. Вот не нравится тебе, когда люди выделываются, не за тех себя выдают. А ты вот о чем подумай: они целый год на «дошираке» сидят как раз для того, чтобы на две недели со своего шестка соскочить, чтобы вокруг них суетились, чтобы обхаживали, чтобы не им приказывали, а они велели».
«И что в этом хорошего?»
«Может, и ничего хорошего, но что плохого? И поведение их объяснимо. Им нужны эти две недели, они их потом весь год вспоминать будут».
«И жизнь их не будет казаться серой. Так?»
«В жизни обязаны быть краски, иначе это не жизнь, а существование».
«Какая банальность».
«Это истина, а истина всегда банальна».
«Очень глубокомысленно».
«А ты, если невмоготу, купи беруши и отключись, или – вон наушники, музыку слушай».
«С какой стати я должен что-то пихать себе в уши?»
«А с какой стати они должны говорить тише? У них ровно столько же прав, что и у тебя, так с чего им под тебя подстраиваться?»
«С того, что есть свод приличий…»
«Он у каждого свой. Так что расслабься и получай удовольствие».
«Пробовал».
«Не получается?»
Все это Ольга говорила, отточенными круговыми движениями втирая в кожу крем неясного назначения – то ли для загара, то ли от загара, то ли еще какой, с возрастом у нее появился целлюлит. Голос ее был ровный, спокойный, чуть усталый. Так общаются с безнадежными тупицами, которым приходится по десять раз объяснять, чтобы дошло и чтобы усвоили. И эта ее невозмутимость не позволяла согласиться с ней, хотя, разумеется, она была права. Но спорить не имело смысла. Ольга была горой, которая никогда не пойдет к Магомету, это Магомет пойдет к горе – обязательно, рано или поздно. Но с другой стороны, какая же она после этого жена? Ты, милая, будь покладистой, ты согласись, почувствуй, что в эту минуту надо уступить. Будь умней, дальновидней, будь бережливой – сохрани, что имеешь. Поддакивай со всей искренностью, в глаза заглядывай преданно, можешь даже восхититься, какой у тебя удивительный супруг, какая тонкая у него натура, ранимая. Вот тогда ты настоящая вторая половина, первейшая обязанность которой – хранить мир в семье. Ради этого можно многим поступиться, тем более такой малостью, как собственное мнение. Держи его при себе и не высовывайся, так всем будет лучше.
«Уж как умею», – отрезал он.
На том и кончился разговор, а скоро подошел к концу и отпуск, завершившийся предъявленным Ольге заявлением, что на курорты он отныне ни ногой.
Ничего больше из того пляжного отдыха он не вынес. Плюс очерк о бомжах, написанный не только из тщеславия, но еще по одной причине: его томило безделье. Бассейн, море, обжираловка, соотечественники, Ольга и Лера, кидающиеся к каждой лавчонке, все это было невыносимо, и он подумал: может, сочинить что-нибудь и в том забыться? Но рассказы он больше не писал, за крупную форму браться опасался, а что еще? О свалке и ее обитателях? Вообще-то он хотел заняться этим по возвращении домой, но коли обстоятельства складываются, то почему бы и нет?
Фургон с гранатами-ананасами пыхнул дизелем. Минуя перекресток, Олег увидел машины пострадавших в ДТП. Водители заполняли необходимые бумаги под надзором гаишника.
Квартира отца встретила его гулкой тишиной. Он прошелся по ней, заглянул в один шкаф – ничего не забыл, заглянул в другой – ничего не осталось. Только книги на полках и папки на столе. Их он убрал обратно на антресоли, пусть лежат.
Через несколько месяцев он перебрался в эту квартиру насовсем, до того лишь укрываясь в ней на день-другой. А когда уезжал на озеро, уже не на неделю – надолго, достал папки и перегрузил вырезки в коробки от мультиварки и СВЧ-печки, которые приобрел, обживаясь на новом месте. Хорошо, что не выкинул.
Потяжелевшие коробки он вернул в укрытие под потолком, а в папки сложил рукописи – рассказы и повести, заметки, наброски, два незаконченных романа. Один он бросил на тридцать седьмой странице, потому что не знал, что делать с героями, они становились прямыми и плоскими, как рейсшина. Второй отложил на половине, потому что… Потому что к тому времени уже работал на Димона, деньги не переводились, а после двух-трех рюмок вместо внятного текста получалась какая-то белиберда. А еще потому, что написанное им стало не нужно ему самому, а что оно нужно другим, насчет этого он еще раньше перестал обольщаться.
В усадьбе он убрал рукописи в тумбу письменного стола. Зимними вечерами, под настроение, он доставал очередную папку – еще пухлую или уже худеющую – и начинал читать. И сжигать. А те, что оставлял, укладывал обратно, подравнивая стопку бумаги, как до того свои воспоминания. В общем, наводил порядок.
«Надо действовать. Но кому достанет самонадеянности иль безрассудства сказать, что это – плохо, а это – хорошо? Вы – Маяковский? Вы – крошка-сын, усвоивший отцовские наставления?
Да и будет ли слушать тот, кто уверен, что знает, как надо и как не надо. А если выслушает, то с какой стати ему верить чужим словам?
Желтая грязь благополучия рвет души. Как дрожат пальцы, когда в них шуршат бумажки с водяными знаками, пейзажами и памятниками. Какие разводы, какие линии!
Или все это шелуха? Пройдет, как цыпки на руках ребенка. Отпадут темно-коричневые корочки, а под ними новая розовая кожа.
И кого поставить против? Мало людей, с кого можно писать иконы. Да и есть ли, были ли? Это иконописцев всегда хватало. Как у Феофана, именуемого Греком: белая полоска носа, скулы, черные тени под глазами и мячи мускулов под чем-то алым. И у товарища Дейнеки те же символы и каноны: ни шага вперед, ни шага назад. И ни шага в сторону – критики, они такие, пристрелят.
И очень много слов. Правильных и пустых, ибо гармония – в пустоте.
И как привлекательна ложь, почитаемая за правду, ибо красота – в простоте.
Все больше тех, кто рубит с плеча. Взмах – и напополам, до земли, до седла. Чистота взмаха и чистота помыслов. Возлюбившие себя, они достойны ненависти.
Я ненавижу их. И слепну от ярости».
Та же опера. Только заголовок другой – «Перепутье». И тот же апломб. Макулатура.
* * *
Шлепая лапами, подлетел Шуруп. Ткнулся башкой в колени, требуя внимания.
– Чего надо?
Ответ ясно читался во влажных собачьих глазах.
– Э, брат, продрыхся, теперь поиграть?
Псина довольно осклабилась.
– Не пойдет, – отверг притязания Олег.
Шуруп задумался: не цапнуть ли хозяина за «зефирку», чтобы не заносился? Но не решился – за такое можно и по носу получить. Выбрав иную тактику, он сделал стойку, забросил лапы на колени капризуле, сотворил умильную физию, потянулся…
– Только без телячьих нежностей! – увернулся Олег. – Меня ими не проймешь.
Шуруп фыркнул обиженно, но лапы с коленей не убрал и губы держал поблизости, готовый продолжить ласки, если его опекун вдруг осознает свою неправоту и отбросит это возмутительное равнодушие.
Олег потрепал пса по холке:
– Не сердись. Вот, можешь съесть. – Олег поднес к собачьей морде смятый в хрусткий шар лист бумаги. – От сердца отрываю.
Шуруп понюхал, брезгливо скривился и обиделся еще больше.
– Да, – согласился Олег, – вещь малосъедобная. – Он бросил шар на пылающие поленья. – Там ей место.
Пес одобрительно наклонил голову, взглянул на хозяина и горестно вздохнул, понимая, что счастливой перемены не будет. Убрал лапы и убрался в свой угол. Растянулся на подстилке. В глазах его стыла вселенская скорбь. Но не лежалось… Шуруп встал и отправился в обход своих владений. Постоял перед входной дверью, за которой свистело, завывало и ухало. Двинулся дальше. Обнюхав углы шкафов, он убедился в очевидном: никто на его территорию не покушался, так что и повздорить не с кем. Ох, тоска! От нее, от грусти и печали, он знал только одно противоядие – сон. Шуруп вернулся на подстилку, улегся, зевнул и прикрыл веки.
Олег следил за перемещениями пса, но баловать его не собирался, хотя мог бы – и брюхо почесать, и мячик покидать, есть у них такой, то-то была бы радость. Да что мячик! Тот бумажный комок, который он бросил в камин, с успехом мячик заменил бы. Шуруп его вмиг бы порвал на британский флаг. Только кому потом конфетти собирать?
Однако не только поэтому Олег был строг и непреклонен. Прежде он слишком многое позволял своему выкормышу, пора было приструнить, а то совсем от рук отбился: сейчас из сугробов не вылезает, а летом шлялся неизвестно где, возвращался в репьях, с исполосованной осокой мордой. Значит, на Подлое болото наведывался, шельмец, к кабаньим лежкам. Ничего не боится, и не из-за природной отваги, а по малолетству и глупости.
Увы, в отличие от птицы Говоруна из сказки Кира Булычева, умом и сообразительностью Шуруп не отличался. По крайней мере, на собственных ошибках не учился. И родословной похвастаться не мог. Ни сторожевой, ни охотничьей собакой он не был. Единственным жизненным предназначением его было получать радость от жизни и дарить радость другим, что Шуруп и делал самозабвенно, не пытаясь оспорить то, что диктовали гены. Впрочем, это был не приказ о беспрекословном подчинении, а нечто схожее с шумом стадиона перед началом футбольного матча, когда тысячи голосов сливаются в невнятный гул, и так ли уж нужно обращать на этот звуковой фон внимание?
–
Шуруп был безродным космополитом – из тех шавок, о которых с усмешкой говорят, что порода у них «дворянская», от слова «двор», естественно, а вовсе не «дворня». И жизни ему, рожденному на задворках рынка, было отведено разве что несколько месяцев в силу его наивности и незнания правил дорожного движения. Так бы он и испустил дух под колесами машин, вкривь и вкось разъезжающих по базарной площади, если бы не Олег.
В райцентр он отправился за метизами высокой коррозионной стойкости, запасы которых требовали пополнения. Нужны были болты из нержавеющей стали А2 и с омеднением, и еще заклепки – бронзовые вытяжные и алюминиевые «под молоток». Строительство корабля Олег был намерен вести по всем правилам.
Единственная торговая точка, где искомое было представлено в достаточном ассортименте, находилась на рынке. Машину повезло оставить у самых ворот, а вот в магазине пришлось подождать. Продавец занимался покупателем, которому много чего требовалось, и в частности струбцины. Их он брал несколько десятков. Такие же в свое время покупал Олег. Когда придет срок обшивать корпус досками, без струбцин не обойтись: прижать, удержать, все по технологии.








