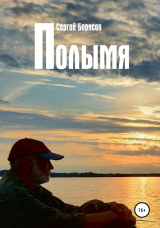
Текст книги "Полымя"
Автор книги: Сергей Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Когда «черные копатели» в пятнистом камуфляже, а один еще и в фашистской каске, впервые появились в Покровском – на угловатом черном джипе, с квадроциклом на прицепе, – они отправились по домам с вопросом, не сдает ли кто комнату, а лучше дом. Так на Тютелина и вышли. Сговорились быстро: тот сдал им свою холостяцкую халупу, а сам переселился в баню, благо баня у него была вполне себе, еще крепкая.
Последний сарай уплыл за спину, ветхий и покосившийся, готовый вот-вот распластаться по земле.
Совсем немного еще – и по времени, и по расстоянию, мимо лохматого ольшаника, мимо ракит, запустивших в озеро корни-змеи, – и появилось Полымя, чьи дома по всему проигрывали Покровскому. Попроще, победнее, а вокруг заборы из жердин на серых от старости столбах. Только в одном хозяйстве натянули металлическую сетку, а в другом наколотили штакетник, состряпанный из обрезков горбыля с покровской лесопилки. Но лишь для того натянули и наколотили, чтобы перед соседями покрасоваться, иной нужды не было. Это ближе к Москве, к большим городам заборы солидные – чаще из профлиста, бюджетный вариант, но не в редкость и монументальные, из бетонных плит, кирпича, дюймовых досок. Хотя Олегу представлялось, что тут не в надежности дело. Не в опаске за себя и свое имущество. Очумевшие в городской сутолоке люди жаждали уединения, и если никого не слышать было не в их власти, народ у нас горластый, машины шумные, то не видеть – для того и существует сплошной забор. Но все это там, в пристоличье, а здесь, в глубинке, эти ухищрения и расходы к чему? Тут людей мало, и если ты не совсем уж конченный затворник, то каждому прохожему рад. Это ж как приятно, это ж какая сладость, опершись на верхнюю жердину, языки почесать.
«Слышала, о чем в Покровском бают?»
И так от дома к дому. Иногда бегом. И до самой околицы…
Олег добавил газку и скорости, начиная пологую дугу.
Шершавый язык леса лизал берег – леса сорного, лиственного. От берега до глубины тянулись заросли тростника, если по-местному – тростеца. Сейчас, в безветрии, тростец был неподвижен, но появится ветер, и он зашепчет, прижмется к воде.
За лесом были его пенаты. Хотя это он был при них…
Метрах в двухстах от берега, прямо напротив причала усадьбы, был еще один островок. О нем тоже бытовала легенда, звучавшая в устах Егоровой и Тютельки без всяких расхождений. Жили в здешних краях при царе Горохе парень и девушка и очень друг друга любили. Только не суждено им было венчаться, нарожать детей и умереть в один день. Семьи их враждовали. Прознав о том, что дочка собирается улизнуть с любимым, ее отец шибко разгневался и посулил молодцу смерть скорую и лютую. Девушка парня предупредила о грядущем возмездии, и тот пустился в бега. Но убежать далеко не успел, потому что отец его избранницы был злым колдуном. Произнес он заклинание, и застыл парень прямо на бегу островком, который люди назвали Беглым. А девушка, тоже волшебница, повела очами, махнула рукой и стала горой-холмом на том берегу озера. Так они и смотрят с тех пор друг на друга…
Беглый был островком крошечным: земли – на две ракиты. И вот какая странность – ловить там было нечего, никогда не клевало, но об этой загадке легенда ничего не говорила.
На причале маялся Славка.
Олег заглушил мотор. «Бестер» сам дотянулся до помоста.
– Как дела, Слава?
Тот зачастил:
– Дядя Олег, а там костер был!
– Где?
– У Жабьего ручья.
– Кто запалил?
– Я не видел.
– К скиту пройти не пытались?
– Они на берегу были, в стороне.
– Ты там прибрал?
– Вот. – Славка показал лопатку.
Олег выбрался из лодки.
– Ты извини, Слав, устал я что-то. Ты иди, ладно? – И добавил обязательное: – Утром будем корабль строить. Хорошо?
– Хорошо.
Славка по-медвежьи тяжело повернулся и стал подниматься по дорожке. Олег ждал, что он остановится, обернется и спросит: «А когда мы на остров поедем, дядя Олег?» Но Славка так и протопал, ссутулив плечи, до самого верха, мимо стапеля с кораблем, корпус которого еще не до конца был обшит по шпангоутам досками. Эти шпангоуты они устанавливали вместе, один бы Олег не справился.
Ошвартовав лодку, Олег взял корзину и пошел к дому.
Надо было выпить. Обязательно.
Так он и поступил, достав из холодильника початую вчера бутылку. Придержал рюмку в руке – не повезло вам, парни, – и выплеснул ее содержимое в рот.
Со второй рюмкой помедлил.
Нервы, значит… Тут у вас ошибочка, товарищ участковый. Или после сегодняшнего уже «гражданин»? Хотя не пойман – не вор. Да и не поймают, потому что не найдут, а не найдут, потому что не будут искать. С чего бы что-то искать, когда вот следы от колес, елки поломанные, трупы. Что еще нужно для ясности? Да и не вор он. У кого он украл? Были бы парни живы, тогда да, а так – будто и не находили. Он просто взял, потому что ящик был открыт, потому что увидел и не устоял, не совладал. И что? Был участковый для него товарищем Егоровым, стал гражданином начальником? Какого бреда?
– За бред! – провозгласил он.
И выпил. И снова налил, не закусывая.
Струны, значит… Снова ошибочка. Тут одно другим прикрылось, одно другое подвинуло, краски размыло из черных в серые. А не возьми он, так измучился бы, сожалея, что не осмелился. Но он прибрал и уже о том думал, как спрятать, а не о том, как скоротечна жизнь человеческая. Некогда было скорбеть. Потом грибы стал чистить, и это тоже было защитой: механический труд, тупая работа – лучшее средство от травмирующих мыслей.
– За товарища Шпагина!
Он выпил. Заел печеньем из вазочки на столе. Вкусное у Марии Филипповны печенье.
А если все же найдут? И поймут, что это он спрятал, больше некому? Что он тогда скажет? Детская шалость, хватательный инстинкт…
– Отбоярюсь!
Или о Шурупе им рассказать, комке шерсти на красном снегу? Рассказать о звере с желтыми глазищами, которого только очередью из автомата и возьмешь? Так не поймут, на то кивать будут, что надо было ружье покупать. Ага, с серебряными пулями.
Олег плеснул еще, чувствуя, как струится от живота к ногам, как растекается по груди живительное тепло.
Выпил.
И печенюшку… Нет, нужно что-нибудь посерьезней. Кусок черного хлеба и сальце сверху – самое то будет. И огурчик. Соленый. Крепенький. Хрустенький.
Он полез в холодильник, соорудил закусь. Чавкнул. Хрустнул. И подумал, что, вообще-то, прав Игорь Григорьевич, да и не он один, со стороны наверняка так и кажется, что нервы у Олега Дубинина железные, что ничего его не трогает, не пронимает. И ведь что характерно? Не обманывается народ! Пускай не полностью, не до конца, но так и есть. Много лет он ковал себе броню, пока не стало получаться, это лишь поначалу коротка была кольчужка.
«Ты бесчувственный!»
Сколько раз бросали ему этот упрек и мама, и Ольга, а он не соглашался:
«Я умиротворенный».
От дальнейших объяснений и толкований он уклонялся, но считал так: умиротворенный – это живущий в гармонии с собой и миром. В его случае самым верным было этот мир от себя отодвинуть, и прежде всего людей, чтобы не лезли и не мешали. Каждый человек, близкий или встречный-поперечный, есть потенциальная угроза: не нагадит, не наступит на ногу, не толкнет плечом, так попросит или озадачит. А ему своих задач хватает, поэтому надо отодвинуть или отодвинуться, и будет тебе покой и счастье.
Олег икнул. Глаза слипались. Пора на боковую. Только глянуть, кто разводил костер у Жабьего ручья и так ли ни при чем здесь скит.
В аппаратной царил полумрак. Окон здесь не было, как и положено тайной комнате. Только светились три экрана. На каждом ряды картинок, на круг – восемнадцать, по числу камер. Два прямоугольника были черными, придется вызывать мастера, сам он разбираться с капризами видеотехники не будет – не умеет, да и ни к чему, на то обученные люди есть.
Дом, причал, корабль, подъездная дорога, скит… Изображения казались застывшими раз и навсегда. Но это не так – все менялось: ветер тревожил кроны и приминал траву, расходились круги от хлестнувшей хвостом по воде рыбы… В памяти компьютера хранилось все схваченное объективами за трое суток, да больше и не надо.
Олег подвигал «мышкой» – курсор заметался по экрану. Вот он сейчас в архивы и нырнет.
Рядом с клавиатурой лежал смартфон, подсоединенный к USB-заряднику. Тот мобильник, что в кармане, был попроще – для полымско-покровского пользования, а смартфон для связи с «большой землей». Вечерами Олег смотрел, кто объявлялся за день, при этом редко когда отзванивался. Посмотрел и сейчас.
Звонила Далецкая.
Еще звонил Димон, давно не слышали.
Звонил Борька, что странно, обычно они списывались.
И звонила Лера, дочь.
Глава 2
Май 2015 года. Озерный край
Шепотков не стал нажимать кнопку интерфона. Выпростал себя из кресла, царапнув пуговицами столешницу, и подошел к двери. Открыл.
– Дубинин где?
Секретарша оторвала глазки от монитора с разложенным по зеленому полю пасьянсом и безбоязненно воззрилась на начальство.
Ей и впрямь не о чем было волноваться – с такими-то формами и правильным пониманием субординации.
– Понятия не имею.
– Ну так поищи! – решил поиграть в сердитого папика Дмитрий Юрьевич.
Он вернулся в кресло, еще раз царапнув пуговицами рубашки столешницу. Они у него вечно отлетали, пуговицы. Потому как живот. И это не обжорство, не пиво, не сидячая работа, это физиология. Вот он надрывается в фитнес-клубе, а толку? Организм не обманешь. Метаболизм, итить его.
«Э, Олег, ты где?»
Вообще-то он мог и сам позвонить, но держать дистанцию обычно полезнее, чем быть на дружеской ноге. Панибратство хорошо гомеопатическими сахарными шариками, три штучки под язык через день. Дозировать его надо, Дубинина, потому что позволишь лишнего, а он ухватится, будет Димоном при народе величать. Ну да, Димон, это если запросто, по-товарищески, но не прилюдно же! Это, знаете ли, амикошонством попахивает.
Шепотков довольно хмыкнул. Редкое словцо! Спасибо памяти, что подсказала, она у него такая: раз услышал – и зацепило, и зацепилось.
Дубинина ждала работа. Никакой спешки, но знать Олегу о том не нужно. Лучше пораньше озадачить, предупредив, что заказ невероятной срочности. Тогда есть шанс, что не в последний час, а за два, за три дня до реального дедлайна сделает.
Или не сделает… Что-то он сильно закладывать стал. Не запойный, себя блюдет, но запашок чуть не каждый день, а люди меж тем все примечают и руководству доносят: «Пьет-с».
Пьет – это плохо. Это напрягает, потому что слишком многое от Дубинина зависит. Многое и многие. Только и об этом знать Олегу не нужно. А то совсем расслабится.
– Дубинин взял отгулы, – доложила секретарша, возникнув в дверях.
– Кто отпустил?
– Говорят, с вами согласовано.
А ведь так и есть, отпустил, еще неделю назад разговор был, совсем из головы вон.
– Когда появится?
– Не знаю.
– Ну так узнай! – Дмитрий Юрьевич готов был всерьез осерчать. Тут заказ жирный, а люди разбегаются, как тараканы. Отгулы им…
Через пять минут, на протяжении которых Шепотков успешно боролся с искушением позвонить другу Олегу, секретарша снова явила себя на пороге кабинета. Разобиженная, спина прямая, ресницы как из проволоки.
– Говорят, в понедельник будет.
– А где он?
Секретарша пожала плечами.
Дмитрий Юрьевич потянулся за мобильником, лежавшим на краю стола. Набрал номер и узнал, что абонент «вне доступа». Вроде бы что тут такого? Но он отчего-то встревожился. Даже мысль мелькнула: может, у Ольги спросить, телефончик есть… И тут же отмахнулся: нет, лучше о себе не напоминать, не будить лихо.
Он взглянул на секретаршу и проговорил примирительно:
– Иди сюда. Бог с ним, с Дубининым.
* * *
Олег выбрал поезд. На автобусе быстрее, зато в поезде лег и заснул. Вернее, так: выпил, лег и заснул. И это лучше, чем выпил, сел и неизвестно, заснешь ли. Потому что, когда сидя, то количество выпитого – не гарантия, уж он-то себя знает. Точнее, в поезде «выпил и заснул» – это норма, а в автобусе дыхни на кого, сразу примутся глазами буравить. И пусть ему такое осуждение до аппендикса – вырезать и выбросить, даже если вслух кто попрекнет, а все равно уют не тот.
До вокзала Олег добрался на старенькой «шестере», на крыльях и дверях которой были наклеены ленты с «шашечками». Ого, так, глядишь, через пару-тройку лет и название фирмы появится, и счетчик в салоне. Дотянутся менеджеры-оптимизаторы и до этих мест, все к тому идет.
– Вокзал, – объявил водитель. По виду он очень подходил к своей потертой «шохе», так подходил, что, казалось, другого она за свой руль и не примет. У водителя были седые усы, ладони в мозолях и заживших порезах, щеки в голубых и фиолетовых прожилках.
Олег расплатился. Накидывать не стал: сколько договорились, столько и дал.
Таксист взял деньги, и видно было, что он доволен. Да и с чего бы ему не быть довольным? Кабы не Олег, пришлось бы порожняком в город возвращаться.
–
Что с пассажиром ему откровенно свезло, водитель честно признался, но не раньше, чем они отмахали от монастыря километров пять.
«Что ж тогда цену задирали?» – попрекнул Олег.
«Жить-то надо».
С этим Олег был согласен. Даже когда скучно, серо, блекло, бессмысленно и безысходно. Но есть закон самосохранения, и он диктует: жить надо! Вот и живем.
«Шестера» вильнула, объезжая остановившийся на обочине автобус. Женщины – кто в платках, кто уже без них – шустро разбегались по кустам. Несколько мужчин перешли дорогу и тоже спешили укрыться в лесу.
«Девочки налево, мальчики направо», – усмехнулся Олег.
«Паломники это. Всегда здесь останавливаются, – водитель выровнял машину. – Сортиры монастырские видели?»
«Видел».
«Но не заходили?»
«Нет».
«Дерьмо с хлоркой. Там по-простому – доски да дырка. Вот и терпят, кто может».
Поддерживать разговор Олегу не хотелось, но отмолчаться было как-то неловко. Тем более что своими «мальчиками-девочками» он как бы сам пригласил водителя к тому, чтобы развязать языки. Поэтому он выдал банальность:
«Чисто не там, где гадят, а где убирают».
«Убирают, конечно, – согласился таксист. – Но народу-то сколько, летом особенно, поспей за ними. А знаете, кто за нужниками следит? Монахи! Послушание такое. Кого для усмирения гордыни, кого за иное прегрешение. И ведь не ропщут! А кто неудовольствие позволит, тот потом кается. Это я к тому, что они в монастырь идут, чтобы к Богу ближе быть, а их – очко драить. Утром в храм на службу и вечером на службу, а между – на очко».
Олег чуть наклонился, чтобы разобрать написанное на карточке в рамке, закрепленной на «торпеде», – еще один признак подступающей цивилизации. Прочитал: «Крапивнин Александр Петрович».
«А что, Александр Петрович, – начал он, сворачивая с «вонючей» темы, – много, говорите, в монастырь людей приезжает…»
Таксист покосился сначала на него, потом на панель приборов и не стал упрямиться, тоже свернул:
«Навалом! Автобусами, машинами, летом по воде из города».
«Я с машиной был, – зачем-то объяснил Олег. – Жена за рулем – милое дело. Она с подругой там осталась. Завтра уедут, а я сегодня собрался».
Водитель понятливо кивнул:
«На заутреню пойдут. Сейчас для этого все условия, не то что раньше, когда в монастыре, кроме храма, сплошь трущобы были, да и храм разве что святым духом держался. А теперь – условия. Дом для паломников восстановили, там они и ночуют. Я, правда, внутрь не заходил, но рассказывали – казарма казармой. Но и другое говорят: есть там номера со всеми удобствами, вроде гостиничных, но это уже задорого. Так что и людей приезжает много, и перекантоваться до заутрени есть где. В общем, всем хорошо, только нам, таксистам, не всегда и не очень. Отвезешь, а назад как выйдет. А поутру снова туда. Вроде бы двенадцать километров всего, но на бензине все равно расход, и если на месяц прикинуть, то прилично выходит. Хотя, конечно, грех жаловаться, с монастыря кормимся, с работой у нас тут не густо».
«Грех? – переспросил Олег. – Вот какая монастырская жизнь заразная. Все согрешить боятся».
Таксист качнул головой:
«Кто поглупее, те не боятся. Они и не знают, что грешат. Счастливые. Даже завидно».
«А вы, значит, боитесь?»
«Боюсь. И грешу… Ах, черт!»
У переезда через железнодорожную ветку они пристроились за трактором с прицепом, накрытым папахой сена. Его подкинуло на рельсе, и здоровенную охапку швырнуло на «шестеру», занавесив капот и лобовое стекло.
Таксист ударил по тормозам, распахнул дверь и выбрался наружу. Сбросил сено на дорогу. Повернулся к трактору, который и не подумал остановиться, так и тащился еле-еле, махнул рукой и вернулся за руль.
«Гаденыш!»
Выругался таксист от души, но не зло, почти весело. Включил дворники и опрыскал стекло водой, удаляя оставшийся сор. Воткнул передачу, рывком преодолел рельсы и за несколько секунд догнал трактор. Обогнал его и помчался дальше, напоследок выставив в окно руку и погрозив обидчику кулаком.
«А чего разбираться не стали?» – спросил Олег.
«Да пустое это. Если всякий раз отношения выяснять, так жизнь и пройдет».
«Да вы философ».
«Шофер я», – буркнул таксист, и пальцы его сжались, словно хотели расплющить баранку.
«Давно таксуете?»
«Шестой год».
«Частный извоз?»
«Он самый».
«А чего «шашечки» налепили?»
«Чтобы с дурацкими вопросами не приставали. В ту сторону, не в ту сторону, и чтобы не надеялись, что задарма повезу».
«А от гаишников вопросов не ждете?»
«Да я, почитай, их всех знаю, а они меня. Миром расходимся».
«Ну да, город у вас небольшой, все на виду».
«Так и есть. Не по имени знаешь, так в лицо. Я же местный, в порту работал. Столяр я, плотник, и за краснодеревщика могу».
«А почему уволились?»
«То не я – жизнь уволила. Раньше по озеру и баржи тягали, и «трамвайчики» пассажирские ходили, пристани были, рейсы на самые дальние плёсы строго по расписанию. А что сейчас? От всего флота три калеки-недомерка остались. Паломников в монастырь доставляют. Чтобы куда подальше, уже нерентабельно. А без теплоходов пристани не нужны стали, развалились без ухода, теперь до деревень только на машинах или на моторках».
«И куда флот подевался, на сторону толкнули?»
«Если бы! Так бы хоть плавали кораблики. У нас судоходного пути на Волгу нет, как их продашь? Как на сторону доставить?»
«А сюда они как попадали?»
«По железной дороге, на специальных платформах. Те, что поменьше, целиком везли, а покрупнее – частями и здесь собирали. В порту и собирали, и я этим занимался, все что по дереву – мое. А когда теплоходы на металлолом стали резать, уволился».
«Рука не поднялась?»
«Вроде того. Вот так все и вышло: был на озере флот – и нет его. Размародерили кораблики, а потом газорезкой. В войну сберегли, а в мирное время профукали. Я вот на улице имени Хорошкова живу. Отважный был капитан! Первой военной осенью его пароходик немцы бомбами забросали. Хорошкова ранило тяжело, в руку. Так его перевязали, и он опять к штурвалу встал. И всех эвакуированных до города доставил. Уже там без сознания свалился. Кисть ему потом ампутировали, а он, как из госпиталя вышел, обратно к себе на мостик, рулить. Вот какой человек был. Он в конце 50-х умер, своей смертью, по болезни. Тогда и улицу в его честь назвали, до того она Никольской звалась, и пароходик переименовали – был «Смелый», стал «Капитан Хорошков». Это я к тому, что он первым под горелку отправился. А ведь так и ходил все эти годы: отремонтируют – и снова на воде. Тоже неубиваемый! И доплавался…»
Крапивнин замолчал. Молчал и Олег. Слова были не нужны, лишние.
* * *
Крупа просыпалась. Люба смела ее с полки ребром ладони в пригоршню другой и высыпала обратно в пакет.
Хлопнула дверь. Она обернулась.
– День добрый.
Она не ответила, только голову наклонила. Это не было неуважением. Люба к участковому относилась хорошо – по ее меркам и по сравнению с тем, как относилась к большинству жителей Покровского, не говоря уж о людях проезжих.
Егоров к такому обхождению относился спокойно. Он подошел к прилавку.
– Я не покупать. Я спросить. Ты Славку Колычева сегодня видела?
По виду участкового Люба поняла, что на сей раз отделаться кивком не удастся. И все же попыталась.
– Так видела? – с нажимом повторил Егоров.
– Заходил.
– Когда? Зачем?
– Утром. За конфетами.
– Куда потом направился, не заметила?
– Нет.
– А сам он не говорил?
– Славка?
Егоров нахмурился: да уж, нашел что спросить.
– Ладно, – нашел что сказать он. – Никуда не денется.
Участковый вышел из магазина.
Люба тоже подошла к приоткрытой двери.
На крыльце участковый столкнулся с Тютелькой и задал ему тот же вопрос – о Славке.
– А что случилось? – с ноткой наигранного подобострастия заинтересовался Тютелин.
– Да кое-что, – произнес Егоров тоном, в котором было его нескрываемое отношение к Тютельке – и недоверие, и брезгливость.
– Так, наверное, у озерца он, у Мизинца. За птицефермой. Я его там давеча видел. Сидит, смотрит и лыбится.
Участковому стоило бы сказать «спасибо», но это, пусть в самом малом, означало быть обязанным Тютельке.
– А ты чего здесь? За водкой? Все не угомонишься?
– Какая водка? Мне ж Пятнатая не отпускает, будто не знаете, своевольничает. Я сигаретами разжиться.
Егоров сдвинул брови:
– Чтобы я этого не слышал! Она – Люба, а лучше – Любовь Макаровна! Понял меня?
Участковый спустился с крыльца и пошел по дороге, по ее краю, где не так пыльно.
Люба потянула дверь на себя. Что Егоров одернул Тютельку, ее не удивило и не порадовало, на то и участковый. Только зря он так горячо, ей уже давно все равно. Пятнатая… Такая и есть, такой и останется.
Между дверью и косяком возник исцарапанный ботинок Тютельки.
– Ты чего это, а?
Люба потянула сильнее. Процедила сквозь зубы:
– Перерыв.
Тютелька не уступал:
– Продай сигареты, слышь!
Люба потянула сильнее, а потом, забывшись, еще сильнее.
– А мне не больно, – заржал Тютелин.
Тогда она замахнулась. Тютелька отпрянул. Дверь захлопнулась.
– Ах, ты… Пятнатая!
Тютелин продолжал разоряться, но Люба не стала прислушиваться, ничего нового про себя она не услышит.
Зашла за прилавок, миновала короткий коридорчик и вышла во двор.
У магазина и их дома, где она жила с матерью, двор был общий, окруженный общим же дощатым забором. И магазин, и двор, и этот забор, и работу продавщицей мать передала ей «по наследству». Сама она оттрубила в сельпо больше тридцати лет, но когда артрит скрутил руки, а радикулит спину, мать вручила ключи от всех замков Любе. Начальство из района не возражало: на хорошем счету была продавщица и за дочкой присмотрит.
Магазин выходил фасадом на улицу, а дом – на березовую рощу и этим отличался от других домов деревни, которые ставили окнами на озеро, оставляя огороды на задворках. Вот и мать сейчас в огороде, пытается что-то делать своими измученными руками.
Люба вошла в дом. Обычный деревенский пятистенок по виду и по убранству. Хотя и не совсем. Было еще одно, помимо окон на рощу, что отличало его в Покровском. В доме не было зеркал. Лишь одно имелось, в угоду матери, и то было прикрыто тканью, словно в доме покойник. И не по большому, но по малому счету так оно и было, потому что себя Люба живым человеком не считала: разве это жизнь? Она никогда не смотрелась в зеркало. Сил не было, как нет их у мертвых.
* * *
До самого города Крапивнин больше не проронил ни слова. Олега это устраивало. Хватит на сегодня невеселых историй.
Поначалу устраивало, потому что в голову мало-помалу полезли прежние мысли, и опять накатила злость на Ольгу, которая хотела как лучше, а вышло вон как. И на подругу ее… Та глаза закатила, когда он взбрыкнул, и давай креститься, словно беса увидела. И на пузатого монаха с позолоченным наперсным крестом, в отглаженном подряснике… или рясе, кто их разберет… была злость, потому что нечего лезть с внушениями и елейной улыбочкой. Отшил он его: не надо пыжиться, отче, идите вы… в келью. Там почитайте, что у вас на обороте креста написано: «Пресвитеру, дающему образ, верным словом и житием». Вот и показывайте пример, похудейте для начала.
Картинки хороводились, он их гнал – не пропадали. Лишь когда запал чуть утих, они стали нехотя расползаться по закоулкам. Но они еще напомнят о себе. Стереть их раз и навсегда не получится, у него это никогда не получалось.
Тут и глаза прояснились, а то воспоминания – давние ли, недавние – их всегда туманят.
Лес уступил полям с зарослями ивняка, издали напоминающими плохо постриженные садовые изгороди. Справа исчезало и появлялось озеро. Деревни подпирали одна другую. Ближе к городу их сменили коттеджные поселки, пускай не такие вальяжные, как подмосковные или запитерские, но видно было, что живут здесь люди с достатком, хотя вряд ли постоянно, наверняка лишь наезжают в дальнюю фазенду со всеми удобствами. На лето приезжают, на новогодние праздники, чтобы слиться с природой, прикоснуться, так сказать, к корням …
И автомобилей стало гуще, причем самых разных – от дорогих и очень дорогих до распоследних колымаг, которых в той же столице уже не встретишь, разве что на выставках ретроавто, но там они блестящие и умытые, а тут пыхтящие работяги.
По обочинам встали тетки, торгующие свежей и копченой рыбой. Через месяц-другой к их дежурному ассортименту добавятся грибы и черника.
Они миновали мост, переброшенный над озером, сузившимся здесь до размеров реки. Вдоль дороги потянулись склады, а потом снова дома, сначала одноэтажные, в отцветающих яблонях, потом повыше, до четырех этажей, потрепанные временем.
На одной из «хрущоб» от балкона до балкона было растянуто полотнище – «Мисс Элегантность. Модная одежда из Европы».
И ничего смешного, выглядеть модно нигде не зазорно и всем хочется. Пусть даже шмотки в этой «Мисс» только по лейблам итальянские и с неметчины, а на деле турецкие, китайские или с подпольных фабрик где-нибудь в Ступине или Мытищах, пошитые вьетнамскими нелегалами.
Машину затрясло на колдобинах. Это знакомо. За городской чертой дороги в ведении области, внутри – администрации муниципального образования, и понятно, что денег на ремонт не хватает, поважнее заботы есть.
И все же, если не смотреть на дорогу, на разбитые тротуары, на покалеченные урны, на стены с осыпавшейся штукатуркой и темными потеками, на заборы в убогих художествах местных вандалов, на смешные вывески, город производил приятное впечатление. Патриархальный, неспешный. Хотя главной причиной снисходительности, избирательности взгляда, конечно, была весна. И молодая листва, чью свежесть еще не приглушили подступающие сумерки.
Такая она, столица Озерного края.
Именно и чаще всего так, с придыханием, величали эти места в путеводителе, который Ольга сунула ему в руки, когда они выезжали из Москвы.
Он пролистал его не столько из интереса, сколько из желания отгородиться от женской болтовни. Темп и тон ее задавала подруга Ольги, которой и принадлежала идея поездки в монастырь. «Паломничества», – уточняла она.
Путеводитель не помог. За исключением начальных страниц, посвященных географии и животному миру, не считая скромных абзацев о минувшей войне, он рассказывал о Пустыни и пустынниках – о монастыре, игуменах и насельниках, о былом великолепии, послереволюционном разорении, об утраченной реликвии – чудотворной иконе «Троеручица», о превращении в колонию для несовершеннолетних, потом в пансионат, конечном упадке, о нынешнем возрождении. И все бы ничего, но написано было плохо, скучно. Рупь за сто, что автором путеводителя был желчный, обиженный на весь свет человек, и бесцветные эти строки он набивал на клавиатуре компьютера промозглыми осенними вечерами, когда подоконник дрожит от порывов ветра, а капли дождя выбивают нервную дробь.
О городском вокзале в путеводителе не было сказано ничего, кроме указания, что он находится по такому-то адресу. Но где вокзал, там и магазины, это непременно, поэтому Олег попросил остановиться у приземистого строения с вывеской «Продукты». Расплатившись, туда и направился.
«Жигули» между тем отъезжать не спешили. Неужто бывший столяр, а ныне таксист хотел проследить, куда он пойдет? Да пожалуйста, ему скрывать нечего.
В магазине Олег взял бутылку водки – «кристалловской», чтобы на «паленку» не нарваться, и кое-какого корма: винегрет в корытце, колбасную нарезку, полбуханки черного хлеба в хрустком целлофане, крекеры с «ветчинной отдушкой».
Выставленное на прилавок он сложил в пакет с изображением главного храма Пустыни и настоятельной рекомендацией посетить «жемчужину» Озерного края. Пакеты пухлой стопкой висели на крючке рядом с окном и шелестели на сквозняке.
У двери Олег остановился, прикинул, вернулся и взял еще «четвертинку». И ее в пакет с куполами, а то вдруг не хватит.
Когда вышел на улицу, «шестеры» Крапивнина уже не было. Жаль, он готов был поделиться ради компании.
К желто-серому зданию с большими буквами «ВОКЗАЛ» над двустворчатыми дверями Олег не пошел. Свернул в первую попавшуюся подворотню. Там нашлось обустроенное местечко: два ящика – чтобы сидеть, один повыше – вместо стола, на нем скатертью липкая даже на вид клеенка, на ней банка с сопревшей этикеткой, полная окурков.
Олег сдернул упрямую пробку и, сказав «За все хорошее», глотнул – щедро так, от души и для души. Закусил крекером, не почувствовав обещанной отдушки занемевшим ртом. И кусочек колбаски вдогон, на ощупь мыльный и тоже безвкусный.
– Как-то так, – пробормотал он и глотнул еще, потому что совсем не взяло. А должно бы, с утра ничего не ел.
Он закурил и отправился на вокзал за билетом.
Расписание извещало, что поезд отходит вечером, а в Москву приходит утром. Десять часов в пути. А ведь не так уж далеко до столицы… Значит, тащиться состав будет еле-еле.
Его эта медлительность устраивала: хватит времени, чтобы без суеты придавить водочку холодцом, глядя на мелькающие за окном огни. И он не будет возражать, если окажется один в купе. Второго таксиста-философа судьба ему вряд ли подбросит. Все остальные-прочие… Идите в келью!
«А что? – подумал он. – Подработать, смягчить, и сгодится для рекламного слогана. А покупатель найдется, потому что такие нынче времена, всеядные».
– Идите вы в келью! – произнес он, пробуя слова на вкус, но губы как онемели в подворотне, так и не отошли еще, ничего не почувствовал.
* * *
От птицефермы мало что осталось. Битая шиферная крыша в наклон да стены, под самые стрехи прикрытые борщевиком.
Зараза эта объявилась в Покровском не так давно. В газетах писали, что семена этого зонтичного растения, рослого, с мясистыми листьями и мощными корнями, разносят на колесах машины. Может, и так, а может, наврали газетчики, ветер разносит.
Поначалу на диковину с Кавказа никто особого внимания не обратил. Жить борщевик не мешал: только не трогай – не обожжешься. Таким безразличием борщевик не преминул воспользоваться и разросся, разбежался и через пару лет уже демонстрировал себя всем встречным-поперечным. Тогда-то и спохватились, а то все заполонит, та же районная пресса об этом постоянно талдычит.








