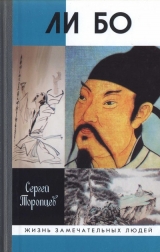
Текст книги "Ли Бо: Земная судьба Небожителя"
Автор книги: Сергей Торопцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Цзун, как и Сюй, была из рода высокопоставленных сановников, ее дед Цзун Чукэ находился в родстве с императрицей У Цзэтянь и трижды, при этой императрице и ее преемниках, претендовал на должность главного советника императора, но, по своим нравственным критериям не вписываясь в паутину дворцовых интриг, не обрел необходимого для полновесной власти авторитета. И внучка по воспитанию и склонностям выпадала из стандартного номенклатурного круга, была образованной, неглупой женщиной, любила поэзию, играла на цине, тянулась к интеллектуалам («познавала Дао, стремилась к святому Бессмертию», – писал о ней Ли Бо; воспитанные в сходных нравственных правилах, они позже очень подружились с Пинъян, дочерью Ли Бо). При этом была прекрасной кулинаркой, сразу пленившей взыскательного поэта местным деликатесом – огромным, на полтора цзиня[82]82
Цзинь – мера веса, примерно 0,5 килограмма.
[Закрыть], карпом из реки Хуанхэ с обжаренной до золотистого сияния корочкой, замаринованным в тягучем кисло-сладком соусе; колыхаясь, соус свисал с палочек, как усы дракона (слизывая его с палочек, обычно, смеясь, говорили: «Сначала надо съесть мясо дракона, а потом отведать его усы»). Насладившись лакомством, Ли Бо заметил: «Одежда должна быть старого покроя, а уж есть надо только домашнюю пищу» [Гэ Цзинчунь-2002-А. С. 196].
Имени новой спутницы поэта, как и в случае с первой женой, история нам не оставила, что не удивительно для маскулинно-ориентированной средневековой историографии, но в беллетристике возникают разные варианты. Даже профессор Гэ Цзинчунь называет ее имя (Цзун Цзюэ), но, вероятно, это творческая вольность ученого автора. Согласитесь, такое словосочетание, как «госпожа Цзун», способно разорвать всю художественную пластику, к которой Гэ Цзинчунь стремился, соединяя науку с литературой.
Отвергая «некондиционных» претендентов, она в итоге упустила пору своего цветения (к моменту знакомства ей было за тридцать). Но дождалась дара Небес – великого Ли Бо, оставшись ему верным другом до конца дней, хотя такой единодушно положительной, как в отношении первой жены поэта, оценки у китайских авторов нет. Так, писатель Бай Хуа в киносценарии «Поэт Ли Бо» рисует ее образ весьма резкими негативными мазками:
«Среди десятка домишек, крытых соломой, всего один гордится черепичной крышей – это дом Ли Бо. На веранде новая супруга поэта, госпожа Цзун, втолковывает детям урок, в руке зажата палка[83]83
В это время дочери было уже за 20 лет, а сыну либо около того (по версии Го Можо), либо лет 14–15, так что домашние уроки, да еще с палкой, представляются маловероятными.
[Закрыть]. Боцинь и Пинъян стоят на коленях, едва сдерживая слезы обиды…»[Пер. Н. Демидо. Книга-2002. С. 101]
Существует версия, что длительные поездки поэта, накопившись, вызвали протест жены, и она поставила условие – или путешествуешь, или расстаемся. И вольнолюбивый поэт выбрал второе. Это не был официальный развод. Госпожа Цзун ушла к даосам на склон Лушань и «погрузилась в Дао». Лушань она выбрала отчасти потому, что там в монастыре жила Ли Тэн-кун, дочь Ли Линьфу, то есть женщина, с одной стороны, того же социального круга, с другой – той же духовной направленности. Ли Бо сам с почтением относился к этой даоской монахине, вырвавшейся к вольной духовной жизни из придворной духоты.
Однако формальная разлука не помешала госпоже Цзун броситься на помощь мужу, когда тот попал в беду. Она активно обращалась к былым высокопоставленным знакомым, выручая Ли Бо из тюрьмы, а потом вместе с младшим братом Цзун Цзином сопровождала Ли Бо в ссылку. Правда, в последний период жизни поэта в его стихах нет упоминаний о ней, и на этом основании некоторые исследователи делают вывод о том, что они расстались не только формально, что другие подвергают сомнению из-за недостаточной аргументированности вывода. Тот факт, что ее не было рядом с мужем в момент его смерти, – еще не основание для такого заключения. Не приехали и дети (правда, дочь к тому времени, вероятно, уже умерла). Ведь, по мнению большинства исследователей, болезнь поэта была скоротечной и смерть неожиданной.
Этот брак нельзя назвать случайным. Цзун Цзин был учеником Ли Бо, не раз настойчиво приглашал его посетить их дом (родители рано умерли), а сестра, зная стихи поэта, мечтала познакомиться с ним. Для китайских литераторов интеллектуальный уровень жены был достаточно важным критерием оценки. Ли Бо, конечно, не был исключением, хотя в стихотворениях и письмах он на первый план выдвигал ее родовитость. Некоторые авторитетные исследователи даже утверждают, что «для Ли Бо важным было ее сановное происхождение, чем он гордился» [Чжоу Сюньчу-2005. С. 122].
Возможно, сначала Ли Бо поселился в семье жены, где также жили ее брат и сестра. На это указывает тот факт, что, по нравственным нормативам того времени, сестра жены не могла жить в семье ее мужа, если те завели самостоятельный дом. Кроме того, новая жена должна была бы принять на себя обязанности умершей матери ее детей, обихаживать и воспитывать их, но дети Ли Бо от Сюй остались в Восточном Лу, а это могло произойти лишь в том случае, если поэт опять стал «примаком», войдя в семью жены со всеми сопровождающими этот статус правовыми ограничениями.
Через какое-то время, однако, новобрачные поспешили отделиться от родового гнезда, зажив самостоятельно в Юйчжане, почти рядом с Аньлу, где начинался первый брак Ли Бо, только на противоположном, южном, берегу Янцзы. По одной версии, у них родился сын Тяньжань – те самые иероглифы из текста Вэй Ваня, которые одни исследователи считают именем, другие – фразеологическим оборотом, ошибочно интерпретированным. О нем, однако, кроме имени, ничего не известно. А первые двое детей, вопреки традиции, так и остались в Восточном Лу.
В научной литературе бытует мнение, что Ли Бо нельзя считать «семейным» человеком, что он не испытывал чувства ответственности ни за жену, ни за детей (на распространенность такой оценки среди исследователей указывает Чжоу Сюньчу). Тем не менее, путешествуя по городам и весям, Ли Бо не забывал о семье, и по его стихам видно, что этот брак, как и первый, тоже был исполнен чувств и гармонии. Через пять лет после начала совместной жизни он пишет жене из Осеннего плеса:
Я сегодня поеду в Сюньян —
Лишних тысяча ли расстоянье.
Встречу в лотосах светлую рань,
Напишу «Громовое посланье»[84]84
Поэт Бао Чжао в этих местах написал сестре «Письмо с Громового берега».
[Закрыть].
Много в жизни печали и слез,
Но разлука – особого рода,
С той поры, как уехал на Плес,
Писем с севера жду уж три года.
У меня седина на висках,
На лицо не приходит улыбка.
Наконец, повстречал земляка,
И в руках «пятицветная рыбка»[85]85
Рыба (обычно карп) – символ письма, поскольку письма вкладывались в пакеты, очертанием напоминающие рыбу. С определением «пятицветный» в традиции выступают императорское приглашение на аудиенцию, а также священный дракон; здесь это подчеркивает трепетное отношение к письмам жены.
[Закрыть] —
Золотистой парчи письмена:
Как Вы там, вопрошаешь ты чутко…
Круч отвесных меж нами стена,
Но она не преграда для чувства.
(«С Осеннего плеса – жене», 755 г.)
Вхождение в Дао
Уж иней пал на чуские леса[86]86
Юйчжан расположен на территории, в древности занятой царством Чу.
[Закрыть] —
Холодной осенью пахнуло разом,
Все золотит осенняя краса,
Зеленое скрывается под красным.
Прощайте же, певуньи под стрехой,
К себе летите в северные дали.
Увидитесь ли вы еще со мной?
Вернетесь ли туда, где вас так ждали?
Ужель забудется сей дивный дом,
Проститесь навсегда с жемчужной шторой?
Не птица я, уж не взмахну крылом,
Чтобы лететь в незримые просторы…
Вложу в письмо свое тяжелый вздох
И неудержный слез моих поток.
(«Посылаю жене стихотворение о растроганном хозяине и ласточках, улетающих с Осеннего плеса», 755 г.)
Но нас, кажется, слишком далеко увлек бурливый поток чувств Ли Бо. Вернемся в конец 744 года, когда в канун зимы поэт расстался с Ду Фу и направился в Цичжоу (современный район Личэн провинции Шаньдун), где в монастыре Пурпурного Предела (Цзыцзигун), пройдя обряд «вхождения в Дао» и получив мистический амулет из белой кости, официально становится даосом (без проживания в монастыре, поскольку на такой статус не нужно было получать разрешения административных государственных инстанций) и обретает доступ к тайным даоским текстам, сокрытым от мирян. К сожалению, от этого монастыря не осталось никаких следов, даже место его нахождения точно установить не удалось.
Взаимоотношения Ли Бо с ведущими идейными течениями эпохи достаточно неопределенны и потому служат предметом дискуссий с полярными оценками. Дискутанты пытаются вставить Ли Бо в четкую мировоззренческую структуру и, в зависимости от темы критического обзора, находят у него то почтение, то презрение к Конфуцию, то отрицание даоских тезисов, то углубление в них.
Всё это у Ли Бо есть, но отражает не устоявшиеся взгляды на то или иное учение, а выхваченный из сложной, противоречивой, нестабильной психологической ментальности момент, адекватный лишь самому себе, но не такому титаническому сплетению мыслей, чувств, настроений, каким был Ли Бо. Сегментироваться между конфуцианством, даоизмом и буддизмом для него не представлялось возможным, хотя он и пытался. Но все же взращен он был как даос и на наиболее устойчивом – подсознательном – уровне остался именно даосом. Потому-то он казался чужим в чиновной среде и с государевым служением ничего у него не вышло. Нельзя не подчеркнуть, что конфуцианство, овладев благодаря четкой иерархичной структуре сферой государственного управления, не смогло (или не захотело) подчинить себе сферу эмоционального бытия человека, и потому душа китайца, в первую очередь человека творческого, тянулась к эмоциональной мистике даоизма и буддизма.
Более глубокое слияние с даоским учением стало для Ли Бо не окончательной, но важной вехой его мировоззренческого развития. Не исключено, что тут присутствовал и конъюнктурный социально-политический аспект (хотя это сомнительно, учитывая, что произошло это после разочарования в нравственной ауре императорского двора и решительного разрыва с ним). В танское время даоское учение начинает обретать больший, чем в прежние времена, вес. Танские императоры считали своим предком Лао-цзы, чья родовая фамилия была Ли, как и у них (и как у Ли Бо), многие члены императорской семьи уходили в монахи (например, Юйчжэнь, сестра Сюаньцзуна; даоской монахиней формально стала Ян Гуйфэй, получив имя Тайчжэнь).
В Шу, отчем крае Ли Бо, превалировали даоские взгляды с мистической окраской ухода в «инобытие». Неподалеку от дома будущего поэта на горе Пурпурных облаков стоял даоский монастырь, и Ли Бо не раз бывал там, о чем позже вспоминал в стихах («На горе Пурпурных облаков у дома / Дух даоский никогда не гас» — стихотворение «Посвящаю живущему в горах Сун отшельнику Юань Даньцю»). Подружился с даосом Дун Яньцзы и, сливаясь с естественностью Природы, приручил диких птиц, которые клевали зерно у него с ладони. Позже в горах Наньюэ навестил отшельницу У Цзян, носившую, как поэт позже описывал, «плат лотосов». В горах Суншань безуспешно искал отшельницу Цзяо, которой насчитывалось уже двести с лишком лет, хотя выглядела она на пятьдесят-шестьдесят. Цзяо была сведуща в даоской алхимии, умела задерживать дыхание, долгое время обходиться без пищи. К даосам Ли Бо влекла не только общественная атмосфера времени, но и собственный «стержень Дао».
Временами он сближался и с конфуцианским подходом к месту человека в социальной структуре, особенно на территории Лу, колыбели конфуцианства, хотя уже в то время отпускал поэтические шуточки по поводу того, что конфуцианцев «дела сегодняшние не трогают» (стихотворение рубежа 730–740-х годов «Смеюсь над конфуцианцем»). Полтора года, проведенные при ранее идеализировавшемся им императорском дворе, тем более углубили его разочарование в «мирской пыли». Его взгляды на Конфуция резко колебались между почитанием, даже функциональным самоотождествлением – и, как с остервенением даоского апологета формулирует Ли Чанчжи, «презрением» [Ли Чанчжи-1940. С. 88].
«Вхождение в Дао» было особой процедурой, обставленной четким церемониалом. Ей предшествовала специальная подготовка: претендент должен был обратиться к известному даосу с просьбой написать для него на белом шелке красной тушью тексты тайных трактатов («Пять тысяч знаков», «Три постижения», «Постижение сокровенного», «Высшая чистота» и др.), в нескольких местах перемешав иероглифы так, чтобы непосвященный не смог понять текст. Поэту сделал это известный даос Гай Хуань из Аньлина (современная провинция Хэбэй).
К выбору того, кто в ходе церемонии должен был вручить претенденту трактаты, Ли Бо отнесся весьма серьезно. Считалось, что космическая энергетика Учителя воздействует на судьбу претендента, и Ли Бо обратился к знаменитому на всю страну даосу Гао Жугую, которого почтительно именовали Небесным Учителем; поэт познакомился с ним в Чанъане.
В назначенный час претенденты выстроились друг за другом и, покачиваясь из стороны в сторону, держа руки за спиной, как осужденные на казнь, медленно двинулись к алтарю, обвязанные лентами (в древности это были веревки, впоследствии – бумажные полосы), символизирующими налагаемые на претендента ограничения. На алтаре стоял тот, кто проводил церемонию «вхождения в Дао». Вручив подарок (золотой браслет и медные монеты), Ли Бо торжественно молвил, обращаясь к Гао: «Учитель мой в веках пребудет» (то есть фактически обозначил его как «живого святого»). Гао взял браслет, переломил его и вернул половинку Ли Бо как знак скрепления договора о «вхождении», после чего вручил ему написанные священные тексты. И вслед за другими поэт продолжил движение вокруг алтаря, совершая круг за кругом. Мысленно претенденты представляли себя «гостями Яшмового Владыки», их губы беззвучно произносили обращенные к Небесному Верховному Владыке мольбы о снисхождении.
Обычно так продолжалось от семи до четырнадцати дней и ночей. Ежедневный краткий отдых с глотком родниковой воды и пиалой неприхотливой пищи ждал их лишь при первых лучах рассветного солнца. Некоторые теряли сознание, не выдержав физического и нервного напряжения, и их оттаскивали в сторону. Для них процедура завершалась безрезультатно. Выдержавшим испытание вручали амулет монаха.
Такая жесткость преследовала две цели: отсечь физически и духовно слабых и обострить чувства для абсолютного принятия веры в принципы даоизма и идеи перехода в пространство даоской святости.
Однако Ли Бо пошел на эту процедуру не для того, чтобы полностью отрешиться от мира и уйти в монастырь. Он восхищался Цзюньпином[87]87
Янь Цзюньпин – гадатель из Чэнду периода династии Хань (206 год до н. э. – 220 год н. э.); среди людей он обрел известность точными предсказаниями и мудрыми советами, но был отвергнут двором и, став отшельником, погрузился в даоские каноны, уединясь в пустой хижине.
[Закрыть], спустившим полог своей отшельнической обители и погрузившимся в сокровенные тайны Дао, которые открывали ему пути и судьбы человечества, но при этом с горечью акцентировал непризнание «бренным миром» мудреца, непонимание глубины его мыслей («некому постичь безмолвия бездны»).
А Ли Бо бездны мудрости, таящиеся в нем, жаждал донести до людей, и не он уходил от мира, а мир отталкивал его. Противопоставить этому он мог лишь преодоление времени и пространства с помощью даоской алхимии, уходом в вечность с возможностью возврата в лучшие времена Земли.
Согласно даоскому тайному учению, реализовать это можно было двумя путями: приемом специального снадобья, приготовленного на основе киновари (сурика), либо удостоившись персонального приглашения от какого-либо святого. И о том, и о другом вариантах Ли Бо много размышлял в своих стихотворениях, не отказываясь от первого, более трудоемкого, дорогостоящего, таящего опасности (киноварь при нагревании выделяет ртуть, отравляющую человеческий организм при избыточной дозировке, что привело к гибели не одного императора, в том числе и в период правления династии Тан; есть версия, что это же было причиной смерти Цинь Шихуана), но предпочитая второй (не напоминает ли это выбор пути ко двору «через Чжуннань», а не через систему ступенчатых экзаменов кэцзюй!). Не стоит, однако, обвинять Ли Бо в сибаритстве – таков уж у него был характер, взрывной, необузданный, «безумный», жаждущий действия, а не ожидания, мгновенного результата, а не постепенного, медленного продвижения. И высочайшее осознание себя, своей миссии, благословленной Небом.
Время от времени он исчезал с горизонта социально-направленных действий, чтобы где-нибудь в потаенном гроте на горном склоне вдохнуть воздух духовной энергетики и вольности, чего ему так недоставало среди мирской пыли. Так, в 750 году он на какое-то время осел на горе Лушань неподалеку от Дунлиньского монастыря, куда часто заходил, садился на коврик перед Буддой, бесстрастно смотрящим сквозь него своими Синими Лотосами, и, упоенный душистыми фимиамами высоких свеч, переносился в пространства и времена, не имеющие границ, не знающие ни побед, ни поражений.
Вариация на тему
Бродя по лесным тропам, уже не на Лушань, а на другой горе и через пять лет после своих лушаньских бдений, вышел он к какой-то лощине. Вечернее солнце окрашивало ее пурпурным закатным светом, и поэту увиделся в его оттенках цвет киновари, которую даосы употребляют для изготовления Эликсира бессмертия. В душе что-то всколыхнулось, и не слышный ушам голос позвал его. Лес вдруг раздвинулся, посреди поляны открылся монастырь. Но странно… Перед воротами подросла трава, никем не примятая. Сквозь щели частокола Ли Бо увидел стену, по которой плотоядно ползли змеи лиан, сквозь мутноватое окно сумел разглядеть пустую залу со свитками на стенах, уже покрытыми пылью. Еще не осознавая, что произошло, он внутренним слухом вдруг услышал неземную музыку, внутренним взором увидел парящие в воздухе цветы, которые, вероятно, разбрасывала Небесная Дева. «О, как это прекрасно! – без слов воскликнул поэт. – Они растворились в Ничто!» И дома дрожащей от волнения кистью он набросал стихотворение:
Тропа заводит в красную лощину,
Побеги сосен оплели врата,
Лишь птиц следы на лестницах пустынных,
И некому впустить меня туда.
Сквозь окна вижу пыльные узоры
На свитках, ниспадающих со стен.
Такое запустенье перед взором,
Что хочется уйти в лесную тень.
Но благовонье наполняло склоны,
Цветов небесных вился ураган[88]88
Ароматное облако, дождь цветов: буддийские термины благой вести, в данном случае – вознесения монахов на «три Неба».
[Закрыть],
Звучала музыка меж гор зеленых,
И выл тоскливо черный обезьян.
Мне стало ясно: бренный мир оставив,
Они ушли совсем в иные дали.
(«Не найдя монахов в горном монастыре, написал это стихотворение»)
Ему самому хотелось вложить меч в футляр, одеться, как даоский монах, подвесить к поясу амулет и мешочек с минералами для Эликсира и, как он написал в стихотворении «Уезжая в Цзяннань, оставляю Цао Наньцзюню», уйти в «безбрежный пурпурный туман киноварных испарений».
Но ведь то же стихотворение начинается с отождествления самого себя с отшельником Доу Цзымином из родных сычуаньских мест (тот отпустил духа воды, выловленного из ручья, обратно, а спустя время дух прислал Цзымину рыбку, в живот которой было заложено послание с рецептом Эликсира бессмертия, выпаренного из «пяти каменных пальцев» с горы Хуаншань; Доу Цзымин исполнил предписанное и через три года получил приглашение в Занебесье). Ли Бо излагает эту историю так, словно она произошла с ним самим: «Когда-то я выловил Белого Дракона / И отпустил его в водный простор. / Я жажду овладеть искусством Дао и покинуть мир, / Взмахну рукой и уйду в безбрежность».
Подобного рода персонажей весьма много в стихотворениях Ли Бо. Ань Цишэн, деревенский торговец снадобьями, который нашел в горах корень аира – крохотный, не больше цуня длиной, но девятиколенный. Поняв, что это корень непростой, Ань съел его и вознесся, потом навестил императора Цинь Шихуана, три дня и три ночи беседовал с ним и исчез, отказавшись от дорогих подношений. Вэй Шуцин, тоже вознесшийся, выпив Эликсир, тоже встречавшийся с императором (ханьским У-ди) и тоже не пожелавший остаться в золоченых палатах. Ван-цзы Цяо (другое его имя Ван-цзы Цзинь), чжоуский принц и искусный музыкант; его свирель, подражавшая голосу феникса, пленила даоса Фу Цюгуна с горы Суншань, и он пригласил принца в свою обитель, откуда тот взмыл на Желтом Журавле в небо, а через тридцать лет прилетел в родные места, где все его видели, но не могли осязать…
Большинство мифологических прецедентов, упоминаемых у Ли Бо, связаны не только с Эликсиром, но и с императорами, которые жаждут принять святого в своем дворце, однако тот отвергает лестное приглашение. Психологический «земной» ассоциативный подтекст, намеренно или подсознательно поставленный поэтом, просматривается тут достаточно явно. Ли Бо откровенно привлекает вольность жизни в первозданном естестве, свобода передвижения святых, возможность общаться с Яшмовыми Владыками всех тридцати шести небесных сфер, заселенных святыми, но от Земли окончательно оторваться он не в силах. Он видит перед собой огромную цель, задачу, которую должен исполнить именно на Земле, и не может даже ради вольного эфира покинуть ее.
Так что у Ли Бо не было мысли стать тяньсянь, то есть «небесным святым», уже полностью «вписанным» в Занебесье, получившим определенный пост в небесной иерархии и практически недоступным для землян (Яшмовый Владыка, богиня запада Сиванму и им подобные). Он хотел стать дисянь («земным святым»), как Ван-цзы Цяо, Гэ Ю, Вэй Шуцин и другие, рожденные на Земле и остановившие тление бренного тела, обретя недоступные простым мирянам чувственные энергетические возможности.
Вариация на тему
Сидел однажды Ли Бо по обыкновению в кабачке и услышал разговор на улице: «Как вы можете, почтенный, в таком возрасте взваливать на себя столько хвороста? Где вы живете?» В ответ раздались звонкий смех и четыре стихотворные строки: «С утра несу хворост на продажу, / Покупаю вино и на закате возвращаюсь. / Спрашиваете, где мой дом? / Пронзив облака, ухожу на лазурный склон». Ли Бо обомлел и спрашивает кабатчика: «Кто это?» – «Старик по имени Сюй Сюаньпин, он живет в глубине гор, но никто не знает, где. Утром принесет хворост, продаст, выпьет и идет по улицам, распевая стихи. Сумасшедший, наверное». Ли Бо выскочил на улицу, но старика и след простыл. «Уж не святой ли встретился мне?!» – возопил поэт. Ночью ему не спалось, всё вспоминал это четверостишие, полвека прожил, а такого гения стиха, кроме Ду Фу, не видел. Это, конечно, святой! Нельзя упустить такой случай!
День за днем, закинув за спину бутыль с вином, он бродил по горам тропами дровосеков. Миновал месяц, а старика и тени не было. Вздремнет на камне, подкрепится невзрачным дичком, подбодрится глотком вина – и дальше. Солнце уже садилось, когда Ли Бо приблизился к подножию горы Пурпурного солнца неподалеку от Хуаншань и на поверхности огромной скалы увидел строки: «Живу в тиши тридцать поколений, / Соорудил хижину на скалистом южном склоне. / Безмятежной ночью любуюсь ясной луной, / Беззаботным утром пью из лазурного родника. / Дровосеки поют на могильных курганах, / Птички из ущелья забавляются перед скалой. / О, радость – не ведать старости, / Забыть о вращении лет!» Стихотворение повторялось трижды. От него словно исходил аромат горных цветов. (В другой работе, несколько иначе пересказывающей легенду, в пятой строке «могильный курган» заменен омонимом с другим написанием, превращающим его в топоним, что позволяет предположить, что святой жил не у Хуаншань, а на одной из гор Лун в провинции Хэнань или Шэньси или даже в провинции Ганьсу, куда некогда были сосланы предки Ли Бо и откуда они бежали в Суйе.)
«Волшебные стихи… – прошептал Ли Бо. – О, воистину это рука святого!» И подумал: встречу старика, трижды поклонюсь ему, пусть научит меня, как войти в Дао.
Уже стемнело, когда с реки, текущей у подножия горы, донесся шум приближающейся лодки. На носу стоял старик с шестом в руках. «Позвольте спросить, почтенный, – обратился к нему Ли Бо, – не известно ли вам, где находится дом Сюй Сюаньпина?» А это сам Сюй Сюаньпин и был. Шестом он указал вперед и усмехнулся: «Там лощина в бамбуках, это и есть дом Сюй Сюаньпина». – «Бамбук растет повсюду, где ж мне искать?» – растерянно спросил поэт, вглядываясь в затянутое сумерками ущелье. А старик пристально посмотрел на него: «А вы…» – «Я Ли Бо». Старик только руками всплеснул: «Ай-я, Ли Бо, поэт-святой! Что я? Я – капля в море поэзии. А вы – океан! Чему мне вас учить? Осмелюсь ли?» – «Старик, я три месяца искал тебя, бродил в ветрах и ливнях. Так трудно отыскать Учителя, и что же, я ни с чем вернусь?!»
И с той поры, на ясной ли заре, на закате ли солнца не раз видали их вдвоем на камне у реки – смеясь, распивали за чашей чашу, нараспев читали стихи.
И сегодня близ Хуаншань еще заметны следы Ли Бо – вам все укажут на «пьяный камень» у ручья, похожий на голову тигра: на нем-то, говорят, и сидели Ли Бо с лодочником, ополаскивая опустевшие чаши в чистейшем ручье, который с тех пор называется «Источник, в котором ополаскивали чаши».
[Жун Линь-1987. С. 119–122]
Существуют предания о превращении Ли Бо в святого. Это не только ставшая уже расхожей легенда о финале его земного бытия, когда он во хмелю потянулся с лодки за отражением луны в воде и утонул, а через мгновение вынырнул верхом на ките и вознесся в небо. У поэта Хань Юя есть рассказ о том, как Ли Бо видели сидящим на высокой горе над Бэйхаем, где он долго беседовал с каким-то даосом, после чего они оба оседлали красных дракончиков и унеслись в сторону Восточного моря, где таится обитель святых (Пэнлай и другие острова).
По легенде, Бо Гуйнянь, потомок поэта Бо Цзюйи, на горе Суншань встретил однажды незнакомца, который передал ему приглашение от Ли Бо и повел в глухую чащу, где он увидел человека в свободной одежде и с непринужденными манерами. «Я – Ли Бо, – назвался тот. – Получив освобождение, я стал святым, и Небесный Владыка определил мне жить здесь, и вот уже сто лет живу тут. Ваш предок Бо Лэтянь (второе имя поэта. – С. Т.) тоже обрел святость и живет на горе Утай».
В годы Сунской династии бытовало предание, будто Ли Бо видели в кабачках напевающим свои новые (!) стихи: «Жизнь человека – огонек свечи, / Погаснет свет – уйдет очарованье»; поэт Су Ши считал их настолько совершенными, что написать их, по его мнению, не мог никто иной, кроме как сам Ли Бо[89]89
А почему бы и нет? Ведь нам известна только десятая часть написанного поэтом.
[Закрыть].
Вновь хочу подчеркнуть, что мифологические персонажи были для Ли Бо не порождением фантазии, а исторической реальностью, и произведения о них вполне вписываются в тематическую группу «стихов об истории». Вторая половина 740-х годов, после ухода из столицы, – как раз и является для Ли Бо временем мифо-историко-философских размышлений. Прежде всего в цикле «Дух старины», но и за его пределами он создает целый ряд выразительных стихотворений, в которых обращается к историческому и мифологическому материалу, препарируя его таким образом, чтобы провести акцентированные ассоциации с днем текущим.
Подобные стихи, традиционно классифицируемые как тематическая группа «юн ши» («стихи об истории»), – давняя традиция китайской поэзии, уходящая корнями в древний «Канон поэзии» («Шицзин»), присутствовавшая уже у Цюй Юаня. Там, однако, история была не центральным объектом, а фоновым. Лишь у Бань Гу (период Восточной Хань, I–III века) впервые появилось стихотворение, прямо посвященное историческому событию; оно так и было названо «Юн ши», что впоследствии стало обозначать тематическую категорию. В дотанское время, однако, такие стихи не занимали значительного места в общем корпусе поэзии, и только в золотой век Танской династии поэты много и серьезно стали обращаться к событиям отечественной древности.
Наиболее интенсивно эту тематику разрабатывал именно Ли Бо. Из сохранившихся девяти с лишним сотен стихотворений более семидесяти произведений прямо и непосредственно говорят об исторических событиях (а есть еще стихи, затрагивающие тему косвенно, и это больше, чем совокупное количество произведений этой тематики, созданных до Ли Бо). История выступает у него либо как прямой объект повествования (событие или персонаж), либо как повод для размышлений, либо как фон вызывающего у поэта всплеск эмоций памятника древних времен, на который он смотрит. Это, конечно, условное разграничение, поэт не регистратор, древность и современность, повествование и чувство в стихотворениях пересекаются, взаимно дополняя друг друга.
Но особенность этой тематики в том, что такие пересечения не лежат на поверхности, и ассоциативный ряд можно выстроить, лишь выйдя за рамки самого стихотворения в более широкий пласт истории (включая мифологию) или в личные мотивы автора.
В 747 году Ли Бо написал два стихотворения, вошедшие в цикл «Дух старины», в которых обратился к такой величественной фигуре древности, как Цинь Шихуан. В одном сквозит грусть осознания бренности земных деяний, даже воспринимаемых как величественные:
Правитель Цинь собрал все шесть сторон,
Могуч, как тигр, непобедим герой!
Мечом пронзает тучи в небе он,
Вассалы все спешат к нему толпой.
Ниспосылает Небо свет идей,
И льется мудрых замыслов поток:
Перековал мечи в «Златых людей»,
Открыл врата заставы на восток,
Воздвиг на Гуйцзи знак высоких дел,
С террас Ланъе на мир воззрился сам,
А каторжанам строить повелел
Себе гробницу на горе Лишань;
Послал за Эликсиром вечных лет —
Во мгле сокрытое родит печаль;
На берег моря взял свой арбалет —
Убить кита, что на пути лежал:
Как пять святых вершин, тот вдруг возник,
Громоподобные подъяв валы,
Уходит в небеса его плавник,
Сокрыв Пэнлайский холм в морской дали…
Взял на корабль Сюй Фу веселых дев
И с ними затерялся в тех морях,
И в глубь тяжелую земных слоев
Лег саркофаг златой и хладный прах.
(«Дух старины», № 3)
А в другое вторгается пафос отрицания: даже такой великий государь, как Цинь Шихуан, не сумел осуществить грандиозные замыслы, ибо пренебрег природными ритмами и человеческими нуждами (весенняя пахота), принес страдания людям, и в итоге – нескончаемая печаль в душе:
Мечом чудесным циньский государь
Способен был и духов устрашить.
За солнцем ринулся в морскую даль,
Велел над бездной мост камней сложить,
Набрал солдат, опустошив весь мир, —
Десятки тысяч не пришли домой,
Затребовал пэнлайский Эликсир —
И пренебрег весенней бороздой.
Растратил силы, а успеха нет,
Одна печаль на много тысяч лет…
(«Дух старины», № 48)
Конечно, всякая интерпретация художественного произведения грешит приблизительностью, и тем не менее нельзя не признать, что метод «речи за пределами слов», собственно говоря, привычный не только для китайской изящной словесности, с неизбежностью подталкивает исследователей к интерпретации как эстетического впечатления, так и предметного смысла. В данном случае комментаторы единодушно видят просвечивающую сквозь обозначенную фигуру древнего императора – не обозначенную, но достаточно отчетливо прорисованную фигуру современного Ли Бо императора Сюаньцзуна с его завоевательными походами и тяготением к мистическим рецептам «инобытия» в заоблачных высях.
Когда весной 747 года Ли Бо вновь отправился в романтичные края своих юношеских грез – У и Юэ, он не смог не поставить свои поэтические впечатления на исторический фон.
В руинах сад, дворец… Но в тополях – весна,
Поют, чилим сбирая, девы спозаранку,
Лишь над рекою неизменная луна
Глядит на них, как прежде на пиры У-вана.
(«С террасы Гусу смотрю на руины»)
Остатки былого великолепия – дворца, сооруженного в период Чуньцю У-ваном, правителем княжества У, на горе Гусу в районе современного города Сучжоу для красавицы Сиши, вызывают у поэта смешанное чувство презрительной жалости к тщете дворцовой мишуры и восторга перед нетленностью естества, в котором сплелись слиянная с природой жизнь и вечное Небо, оком луны взирающее на человека.








