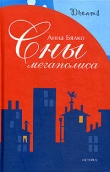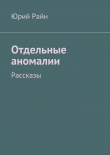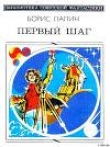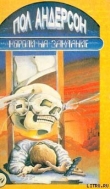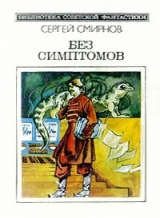
Текст книги "Без симптомов (Сборник)"
Автор книги: Сергей Смирнов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Быстрые шаги пронеслись вверх по крыльцу. Кто-то решительно толкнул в дверь, на миг замер, соскочил вниз… И вот, обежав террасу, торопливо, взволнованно застучал постеклу ладонью.
– Геннадий Андреевич! Проснитесь, пожалуйста!
Троишин отбросил одеяло, босиком подскочил к занавескам. Утренний избяной холод сразу разбудил его и взбудоражил сильнее, чем перепуганный голос за окном.
– Геннадий Андреевич! Скорее поедемте! – Варя дышала с надрывом видно, бегом прибежала за лесником. – Такая беда! Они всех убили… Скорее, пожалуйста…
Холод от половиц вдруг разом поднялся по ногам и колко прокатился по спине, как порыв зимнего сквозняка.
Троишин кинулся одеваться.
За стеной слышались громкие всхлипывания – Варя, дожидаясь его, плакала. …После трехдневного обложного дождя, притихшего за ночь, в воздухе клубилась сыпкая морось. Дорогу развезло, грязь блестела гладкими водянистыми комками, в колеях стояла мутная вода.
Машину мотало по сторонам, и удерживали ее на дороге только глубоко разбитые колеи – березовые стволы у обочин при каждом рывке колес обдавало жидкой слякотью.
Троишин вспомнил про время – глянул на часы: еще семь утра, а показалось, что дело к вечеру и уже целый день прожит в тягостном ожидании беды.
Варя от резкой качки немного успокоилась, только держала пальцы у губ и покусывала краешек платка. Троишин ни о чем не говорил, не спрашивал ее, чтобы опять не расплакалась. Однако на подъезде к лосиной ферме Варя вновь стала всхлипывать.
Уже издали ферма напоминала опустошенное чумою селение – потемневшие от сырости деревянные строения и ограды стояли в зыбкой, тяжелой дымке.
Выскочив с затопленной дороги, “газик” остановился у ворот, распахнутых, даже раскиданных, настежь. Придерживаясь за дверцу, чтобы не поскользнуться при выходе, Троишин ступил на землю. Первое, что бросилось ему в глаза, – свежие, вызывающе угловатые следы покрышек тяжелого грузовика; они вели по прямой от ворот через смятый кустарник, по просеке, к болоту. А сразу за воротами, у бревенчатой ограды, на земле лежали два мертвых лося, оба с пробитыми шеями. Огромные туши казались странно плоскими, усохшими, словно частью погрузились во влажную мягкую землю.
– Двух старых бросили… А остальных увезли… Чуть меня не застрелили… Заперли в избе и сказали: если высунусь, убьют… А потом я через окно вылезла – и к вам… Еле добежала… Господи, они же к людям привыкли… Морды тянули, думали, угостят… А эти… в упор били… Геннадий Андреевич, слышите?
– Варя, Варя… – Троишин обнял девушку за голову. – Я понимаю, Варя.
И вдруг сам себе стал омерзителен – тряпка, муха сонная.
– Варя! – крикнул он так, что в горле резануло. – Ты вызвала милицию? Где рация?
Девушка сразу притихла, подняла опухшее, испуганное лицо.
– Идиот! – со стоном обругал себя Троишин. – Какая у них машина?..
– Большая… Самосвал, кажется… Ой, Геннадий Андреевич! Их же трое. С ружьями. – Глаза Вари осветились новой тревогой, за него.
– Номер запомнила?
– Что вы, Геннадий Андреевич… Какой там номер…
“Газик” выскочил на край болота и замер.
Здесь они повернули направо, к развилке… Можно бы сразу по просеке, но побоялись. Значит, можно догнать еще в лесу… Выручай, Лес…
Через полчаса “газик” пристроился в хвост тяжелому КрАЗу – тот грузно катил по дороге, разделявшей участки двух лесничеств, и поднимал в воздух фонтаны грязи, так что следом за ним путь оставался укатанным и незатопленным.
Троишина быстро заметили – КрАЗ прибавил ходу, даже стал задевать краями бортов стволы деревьев, срывая кору и ветви. Перед Троишиным на дорогу сыпались листья и древесные обломки. Троишин держался позади метрах в сорока, чтобы не забрызгали грязью ветровое стекло и чтобы не оказаться застигнутым врасплох, если КрАЗ неожиданно тормознет.
Минут двадцать колесили по лесу, потом выехали на шоссе. Троишин вновь разозлился на себя: по сути, он ничего не сможет с браконьерами сделать. У них и КрАЗ и ружья. Варя была права… Что придумать? Скоро лес кончится, и сил не будет даже затормозить…
За этими мыслями Троишин едва не прозевал опасность: КрАЗ слегка сбавил ход, на правую подножку осторожно вылез один из браконьеров, с густыми пшеничными усами, и, ухватившись за угол борта, с левой руки прицелился в Троишина из карабина.
– А, скотина! – Троишин вильнул влево и, тут же увеличив скорость, попытался обогнать КрАЗ. Но шофер разгадал уловку и сам перекрыл путь: грузовик понесся зигзагами.Шоссе поднималось на холм, перевалить его – и лес скроется позади, за пригорком… Глупо… Ничего не смог…
Троишин стиснул руль так, что пальцы побелели. Страшная злость закипела в душе. Он приноровился к вилянию КрАЗа, подстроился к нему – и вдруг резко сорвался с ритма, выскочил сбоку от грузовика и нырнул передом “газика” прямо под кузов.
Грузная туша КрАЗа начала сминать крыло и бампер, по ветровому стеклу рассыпалась паутина трещин. Грузовик стало разворачивать боком, потянуло в кювет, он натужно застонал, затрясся кузовом… Загремела по земле решетка радиатора… КрАЗ все наезжал на “газик” – и никак не мог наехать, заламывал ему капот, тащил за собой под откос.
Последнее, что видел Троишин, как странно медленно переворачивался КрАЗ кверху брюхом, отчаянно вертя толстыми грязными колесами, а из кузова вываливались, судорожно дергая ногами, большие лосиные туши.
Хирург глубоко затянулся и тут же брезгливо отбросил в сторону окурок папиросы, сгоревшей до гильзы.
– Плохо… Плохи у него дела… Сильные повреждения позвоночника… Это паралич, Василий Николаевич… Полный паралич. Он вряд ли даже сможет опять говорить.
Участковый снял фуражку, достал платок, вытер лоб. Постоял, помолчал, глядя перед собой в пол.
– Гады… Такого человека покалечили…
Хирург тяжело вздохнул.
– Да, не каждый на такое решится… Даже на войне. Этим тоже досталось. До черта переломов… А усатый умер. Ночью. Весь череп был разбит.
Участковый крякнул.
– Веселая получилась охота…
– И вот еще что. Я ведь вам главного не сказал, Василий Николаевич. Самое странное, что выходит, будто лесник сломал себе позвоночник давно, не менее десяти лет назад… Рентген показывает… И паралич – от этого… Тоже вроде как десять лет должен он параличом страдать… А ведь он за рулем сидел…
Кроме этого, всего-то несколько ушибов и ссадин… И у него на руке… на правой, этот браслет был надет. С надписью.
Хирург достал из кармана халата браслет с пластинкой, какие носят гонщики.
Участковый надел очки.
– “А.С.Кузнецов. Москва. Кутузовский проспект…” Адрес… и телефон… Подожди, Миша… Мне Троишин когда-то говорил: если с ним что случится, сразу вызывать… кажется, вот этого самого Кузнецова.
Кузнецов прибыл наутро.
– Все-таки попал ты в историю. Эх, Генка, Генка… – Он улыбался, но чувствовалось, что улыбка эта дорого ему стоит.
– Ну, ничего. Сейчас мы тебя поднимем.
– Кроме позвоночника, ничего не повреждено? Вы уверены? – обратился Кузнецов к хирургу.
– Уверен, – немного растерянно ответил тот, пытаясь сообразить, что же дальше произойдет.
– Прекрасно, – обрадовался Кузнецов. – Тогда доставайте носилки грузим его в “Скорую” и везем в лес… Тут у вас до леса километров шесть будет?
– Семь… Но ведь… Я не понимаю…
– Это трудно объяснить. Нужно увидеть… Делайте, пожалуйста, что я прошу. Раз уж вызвали.
Хирург пожал плечами.
“Скорая” остановилась на опушке, Троишина вынесли из машины. Прикрыли плащом – снова моросил дождь.
– Сейчас попрошу вас в сторонку… Сядьте в машину, что ли… Не нужно, чтобы рядом было много народа… Так ему труднее.
Кузнецов умоляюще посмотрел на хирурга, медбратьев и участкового, понимая их подозрительное изумление.
Они подчинились. Кузнецов присел перед носилками на корточках и стал ждать.
Минуты через три лицо Троишина покраснело, на лбу выступили крупные капли пота. Потом он тяжело приподнял одну руку, другую… Наконец сел словно медленно, с трудом просыпался от тягостного сна.
– Ну и отлично! – облегченно выдохнул Кузнецов и осторожно тронул плечо друга.
– Спасибо, Саша. – Троишин дотянулся до его руки, слабо пожал ее. – Я пока тут посижу, а ты пойди объясни.
Зрители смотрели на Троишина во все глаза и, казалось, потеряли дар речи.
– Ну как? – сказал Кузнецов громко, чтобы они немного опомнились. – Вы молодцы. Когда я впервые это увидел, чуть в обморок не упал.
Хирург, участковый и медбратья ошеломленно глядели на Троишина.
– Он ведь физик, у нас в институте работал, – продолжал Кузнецов. – Его группа занималась биоэнергетикой растительных сообществ. Ведь лес – это сложнейшая система биополей. Его элементы, отдельные растения, оказывают друг другу взаимную поддержку, помогают друг другу выжить. Именно поэтому, кажется, многие грибы растут только в лесу. Гена сумел настроить свое биополе в резонанс с энергоритмом леса…
– Как это? – не понял хирург.
– По принципу адаптивного биоуправления. Аутогенная тренировка: так учат больных эпилепсией предотвращать приступы. Механизм неясен, результат есть. Получилось.Лес как бы принял его за… часть самого себя. Гена никогда не был атлетом, но в лесу смог бы побить любой мировой рекорд. Я видел кое-что такое… Помню, были вместе на охоте. У лесозаготовителей трактор застрял. Так Гена взял и вытащил его вместе с грузом. Шесть толстенных бревен! Просто руками… А потом случилось несчастье. В бане поскользнулся – перелом позвоночника. А я вспомнил про его способности или свойства… Ну что значит – вспомнил: дошло до меня… Дай, думаю, попробую. Получил разрешение. Отвез его из больницы в лес… После неделю в себя прийти не мог… Такие вот дела. Без леса ему нельзя. Вез леса он конченый инвалид.
Троишин встал, потянулся. Сложил носилки и понес к машине.
– Все в порядке. – Теперь его лицо порозовело, выглядел он совсем здоровым. – Можете забирать… инструмент.
Участковый вдруг обнял Троишина, даже фуражку уронил на мокрую траву.
– Ну черт! С ума старика свел.
Сквозь лица людей Троишин вдруг снова увидел отчаянно вертящиеся толстые колеса перевернутого КрАЗа и туши, вываливающиеся в грязь.
– Ты что. Гена? – насторожился Кузнецов, заметив перемену в Троишине.
– Лоси… Они в лесу не оживают… Странно. Ведь это их лес. Почему так, Саша?
– Не знаю, Гена… Откуда нам это знать?
– Странно, – угрюмо повторил Троишин.
Сергей Смирнов. Эволюция-2
Бурый неподвижный силуэт посреди ледника… Его нельзя было не заметить: день был ясен, солнце стояло в зените, ледник сиял матовой белизной – и бурое пятно на нем казалось каким-то болезненно-инородным предметом… Две недели я бродил кругами по горам, зная, что он должен появиться… Снежный человек… гоминоид… йети… Который раз я ухожу на поиски… и возвращаюсь ни с чем. Профессия эпидемиолога дала мне возможность побывать в Азии… в Африке… да и в Англии – на конгрессах. В наследство мне досталось завидное здоровье: я еще способен карабкаться по скалам, бродить по непролазным чащобам. Но кому нужен очевидец, который молчит, ибо доказательств того, о чем его долг поведать людям, у него до сих пор нет… Вот что гнетет меня. Пока я не раскрою секрета, пока мои коллеги не перестанут пожимать плечами, утверждая, что в привезенных мною образцах “нет ничего особенного”,– до того самого дня нечего завидовать мне, единственному, быть может, из ныне живущих, посвященному в тайну. …Маттео Гизе. Специалисту в области микробиологии это имя должно быть знакомо… Выходец с юга Италии. Низкорослый, коренастый. Густая черная шевелюра со спадавшей на лоб тонкой, чуть завивающейся прядкой. Карие, очень живые глаза. Таким я его запомнил. Он часто заразительно хохотал и жестикулировал как дирижер джаза. Ему бы побольше солидности, заносчивый холодный взгляд – и он, пожалуй, стал бы необыкновенно схож с Бонапартом… Я познакомился с ним летом двадцать девятого года, когда еще учился в Московском университете и только-только начинал постигать тайны микробиологии. Маттео Гизе был старше меня лет на пятнадцать, то есть сравнительно молод, но о нем уже во всеуслышание уважительно отзывались корифеи… В то лето он приехал в Москву с группой специалистов по приглашению Академии наук и посетил нашу лабораторию. Вновь я встретился с Гизе в конце тридцать четвертого года в Лондоне, на международном конгрессе. А до этого прочел полтора десятка его статей: он занимался влиянием радиоактивности на культуры бактерий. Он первым заметил меня и подлетел с такой быстротой, будто боялся, что я успею провалиться сквозь землю. – Здравствуйте, дорогой большевистский коллега! – выпалил он так громко, что все, кто оказался в тот момент в холле гостиницы, замерли и изумленно посмотрели в нашу сторону.– О! Костюм солидного человека, умеющего произвести впечатление. Галстук… туфли… Все с больщим вкусом.– Он подмигнул мне и громко расхохотался.– Ты еще совсем молод, но, вижу, рано пошел в гору… Это самое верное начало. В гору надо идти смолоду и сразу, пока хватает дыхания, отдавать все силы на подъем… надо сразу подняться повыше… Не оглядываясь, дорогой мой красный синьор, ни в коем случае не оглядываясь. Иначе собьется дыхание… или, того хуже, испугаешься высоты… Я читал, читал. Очень хорошо для начала! – добавил он и, увидев, что я не понял, назвал две статьи, написанные мною в соавторстве с научным руководителем. Я, конечно, был польщен и в ответ рискнул высказать свое мнение о работах профессора Гизе, которые довелось прочесть. Он слушал меня внимательно, кивал, но вдруг стал загадочно улыбать. ся… Наконец он поднял руку, вежливым жестом останавливая мой панегирик. – Вы нравитесь мне, синьор Булаев,– сказал он с неожиданной серьезностью, перейдя вдруг на “вы”.– Я подозрителен, однако вы мне нравитесь. Многие люди честны, но мне не по душе самолюбивая, заносчивая честность. Я – за простую честность. Я вижу ее в вас… Простите меня за идиотский вопрос: вы случайно не из ЧК? – Он так и произнес эти две буквы, аккуратно, с расстановкой, с мягким итальянским “ч”. Я опешил. Он улыбнулся и махнул рукой: – Дурацкая шутка… извините… Вы уедете домой в свою Россию… И никто не узнает о том, что я вам сказал. Я рос в бесхитростной семье, а теперь мне приходится слишком многое скрывать… Я порядком устал. Он подвинулся ко мне и зашептал, стараясь не жестикулировать: – Предупреждаю вас, коллега, не читайте моих статей… Тех, которые будут… Все они теперь… хм… как быэто вернее сказать?.. Камуфляж… маскарад… Я смотрел на рего с недоумением, и он грустно вздохнул: – Вы не бывали в Шотландии?.. Нет?.. Появится возможность, обязательно посетите эти прекрасные ландшафты. Особенно озеро Лох-Несс. Запомните: Лох-Несс. Он замолчал и долго смотрел мне в глаза, словно призывая догадаться о чем-то… Желая скорее отделаться от роли ничего не понимающего собеседника, я улыбнулся, вероятно, весьма принужденно: – Вы говорите загадками, синьор Гизе. Надеюсь, вы не хотите сказать, что вот-вот бросите микробиологию и уедете в Шотландию. Странно было бы встретить вас в клетчатой юбочке. Маттео Гизе взорвался хохотом, но тут же осекся. – Нет, этого не случится. Я люблю свою науку. Скажу вам по секрету, передо мной открываются колоссальные перспективы. Мне дают такие огромные средства и штат, как если бы я не с пробирками возился, а строил “Титаник”. Меня пригласили в Берлин и предложили лабораторию, где все меня будут слушаться беспрекословно. Весть эта меня не обрадовала. Я хотел было тактично смолчать, но не сдержался: – Вы хорошо представляете себе, на кого вам придется работать? Он долго пристально смотрел мне в глаза, словно пытаясь найти в них осуждение… или презрение. – У вас, красных, с пеленок на уме одна политика,– сказал он беззлобно.Между прочим, законы наследственности, теория относительности, всемирное тяготение – все они и при нашем капитализме, и при вашем социализме остаются таковыми, какие они есть. Во мне вскипела обида, и я добавил, плохо скрывая сарказм: – И при фашизме тоже? Гизе снисходительно улыбнулся: – И при фашизме. Тоже… К тому же не забывайте, кто правит у меня дома… Я выбрал из двух зол то, на котором можно больше заработать. Я имею в виду знание, а отнюдь не деньги, коллега… – А я с трудом представляю себе, что нацистам нужна какая-нибудь другая микробиология, кроме военной. Как насчет выведения смертоносных бацилл, синьор Гизе?,. – Нет,– усмехнулся Гизе.– Повторяю, коллега, я не политик, и перспектива – наконец поработать в свое удовольствие – меня вполне устраивает… Судить же станем по плодам.
Третья и последняя наша встреча состоялась четыре с половиной года спустя, тоже в Европе. Париж, начало февраля тридцать девятого года. В тот вечер я возвращался автобусом из Пастеровского института в гостиницу. – Разрешите, я пройду, – вдруг услышал я голос у самого уха. Я сделал попытку посторониться, невольно насторожившись: голос был знаком, но память еще не подсказала, чей он… Я вздрогнул, увидев прямо перед собой глаза профессора Гизе. Он чуть пригнулся, прикрываясь широкими полями шляпы, отогнутыми вниз, но я успел заметить, что он очень осунулся и словно бы постарел лет на двадцать, – Извините, извините,– пробормотал он и сразу же, не давая мне и рта раскрыть, добавил очень тихо: – Не замечайте меня… Я почувствовал, как он сует что-то в карман моего плаща. – Держите крепче… Это вам. Не удивляйтесь.– И он, резко отвернувшись, исчез в гуще толпы, заполнявшей салон. Я был поражен и напуган. Тучи над Европой сгущались, все были насторожены, и я понял лишь одно: Гизе тянет меня в какую-то темную историю… Однако деваться было некуда, приняв возможно более невозмутимый вид, я добрался до гостиницы. В кармане плаща оказался свернутый трубкой номерразвлекательного журнала, между страницами которого я нашел листки бумаги с убористым машинописным текстом, несколько фотографий и одну рождественскую открытку.Невольно первым делом я перебрал фотографии. Одна из них была групповой: посреди какого-то лабораторного помещения были сняты пятеро – трое в белых халатах, остальные в черной форме офицеров СС. Среди “белых халатов” был и Маттео Гизе. Все непринужденно, с оттенком делового довольства улыбались… Остальные фотографии были портретами незнакомых штатских личностей с нордической внешностью. Открытка содержала следующую надпись: “Синьор Булаев! Простите меня за то, что доставляю Вам беспокойство. Но Вы – тот самый человек, который волею случая избран моим душеприказчиком. Я долго думал, прежде чем решиться на это, понимая, что в наше мрачное время уже одним моим знакомством с Вами рискую роковым образом изменить свою судьбу”. Потом я взял в руки письмо. Не могу пожаловаться на память: десятки лет прошли с того вечера, а я помню его текст, который прочел всего дважды, почти наизусть.
“Уважаемый синьор Булаев!
Однажды я осознал, что одного лишь Вас, красного атеиста, я могу сделать своим исповедником, и страшно удивился своему открытию… Я пришел к выводу, что только вы, русские, не подавленные фрейдизмом, не отягченные мелочностью, благополучием и риторикой,– только вы будете способны изгнать из Европы вселившегося в нее дьявола. Вы сделаете то, что уже не под силу всем католикам и протестантам, праведным и грешным, прочитай они хоть тысячу молитв. Обратиться именно к Вам меня побудило чувство собственной обреченности. У меня не осталось времени – только отсрочка. Я случайно узнал, что Вы приехали в Париж, и понял, что это – мой последний шанс. Последнее десятилетие объектом моих интересов были не бактерии, а простейшие, особенно колониальные формы. Главная тема моих трудов и размышлений осталась незыблемой: наследственность и радиоактивность. Сразу перейду к существу дела, ибо пишу не мемуары нобелевского лауреата, а скорее отстукиваю короткий сигнал SOS (хотя спасти мою душу сможет теперь, по-видимому, только та служба, что некогда унесла из лап Мефистофеля душу старика Фауста). Итак, мне страшно повезло… С помощью направленного воздействия мне удалось вывести формы простейших, которые были способны невероятно быстро размножаться и при определенйых, заданных условиях образовывать самые невероятные виды и объемы колоний. Когда формирование колоний завершалось, размножение обычно сходило на нет. Если Вас уже охватило сладостное предвкушение, вынужден Вас разочаровать: я не предлагаю Вам быть моим наследником, синьор Булаев. Я не сообщу Вам ни вида простейших, ни способа воздействия. Я унесу свою тайну в могилу, чтобы вину свою не делить ни с кем и честно предстать с ней на страшном суде. Передо мной открылась фантастическая перспектива: за кратчайший срок повторить, смоделировать появление на планете многоклеточных организмов. Я чувствовал себя демиургом, запускающим на Земле новый виток эволюции. Мне не хватало новейшего оборудования и кое-каких средств. Меценат нашелся на удивление скоро. Это произошло в конце двадцать девятого года (признаюсь, в Лондоне я Вам откровенно соврал, что меня еще только приглашают в Берлин…). Мне было предложено еще некоторое время гастролировать по лабораториям Европы и писать статьи на любые темы, кроме главной. Мое предприятие получило в секретных документах наименование проект “ЭВОЛЮЦИЯ-2”, что, увы, подстегнуло мое честолюбие. Спустя два года после начала разработок я уже был готов к проведениюнатурных испытаний. Я сообщил своему начальству, что хотя колонию “первого поколения” легко дестабилизировать или уничтожить, полной гарантии контроля и изоляции быть не может, поэтому эксперименты целесообразно вести за пределами Европы: например, в глухих районах Африки или Латинской Америки. Мой германский шеф в ответ на предостережения вкрадчиво улыбнулся и заговорил со мной эпическим тоном, весьма свойственным современным нордическим нибелунгам. – В стороне от материка,– начал он,– в горах Шотландии, есть озеро Лох-Несс, весьма глубокое и таинственное. Ходят легенды, что в нем живет и прячется некое чудовище. Я предлагаю Вам (предложение прозвучало как приказ) сделать эти слухи достоверными. Так была проведена операция под кодовым названием “Гидра-1”. Вскоре в европейских газетах появилась первая фотография “озерного змея”. Затем родилась “Гидра-2”: в африканских дебрях. Легко догадаться, что моих “чудовищ” можно увидеть, сфотографировать, наконец, попросту испугаться.Но поймать их, не зная секрета, не легче, чем солнечный зайчик. Колония собирается и распадается сама собой, а команда “сборки” известна только мне. Я не завидую энтузиастам, которые уже ринулись на поимку моих драконов. Последним этапом работы с простейшими было моделирование устойчивой человекоподобной формы. Я не хотел спешить, но такое условие диктовал контракт. Передо мной оставалось одно серьезное препятствие: необходимость наличия большого водоема. “Гидра-1” может существовать только в воде, “Гидра-2” способна выбираться на сушу, но на очень короткий промежуток времени. Удача, дьявольская удача продолжала сопутствовать мне, и вскоре я сумел получить вид, способный жить и “собираться” на льду или на снегу. Узнав об этом, шеф пришел в восторг. “О, это феноменально! – воскликнул он.– Воин, встающий из толщи льда. Ваше исследование, repp профессор,лучшее доказательство теории “вечного льда” и происхождения разума”. Все они, наци, помешаны теперь на мистическом бреде проходимца Горбигера. Итак, была разработана новая операция: “Зубы дракона” (надеюсь, Вам известна эта легенда об армии бесстрашных смертников-головорезов, вырастающих из посеянных в землю драконовых зубов). Однако даже это название (какой намек, какое предостережение!) не образумило меня. Операция началась. Место действия: Гималаи, Тибет. Для меня остается загадкой, с какой стати немецкому практичному уму понадобилась вся эта азиатская оккультная мишура. Меня включили в состав одной из тибетских экспедиций, курируемых самим фюрером. Когда посреди белого ледника поднялась в рост бурая фигура, двое моих спутников (на групповой фотографии они в форме), откинув меховые капюшоны, зааплодировали. – Шлем! – засмеялся один из них.– Ему не хватает стального шлема и арийского меча, – Будет лучше, если вместо меча у него вырастет “шмайссер”,– добавил второй нибелунг. Все это время вплоть до прошлой осени я работал не покладая рук. Я был одержим. Я не замечал, что на площадях горят библиотеки, и не обращалвнимания на хриплый, истошный лай, доносившийся из всех радиоточек. Я работал, синьор Булаев. Я просто РАБОТАЛ. Но небеса были милостивы, ниспослав мне, правнуку ослепшего Фауста, еще один, последний шанс. Это произошло в сентябре прошлого года. Волею случая (случая?), то есть не имея на то никакого желания, я попал на почетные трибуны стадиона, где происходило массовое нацистское торжество. К каждому почетному месту бесплатно прилагался отличный цейсовский бинокль. Когда пять тысяч светловолосых мальчиков и девочек, выстроившихся на арене, дружно крикнули “хайль!” и выбросили вперед руки, меня вдруг потянуло поднести к глазам бинокль и я разглядел их лица! Синьор Булаев! Меня прошило током! Рубашка прилипла к моей спине, а язык – к нёбу, и галстук показался мне затянувшейся удавкой. “Боже!” – прошептал я и прикрыл веки. Но потом вновь поднял их и в линзах с перекрестьями узрел то же самое. Это не было страшным сном, это я видел наяву. Их глаза! Я не в силах описать их! Когда строй на арене смешался и спустя всего несколько мгновений из бесформенной человеческой массы стала образовываться тысячеголовая свастика, быстро принимая строгий геометрический вид, я чуть было не застонал и выронил бинокль. Вот она – моя идея в ее законченном мировом воплощении. Я оказался тлей перед кастой “микробиологов”, оперировавших не культурой клеток, но несравнимо большим-культурой нации… Превратить нацию в бесформенную массу одноклеточных и, воздействуя на человеческое сознание “радиацией” идеи мирового расового господства, объединить всех в одно колоссальное безмозглое чудовище! Не стану рассказывать Вам о перерождении моей души, ведь я пишу не дневник параноика, предназначенный для личного психиатра, а письмо коллеге. Я, сын сицилийского кузнеца, крепко державшего под языком секреты своего дела, я невольно замаскировал и свой секрет, кормивший и мое тело, и мое честолюбие. Сицилийцы умеют скрывать от хозяев свои мысли, синьор Булаев, за это я могу поручиться. Скоро проект “ЭВОЛЮЦИЯ-2” рухнет, как глиняный истукан. Этим, быть может, я заслужу себе прощение на небесах. В конце концов один раскаявшийся грешник дороже десяти праведников, не так ли, синьор Булаев? Моя последняя затея будет стоить мне головы, в этом я не сомневаюсь ни на миг. Вас я оставляю на Земле среди живых единственным честным человеком, знающим правду о Маттео Гизе и способным, я надеюсь, замолить его грехи добрыми делами на ниве микробиологии (не смейтесь над этим приступом патетики: помните, что, по сути дела, я прощаюсь с жизнью). Я отнюдь не прошу Вас уничтожить обеих “Гидр” и “Зубы дракона” – они вполне безобидны и без специфического воздействия извне не способны эволюционировать. Полагаю, что за несколько десятилетий они исчерпают “потенциал наведенной изменчивости” и вымрут или вернутся к состоянию “дикого вида”. Но если у Вас появится желание взглянуть на моих “детишек” и убедиться в том, что это – не бред сумасшедшего, советую: ищите их в годы активного солнца. Что же касается адресов, то они Вам известны. В заключение небольшой комментарий к фотографиям. Эти люди – великие злодеи, с ними я “имею честь” обсуждать едва ли не ежедневно научные проблемы рейха. В их руках огромные возможности, они хотят превратить человечество в стадо кроликов. Запомните их лица и имена, записанные на оборотах карточек. Если день возмездия грядет, военным преступникам и политиканам вряд ли удастся скрыться, ведь они были на виду. Этим же типам гораздо легче уйти в тень. Запомнитеих и помогите справедливой каре настичь их. Прощаюсь с Вами коротко, ибо не люблю слезных лобзаний и напутственных речей. Будьте счастливы! Ваш Маттео Гизе”.
Сон не шел ко мне ночью. Я много думал над этим письмом. Утром я одним из первых спустился в ресторан позавтракать. А вернувшись в номер, замер на его пороге… Пока я отсутствовал, здесь был учинен тайный обыск. Он был произведен умело, однако своей внимательностью я имею право хвастать так же нескромно, как и памятью. Я кинулся к своему плащу, висевшему в прихожей,– и похолодел. Журнал, куда я вновь упрятал фотографии и письмо, исчез из кармана… Вероятнее всего, именно мой просчет стоил профессору Гизе жизни. Вина мучит меня до сего дня с тою же силой, что и в то безрадостное утро. Поезд отходил вечером, и мне в голову не пришло ничего лучшего, как только найти повод и провести время до отъезда на территории советского посольства. Я понимал, что этот ход не сможет спасти меня от роковых “неприятностей”, однако мне было позволено спокойно сесть на поезд и уехать в Москву. Вероятно, те, кто забрал письмо и фотографии, решили, что без документов и технологических секретов мне никто не поверит. Ни к чему устраивать на вокзале какой-либо серьезный инцидент. Спустя несколько месяцев я наткнулся в одном западном микробиологическом журнале на имя профессора Гизе, обведенное траурной рамкой. Сообщалось, что Маттео Гизе скоропостижно скончался в фридрихсхафене. После войны я встречал имена, сообщенные мне профессором, в списках нацистских преступников. Один из них заслужил виселицу. Еще трое отделались длительными тюремными заключениями. Остальные, в том числе и те, что былина фотографии в эсэсовской форме, исчезли в глубинах Латинской Америки и по сей день столь же неуловимы, сколь и “детишки” Маттео Гизе…
Я вновь невольно переворошил свою память, пока спускался по уступам на ледник, стараясь не терять из виду неуклюжую человекоподобную фигуру. Она медленно двинулась, переваливаясь с боку на бок, вверх по склону, но это не обеспокоило меня: “идти” быстрее черепахи “гоминоид” не сможет… если только это не настоящий йети… Впрочем, из всех “снежных людей”, которых мне удалось увидеть, не попался ни один настоящий, с хребтом, мышцами и видящими свет глазами. Я разуверился в том, что прототип колонии существует в действительности. Я предвидел, что вновь не успею взять пробу из оформившейся колонии: как случалось и раньше, пропустил момент “сборки” и начал преследовать форму за считанные минуты до распада. Когда я сократил расстояние до двухсот метров, форма уже по колено “провалилась” в лед. Движение ее прекратилось. “Снежный человек” словно тонул в зыбучих песках. Бежать по леднику возраст уже не позволял… Когда я настиг колонию, она успела раствориться во льду. Я разозлился и отшвырнул прочь вынутые из карманов пробирки. Распавшаяся форма ничем не отличалась от скопления широко распространенных жгутиковых. Я перевел дыхание. Передо мной на леднике осталось только пятно коричневого цвета, след тупиковой “второй Эволюции”.