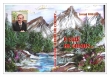Текст книги "В садах судьбы"
Автор книги: Сергей Аман
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сергей АМАН
В САДАХ СУДЬБЫ
СТИХИ И ТЕКСТЫ ПЕСЕН
Издательство «ПРОБЕЛ»
МОСКВА 1998
Хуммедов Сергей Аманович
(Сергей Аман как член Союза писателей Москвы)
О Сергее Амане можно прочитать в предисловиях к его книгам:
"В садах судьбы",
"Сирень под пеплом"
Контакты:
e-mail: hummedov@mail.ru
мобильник:: +7 926 745 73 10
Персональный сайт:
http://sergeiaman.narod.ru/
Иллюстрации Валерия Валюса.
Copyright (c) 1998 Ьу Сергей АМАН
Александр АРОНОВ
САДЫ СААДИ
Сергей АМАН создал очень своеобразную книгу. В ней не "проза становится в позу и говорит: я стихи, а стихи отвечают: «хи-хи» (Семен Кирсанов), а с точностью до наоборот: стихи скромно пишутся в подбор и прикидываются прозой: «Я выпил эту жизнь от краешка до дна. И вот уже с вершин та пропасть мне видна, куда течет песок от онемевших ног, где времечко поет, заказывая срок». Предоставляю вам судить стихи это или не стихи, но то, что это поэзия – не подлежит никакому сомнению. Меня было кольнул уменьшительно-ласкательный суффикс в суровом слове «время» – но тут же я понял, что это никакой не подхалимаж – а едва-едва прикрытая дрожь мужественного человека.
А по поводу избранного псевдонима Сергей тоже высказался:
За столом под водочку с закуской
русский я, я безусловно русский.
А когда я крупно отоварен,
значит, я еврей или татарин.
Лишь одно во мне без перемен:
в чем-то где-то я порой туркмен
АМАНУ дается самое трудное – лирика, причем не простая лирика, а лаконичная. Порою кажется, что она лишена не только лишних слов – но и самого необходимого минимума. Приведем один заведомо недлинный пример:
Расставание
Отныне обречен
дверь отпирать ключом,
валиться на кровать
и думать ни о чем.
Сергей обошелся даже без местоимений: никакого "я", никакой «ты». Одна опустевшая комната. (На квартиру это не похоже). Неудивительно и даже естественно, что поэт отдает предпочтение ночной работе – над дневной. (Причем, не именует ни ту, ни другую творчеством):
Стихи ночные не чета дневным,
им не накинуть никакой одежды.
Они голы, как черные стволы,
где ни листвы, ни веры, ни надежды.
Но я вдруг почувствовал, что по вине рецензента портрет поэта становится начертанным сплошными черными красками. Это – меа шела (моя вина) – и я (как принято говорить в лучших кругах современных интеллектуалов) дико извиняюсь. Тем более, что меня не составляет никакого труда опровергнуть. Достаточно привести тот же коротенький пример:
Летнее пробуждение
Ах, соня, проснись и застынь у оконца,
увидев сквозь серых ресниц волоконца,
как в синьке небесной полощется солнце...
А вот Андрея Вознесенского поразили, как он их называет, богоборческие строки:
Снова вечер. Шалый свист за окном
поминает, что я с чёртом знаком.
Бог с ним, с чёртом, я не в детском кино:
Бог, он с Чёртом всё равно заодно.
Я бы должен был по-настоящему описать подробно всю книгу. Отметить портреты (особенно удачный Арсения Тарковского) и так далее. Но я опасаюсь только одного: что же тогда останется читателю? Нельзя пересказывать строку за строкой. Это – как у детектива. Нельзя давать разгадку раньше прочтения. Читатель сам имеет возможность погрузиться в глубину книги «В садах судьбы». И пусть он вынесет из глубины свое собственное впечатление.
Сергей АМАН
ОТ АВТОРА
Чтобы заметить, что в слове «автобиография» три источника и три составные части писательского ремесла, надо родиться философом и поэтом. И я сделал это в феврале 1957 года. Я родился. Произошло это в семье рабочего и интеллигентки. То бишь мой отец был шофёром, а мать – скромной сельской (труженицей) учительницей, а к моменту поступления моего в учение – школьным библиотекарем. Так что детские годы мои прошли в библиотеке под неусыпным надзором классиков русской, зарубежной и отчасти советской литературы. Мне с ними было нескучно.
Происходило всё это в далёкой и жаркой Средней Азии, где классики за неимением более или менее цивилизованной среды очень ценились. К их слову прислушивались. Все классики советского периода советовали прежде чем писать, набраться жизненного опыта. И после восьмого класса я поступил в местное железнодорожное училище. Принимали туда без экзаменов и поэтому к концу осени там собиралась вся шпана Туркменской Советской Социалистической Республики, а также братского Узбекистана. Так что набраться жизненного опыта мне удалось.
Но до вершин – тюрьмы или колонии, где заканчивали учёбу многие воспитанники этого училища, я не добрался. Более того: на этом фоне я выглядел отличником, комсомольцем и почти красавцем, короче говоря, по окончании училища я был направлен в институт.
Полтора года, проведённых в Ленинграде, оказались следующим этапным временем в моей молодой жизни. Если в училище я набрался жизненного опыта, то в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта я набирался опыта художественного. Дело в том, что при этом институте работала театральная студия, которую вёл Владимир Афанасьевич Малыщицкий, основавший позже Молодёжный театр на Фонтанке. Его спектакли приходила смотреть вся интеллигенция северной столицы. Мне же удалось – сам до сих пор не пойму как – попасть в эту труппу. Правда, актёра из меня не получилось, как не получилось и студента-железнодорожника.
Бросив институт, я ушёл служить в армию, или школу жизни, которую уже в те времена советовали проходить заочно. Но и очное обучение в ней после училища меня уже не испугало, а только удручило своей нудностью, Отслужив, я поступил на факультет журналистики МГУ. С тех пор пишу профессионально, но, слава богу, не в журналистике.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
За столом под водочку с закуской
русский я, я безусловно русский.
А когда я крупно отоварен,
значит, я еврей или татарин.
Лишь одно во мне без перемен:
в чем-то где-то я порой туркмен.
СЫН, ВЕРНУВШИЙСЯ ДОМОЙ

ПОДРАЖАНИЕ КЛАССИКАМ
Был я молод – кровь кипела и ходило ходуном нерастраченное тело, а сегодня плешь блином, ног не чую, руки слабы, возле некому помочь, ни ребёнка нет, ни бабы. Ночь! По ночной бреду дороге, справа – крест и слева – крест. Выносите меня, ноги, из проклятых этих мест... Шаг неровен. У могилок не видать во тьме ни зги. Только жизнь сосут из жилок неживые огоньки. Чу, летит быстра и хватка нечисть, крыльями шурша. Да чего ж ты лезешь в пятки, моя вечная душа?! Налетели, рвутся к шее, дотянуть бы до зари, защищаюсь, как умею, а они, нетопыри, как ворьё по телу рыщут, в уши свищут, в рёбра бьют, их кровавые губищи так и ищут, так и ищут... Весь я тут! Вот они вонзают разом свои острые носы – и зашёл мой ум за разум, рвут живое мясо, псы!.. Вдруг заминка, я поднялся, а они как заорут:"Да на кой ты нам попался? Ах, мошенник, ах ты плут! Ты же пуст, хоть ясен ликом, значит, всё отдал любви?.." – и пропали твари с криком:"Живи-и!"
***
Дорога к моей женщине проходит вдоль железнодорожного пути. Затем надо идти широким полем. На полпути меж рельсами и полем лежит пустырь. И стынет неба ширь...
Здесь по колено был фундамент. Под ногами под белым снегом плотен чёрный цвет. Как след. И меркнет белый свет...
На уровне моих коленей мелькают ноги чьих-то теней. Босые ноги, нагие тени. Жена чужая меня не видит, а видит мужа. Чтоб не столкнуться, иду сторонкой. Я здесь не нужен. Скрипят кровати или снежинки под ботинком? Вот что-то взвыло, тираня уши. Метель? Пластинка? Летит мелодия шальная, меня пугая. А люди-тени её не слышат и засыпают. И засыпает снег бескрылый всё, что остыло. И дом стоит без стен, без крыши, и всё равно ему, что слышит прохожий. Он не этим дышит...
Миную взгорок. И через мгновенье, сейчас, вот-вот мне распахнётся поле. И я войду в него, как в жизнь иную...
Я к женщине войду – и поцелую.
***
Разбудите меня рано,
чтобы, ёжась после сна,
я увидел, как туманы
протянулись от крыльца,
как далёкой кромкой леса
обозначен горизонт,
как бредёт ночной повеса,
на плече несущий зонт,
как лежит большой просёлок,
огородами зажат,
как осипшие заборы
грядки с луком сторожат,
как плывёт в тумане тополь,
будто парус над рекой,
как боится дверью хлопнуть
сын, вернувшийся домой.
***
Опять, опять, опять... С востока
багровянится окоём,
фонарь далёкий одиноко
стоит упорно на своём,
а соловьи сливают свисты
в предутреннюю тишину,
и в небе облачном и мглистом
нет и намёка на весну.
Нет и намёка. Так от века
весна слезы томит раствор,
чтоб мир омыло из-под века
всевидящее торжество.
* * *
Губы – сок малинный. Цвет их – крик!
Без предисловий длинных я славлю миг.
Забуду, что жизнь непрочна, тебя любя.
Если любовь порочна – святы и ты, и я!
Чудо моё в малой комнатке,
как я благодарен тебе
за то, что меня незаконно
ты допустила к себе.
За то, что диван не складывала,
когда по утрам уходил.
За то, что вперёд не загадывала.
За то, что тебя любил.
От метро «Комсомольская» —
всё налево и вниз —
дует летний московский
освежающий бриз.
Засыпают троллейбусы
вдоль стены налегке,
словно баржи, застывшие
на асфальтной реке.
Их раскрытые двери,
как открытые рты,
тёплой тайной чернеют
средь густой синевы...
Искривлённая улочка,
где затеряна дверь,
незаснувшая женщина
и пустая постель.
Ночь. Раскрытое окно. Дождь.
Ну чего ты от неё ждёшь?
Всё дала. Всё, что могла дать.
Не имеющегося – не взять.
Ты присядешь на дивана край,
не целуя, гордо скажешь:"Прощай!" —
и уйдёшь, тихо дверь притворив,
а она будет бледнеть до зари
и ни...
Уходят года и люди,
боль
любой
любви.
Но вырастают прелюдии
к немым
возвышеньям
души!
* * *
В день, когда скучный дождь скучно барабанит по листовому железу крыши, когда скучное низкое небо обложено скучными серыми облаками, когда цветы, стоящие передо мной на столе, так же скучны и безлики, как скучны однотонные обои, отделанные скучными стандартными цветочками, когда каждый звук в природе скучен, уныл и раздражающ, когда тишина так же невыносимо скучна, как невыносимо скучен шум, когда спокойные лица окружающих так же скучны и невыразительны, как улыбающиеся – скучны и нелепы, когда смеющиеся лица поразительно неестественны и дики своей неприемлемостью в этом скучном мире, – я вдруг остро и мгновенно понимаю, как я люблю тебя, как нужна ты мне и как я пуст без тебя.
***
Откровение сотворю
на коленях я сентябрю —
и к янтарному алтарю
меня мёртвого принесут.
Ах, янтарная та сосна...
Ты выныриваешь – блесна —
из клязьминского из леска
у клязьминского бережка.
Приходил к тебе на моленья
и сидел на сухих кореньях,
забываясь в своих виденьях
о холодных круглых коленях...
А потом ходил светел, свеж,
вновь был полон простых надежд
и из тысяч любых одежд
лишь одну узнавал, как пёс…
Видно, издавна повелось:
что хирело, что жило в рост —
всё найдёт церковный погост.
Ах, куда меня заносило!
Жизнь какая меня бесила!
А теперь не имею силы
глаз поднять на её могилу...
* * *
Прелестна нелогичность женских слов
Необъяснимо тонкое волненье
И кажется тягчайшим из даров
легчайшее руки прикосновенье
Не умирай, любимая, не уходи!
Я не могу понять, что ты
с другим.
Веселым иль угрюмым, добрым, злым.
Любым!
Я не могу понять, что ты
с другим...
Как непонятно просто в мире всё.
Играют дети. Солнце бьёт в окно.
Пенсионеры в стол вбивают домино.
Но! Как непонятно просто в мире всё.
А в комнате —
молчание твоё.
Оно меня по нервам тупо бьёт,
оно висит, а я сижу и жду.
Ты у дверей счищаешь маникюр,
на пальцы смотришь,
говоришь: "Пойду?.."
Ну так чего же я сижу и жду?!.
Ведь ты уйдёшь! А солнце будет бить
нещадно... Пусто... И в висках стучит...
Всё так же жить?
По городу бродить?
Кивать соседям?
Нелюбимым быть?
Нет!
Не могу!
Чего ж я не могу?
Всё будет так.
И я себе не лгу.
Всё бесполезно и неотвратимо.
Сегодня умерла моя любимая.
Тоска плывёт по городу, тоска...
Любимая, а помнишь, как тогда...
Роняют женщины тела
И обречённо раскрываясь
сгорают глупые дотла
Но
недоступно засыпают
* * *
Не видать на небе
ни звезды, ни Бога.
Млечная дорога
в чёрных облаках.
Но не разделяют
думу о тревогах
соловьи с лягушками
впотьмах.
Только лишь соседский
пёс всё плещет цепью
и великолепью
песенных ночей
противоставляет
образ свой нелепый.
Вроде бы хозяйский,
а меж тем – ничей...
ЛЕТНЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
Ах, соня, проснись и застынь
у оконца, увидев сквозь серых
ресниц волоконца, как в синьке
небесной полощется солнце...
ЖИВЁМ МЫ ОДНАЖДЫ
Живём мы однажды, но верует каждый – к нему благосклонна судьба. Горит – не сгорает и на день лишь тает его непростая звезда. Меня ж на рассвете разбудят соседи заботами нового дня. Пусть я им не нужен, но ими разбужен и греюсь у их очага. Не в этом ведь дело, какого предела достигла шальная душа. Чего б ни хотела, куда б ни летела, вновь к людям вернётся она. Когда-то, я знаю, мы все осознаем: на самой святой из планет всё наше призванье и носит названье простое-простое – сосед. И пусть я однажды уйду, как и каждый, возможно, проводят меня лишь только соседи по этой планете с названьем прекрасным – Земля...
НОШУ В СЕБЕ

* * *
Стихи ночные не чета дневным:
им не накинуть никакой одежды.
Они голы, как чёрные стволы,
где ни листвы, ни веры, ни надежды..
ВСТРЕЧА С АРСЕНИЕМ ТАРКОВСКИМ
Я опоздал. Уткнулся в чьи-то спины,
тянулся ухом за дверной проём,
а сзади наступающие клином
проталкивали нас за окоём.
Я головой вертел, я слышал Голос.
Он был печален, горек... и волнист!
А в нос мне лез какой-то девы волос.
Душа тянулась вверх, а плечи вниз...
И всё же краем глаза я заметил,
как, отражаясь в сумрачном стекле,
читал стихи Поэт, высок и светел.
Боль проступала на его челе.
Я глаз косил на это отраженье,
я впитывал слова, привадив слух...
Витало над собраньем отрешенье,
и голос плыл, томителен и сух.
Вот он прервался. И в одно мгновенье
все выдохнули, как солдаты – враз!
И сразу началось столпотворенье,
и наконец-то протолкнули нас.
Тут чей-то голос возвестил толково
(действительно, вначале было слово),
мол, чтоб войти, не биться об углы,
необходимо вынести столы.
И вот столы взметнулись, покачнулись
и по рукам и головам пошли
(ах, не сносить кому-то головы!),
а мы ещё на метр протолкнулись.
Мы лезли в зал, как лезем в душу другу.
Слепой башмак на дружескую руку
совсем недружелюбно наступал,
не извинялся. Он стремился в зал!
Девицы шли как в бой высокой грудью
(грудная клетка с этаким орудьем
кого угодно с ног свалить могла) -
я трепетал, вцепившись в край стола...
Но вот вдруг кто-то в страхе и волненьи
на стол оставшийся взъелозил по коленям -
и зал опешил, не поняв момента.
Но тут же раздались аплодисменты!
Пример был подан. И за ним вослед
мы ринулись. На нас глядел поэт.
Мы рьяно лезли на спину собрата,
кто извинялся, кто-то крыл нас матом,
кто поднимался, место уступал -
и наконец в себя нас принял зал.
Я огляделся. И в углу, как в сенях,
заметил старика. То был Арсений
Тарковский. Невысок старик,
лицо обыкновенное – не лик,
седые волосы, пергаментная кожа
(а я увидеть бога лез из кожи!).
Старик поднялся, сразу зал затих,
и голос зазвучал, волнист и тих.
Читал он долго. Все ему внимали,
с почтением вздыхали и молчали,
записки на коленочках писали
и осторожно их передавали.
Он прочитал записки, отвечал:
"Из ныне здравствующих?.. – помолчал, -
кого люблю... Толстой и Достоевский."
И мысль его была простой и дерзкой.
Но он был стар, к тому же он устал,
и это понял молодёжный зал.
Его благодарили, извинялись,
и вновь благодарили, и прощались.
Старик ушёл. И я о нём забыл.
Кто спросит, я скажу: "На встрече был..."
Но отраженье на ночном стекле
ношу в себе!
ВО ВРЕМЯ ГРОЗ
Во время гроз я рос. Из-под берёз тянулся я. Кропил мне душу дождь. А нынче что ж? Чем плоть свою ни тешь и сколь ни ешь, растёт лишь только плешь. И час настал – я понял, что искал, увы – напрасно, счастья матерьял. Что там любви – надежды нет в крови, а в петлю рано, что ни говори. И вышел срок терять всё, что берёг: ведь от судьбы не упасёт замок. И дух греха покинул дурака. И стал я чист, как мёртвая река. Во время гроз я рос. Из-под берёз тянулся я до самых дальних звёзд. И вот дорос. Здесь раньше жил Христос. А нынче что ж? А нынче что ж... А нынче что ж!..
ПОЕЗДКА С КУРСКОГО ВОКЗАЛА
Курский в красках разной масти.
Я в вокзальной суете
то ли думаю о счастье,
то ли просто о себе.
В кулаке билет держащий,
у перрона на краю
постою, в вагон дрожащий
электрический войду.
И пойдут плясать вагоны
под заученную дробь
то со скрипом, то со стоном
потрясающий притоп.
Я усядусь у окошка
и нахохлюсь, как сова,
поплывёт бетонной крошкой
заоконная Москва.
Пассажиры сядут рядом,
кто-то выйдет подымить,
и что надо и не надо
будут люди говорить.
Иссобачился, мол, ныне
и не тот пошёл народ,
и не те теперь картины,
и правительство не то.
– Вы слыхали? Указали,
чтоб земле не пустовать,
кукурузой и арбузом
весь Шпицберген засевать.
– Это что, вот ихний премьер
номер выкинул опять:
обещал единой репой
нашу землю засажать!
– Мы пока словами ладим,
а придётся воевать,
мы ему не то засадим.
Ишь, орёл! Такую мать...
Что тут вымысел? Что правда?
Ах, слова, слова, слова...
Лишь несётся по канавам
придорожная трава.
– Эт-ты, брат, сбесился с жиру.
Ну на кой те столько баб?
– Верную ищу, Порфирий.
– Эт-ты разумом ослаб.
– И такая вот, Олег,
глупая сентенция:
в самый просвещённый век
нет интеллигенции.
– Ты сама подумай, Маша,
он хоть жмот, зато не пьёт,
а что бьёт, так жисть-то наша...
– Да ведь он же трезвый бьёт!..
Не могу. Нашарю пачку,
подымусь, пойду курить,
хоть у самого в заначке
есть о чём поговорить.
Перепляс вагон качает
и единственный мотив
души наши выпевают:
каждый хочет быть счастлив.
Выйду в тамбур – там о пиве.
Ну, несчастный же народ!
Каждый ведь рождён счастливым.
Жизнь – работа из работ.
* * *
Иду по улице -
и вдруг...
Как сто тысяч чудес на голову!
Ты.
Идёшь мне навстречу,
чему-то улыбаешься.
Солнцу, наверное...
Дыханье перехватывает от наступившей
тишины.
В тиши
ты замечаешь меня,
на мгновенье приостанавливаешься -
и бежишь ко мне по тротуару.
Но почему-то всё это видится,
как в замедленных кинокадрах.
Я бросаюсь к тебе, рву руками воздух,
который стал плотным, как в кошмарном сне -
и барахтаюсь почти на месте.
Медленно сокращается расстояние.
Раскидываю воздух клочками ваты.
Помимо ушей хлещет городской гвалт.
Воздуха масса трещит, как трещат
по швам разорванные брюки.
Вижу собственные руки,
тянущиеся к тебе.
Вроде это во сне
привиделось мне,
когда и где -
не помню,
словно...
А быть может действительно -
всё это мне только кажется?..
Мы стоим уже друг напротив друга,
немо глядим в глаза.
С усилием разжимаются губы,
кто-то из нас сказал:
– Здравствуй!..
– Здравствуй!..
– Ты!.. как живёшь?
– Спасибо, хорошо, а ты...
– Я!.. я тоже...
Что ж мы говорим? О боже!
Как сиамские близнецы
плотью чувства мы сращены.
Почему же и я, и ты,
как набравшие в рот воды,
стоим.
Глаз не в силах от глаз отвести!..
Мир запрокидывается навзничь.
Трамвай юзом по рельсам плачет.
На клумбах головками вниз
свешиваются цветы.
Дыбом встают мосты.
Исчезаешь ты!
Как виденье
в мгновенье
конца
сна!
Что ж молчу я?!.
Да здравствуй же, любовь,
во все века!
Пусть люди вновь и вновь
ищут тебя!
И как маяк впотьмах,
как вечный крик,
пусть в душах и умах
любовь горит!
Кричу я, задыхаясь,
и горлом – кровь:
"Да здравствует большая
моя любовь!"
А по фасаду неба
горизонт
трепещущей растёкся
живой
слезой...
РАССТАВАНИЕ
Отныне обречён
дверь отпирать ключом,
валиться на кровать
и думать ни о чём.
В САДАХ СУДЬБЫ
И вот уж яблоки опали,
пусты зацветшие листы.
Пускай грустны мои печали,
в них нет и привкуса беды.
Чисты синеющие дали.
И мы в преддверии зимы,
конечно же, мудрее стали.
Не стали счастливее мы.
И петь, и плакать мы устали,
благословляли и кляли,
и верить мы не перестали,
и в вере сил не обрели.
... и лишь следы в
садах судьбы...
К ТРИДЦАТИ
К тридцати седины
на висках не спрячу.
Но ещё отчаянней
верю я в удачу!
К тридцати мысль моя
видимо окрепла:
из камней строю дом,
а любовь – из пепла.
Жить так жить! Говорить
не имеет смысла.
На вершине крутой
жизнь моя зависла.
Билась жизнь в двери лбом,
а от счастья слепла.
А теперь из камня дом,
а любовь – из пепла.
Как я лез, как я полз,
ах, до той вершины!
Соскользну теперь легко
с парной половины.
Даже если потом
помниться в веках мне
из золы моя любовь,
а мой дом из камня...
***
Боль души своей глуша
тяжело, с надрывом,
ухожу я от тебя
шагом торопливым.
Пролетают надо мной
птиц крикливых стаи,
только что-то по весне
вновь их возвращает.
Почему не держат их
солнечные блицы?
Помнишь, ты сказала мне:
"Ты похож на птицу..."
ТАК ЛИ ЖИЛ
Так ли жил иль жил не так, как надо,
к тридцати годам не разобрать.
Но не спится по ночам – нет сладу
с совестью, что не желает спать.
Точит мозг вопрос такого рода:
чтобы что-то на земле понять,
то ли верить надо мне во что-то,
то ли что-то надо объяснять?
Но не верится, как ни стараюсь.
Видно, что-то лопнуло в душе.
Объяснять и вовсе не пытаюсь,
так как всё объяснено уже.
Я лежу, курю в своей постели.
За окошком звякает трамвай.
А душа от боли рвётся в теле
и кричит, хоть рот ей зажимай...
* * *
Меня родня осудит.
Друзья?.. Те не поймут.
Любимая забудет,
что её писем ждут.
Осунутся вокзалы
в тоске и суете
и женщины, что будут,
не те,
не те,
не те...
ПОД НОВЫЙ ГОД
Занавесит окна ледяным узором,
веткою еловой разукрашу дом.
Постучится в двери странник безнадзорный,
карлик невезучий по прозванью "гном".
Он приносит счастье тем, кто глуп и молод,
кто не выпускает радости из рук.
Мне не надо счастья и любовный голод
пусть других тревожит. Мне же недосуг.
Сяду с другом рядом, обниму за плечи,
не скажу ни слова. Он поймёт всё сам.
В этот новогодний и последний вечер
не доверю душу пагубным словам.
Только за окошком ветер воет, злится
и разносит снежный и бездушный хлам.
Карлик молча встанет, мол, воды напиться,
и закроет двери за собою сам.
ЗИМНИЙ ЭТЮД
Мороз безмолвием звенел. И в сумерках белесоватых клочками посеревшей ваты на крышу дома дым осел.
* * *
Спать, спать, спать! И выдумывать нечего.
Для того ли дана нам кровать,
чтобы мыслью своей гуттаперчевой
из бессонниц слова корчевать,
поворачивать так ли их, сяк ли,
и опробывать точность на вкус?
Сны дневные до завтра иссякли.
Мозг ночной избирательно пуст.