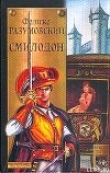Текст книги "Смерть транзитного пассажира "
Автор книги: Сергей Высоцкий
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Певцы ушли.
– Ты зря, Трофим, дитев обидел. Видать, сироты. Харч себе добывают, – произнес кто-то тихо.
– Может, и зря… – со вздохом согласился басовитый мужчина. – Может, и зря… – И потом вдруг, озлившись, заорал: – А может, и не зря! Ты видал, сколько шаромыжников развелось, видал! Ходют по поездам. Видал в Александровке инвалид, как копяшка, папиросками торгует. А морда с вина опухшая. Он же пенсию получает. Для них дома специальные есть!
– Они божьи люди! – с укором сказала какая-то женщина, и все смолкли.
Поезд прошел уже Ижору, Татьянино, подбирался, осторожно постукивая, к Гатчине. Повеяло сыростью, хвоей, палым листом…
…Когда Василий Кузьмич шел от станции лесом к Лужкам, совсем стемнело. С реки тянулся туман, начало холодать, лес стоял тихий, величавый и страшноватый. Василий Кузьмич шел быстро, надеясь, что вот-вот увидит огоньки. Но огоньков не было. Стояла глухая, плотная тишина. И скоро в этой тишине услышал Василий Кузьмич такой знакомый с детства негромкий, покойный шум. Это шумела мельница. «Значит, сейчас конец лесу, сейчас уже и деревня», – подумал он. Через пять минут Василий Кузьмич, волнуясь и ускоряя шаг, подходил к деревне.
Он узнавал дома по очертаниям на фоне светлой полоски на западе ночного неба. Это Липатовых, это Семеновых… и вдруг – провал, здесь должен стоять дом тети Веры Васиной… И еще провал, и еще…
Свернув с прогона на боковую улицу, Василий Кузьмич остановился как вкопанный: за кустами маленького сада было пусто – дома нет. «Так вот почему никто не приехал в больницу… – прошептал Василий Кузьмич. – Так вот почему…» Сердце его сжалось и словно приостановилось. Он почувствовал озноб, какой-то внутренний озноб, от которого уже никогда не согреться… Василий Кузьмич стоял и стоял на дороге перед тем местом, где когда-то был его дом, и не мог сделать ни шагу. Тихо шелестели листья в саду, а где-то далеко-далеко стучал поезд.
Наконец Василий Кузьмич стряхнул с себя оцепенение и пошел к соседнему дому, к Буровым. Дом был на месте.
«Уже спят», – решил он, не увидев в окнах огня. Он раздвинул густые заросли сирени и подобрался к окну. Оно было забито… Второе – тоже. И третье…
«Может быть, на кухне?» С трудом продираясь сквозь разросшуюся сирень, Василий Кузьмич обошел дом. И кухонное окно было забито. Еще не веря, что в доме никто не живет, он зашел во двор и толкнул ворота. Они подались, визгливо заскрипели, растворились. Сыростью, прелой соломой и затхлым духом давно покинутого жилья пахнуло на Василия Кузьмича. Где-то под крышей не то захлопала крыльями курица, не то слетел с гнезда голубь. Василий Кузьмич чиркнул спичкой. Робкий, трепетный огонек высветил кусок двора. У маленькой лестницы при входе в дом он заметил кучу тряпья и лохматую голову. Спичка погасла– он чиркнул второй. Увидел, как приподнялась голова…
– Кто здесь? – спросил Василий Кузьмич. Спичка снова погасла, и он стоял, напряженно вслушиваясь. Раздался неясный шепот, потом шаги. Кто-то схватил его за руку, гладил голову, всхлипывая.
– Кто это? Кто это? – шептал растерявшийся Василий Кузьмич.
Старушечий голос произнес:
– Вернулся, мальчик мой, вернулся, деточка. Порадовал старуху. Вернулся…
Костлявая, жесткая рука сдавливала руку Василия Кузьмича все крепче и крепче. Напрасно он все спрашивал, теряясь в догадках:
– Кто это? Кто это? Тетя Лена?
Женщина не отвечала, гладила, гладила по голове, прижимая Василия Кузьмича к груди.
– Все меня кинули, все. Только ты, Мишенька, вернулся. Им теперь что, на небушке яблошки кушают, забыли про старуху… И боженька забыл.
– Да пустите же… – Василий Кузьмич вырвался с трудом из цепких рук. – Я спичку зажгу, я не Миша, тетя Лена. Я Василий. Павлов Василий. Сосед ваш…
Он дрожащей рукой зажег спичку, прикрыл ладонью. Лохматая, изможденная старуха впилась в него глазами. Она молчала секунду и, как только погасла спичка, ударила Василия Кузьмича наотмашь по лицу.
– Ах, ирод! Где мой Мишенька? Куда дел моего сыночка? Будь ты проклят, тьфу!
Василий Кузьмич почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Оранжевые круги пошли перед глазами, тяжестью налилось все тело… «Опять приступ», – мелькнула мысль. Он с трудом, словно пьяный, вышел на улицу. В голове гудело колокольным звоном. Василий Кузьмич прошел с десяток шагов, ничего не замечая вокруг, наткнулся на бревна и молча осел на них, теряя сознание…
…Он очнулся не скоро. Кто-то светил ему фонариком прямо в лицо. Василий Кузьмич зажмурился. Голова все еще гудела. В теле чувствовалась непреодолимая слабость.
– Никак оклемался, – сказал светивший, – я уж думал, помираешь…
– Фонарь-то убери, – попросил Василий Кузьмич.
Человек погасил фонарь и сел рядом на бревне. Василий Кузьмич увидел, что уже начинало светать: сквозь фиолетовую темень стали проступать очертания деревьев, редких деревенских крыш.
– А я на реку топаю через прогон – слышу, вроде мычит кто-то, – стал рассказывать человек. Василий Кузьмич разглядел, что это пожилой, крепкого сложения мужчина. И еще заметил: вместо левой руки – засунутый в карман пальтушки рукав. – Удочки вон положил на забор и сюда. А ты тут разлегся. Чую, что не по пьяному делу. Я и так и этак, ворот вон расстегнул, водой попрыскал… Да ведь не доктор… А ты вон и оклемался.
Он помолчал немного и спросил:
– Да я поглядел – ты никак здешний? Навроде Васька Павлов? Аль сыскался?
– Сыскался. – Василий Кузьмич понемногу приходил в себя. Сел поудобнее. Вынул папиросы, протянул безрукому.
– Я тебя тоже узнал, дядя Гриша…
– Гришу узнать за версту можно, – усмехнулся безрукий. – Пустой рукав – хорошая примета!
Руку Гриша Дружков потерял еще до войны, на лесопилке.
– Да теперь таких пустых-то… Куда ни глянешь… Моих что, фрицы спалили? – спросил, стараясь сдержать дрожь в голосе, Василий Кузьмич и почувствовал, как снова пошли перед глазами круги.
– А кого они не спалили, ты спроси лучше. Пять домов цельных осталось. Только начинают отстраиваться… Твои вроде скоро вернутся. Луша Ветрова письмо получила с Германии. – Он помолчал. – Жить у меня будете, больше не у кого. Пока отстроитесь. Не подеремся… Ты чего не писал-то, Вася? В плену был?
– В госпитале лежал, – тихо ответил Василий Кузьмич, – с сорок первого… Потом в доме инвалидов и снова в госпитале. Меня же здесь, под Лужками, и ранило и контузило. Еле выходили. Да память отшибло начисто. Так и лежал четыре года безымянный.
– Что ж, документа при себе не было?
– А га, – сказал Василий Кузьмич. – Не было. Закопал, как увидел, что фриц обходит. Думал, живым все равно не дамся, а как мертвеца звать – знать им не обязательно. А что, в Германии-то и мать и Татьяна?
Татьяной звали младшую сестренку Василия Кузьмича.
– Ну да. Мать и Танька. На Кузьму Тимофеевича похоронка еще в августе сорок первого пришла. Ты, наверно, слышал… – Дядя Гриша затянулся папироской и посмотрел на Василия Кузьмича вопросительно.
Василий Кузьмич слышал о гибели отца. В последнем письме из дома мать писала ему об этом.
Они посидели, помолчали. Уже совсем разъяснило. Легкий утренний ветерок зашелестел в липах, принес дымок растапливаемой плиты.
Продрогшая за ночь, потемневшая от осенних дождей, лежала перед Василием Кузьмичем его родная деревня. О том, что когда-то деревня была больше, можно было судить только по буро-зеленым островкам садов, выстроившихся вдоль дороги в ряд с несколькими уцелевшими домами. А за садами – провалы, груды хлама, заросшие крапивой. И такой же провал там, где стояла пятистенка Павловых.
Василий Кузьмич разглядел несколько землянок, наскоро сколоченных хибарок. В двух или трех местах отстраивались всерьез – стояли подведенные под крышу свеженькие срубы. И только один большой дом был отстроен полностью. На том месте, где раньше была школа. Судя по размерам, и новый дом был отведен под школу.
Необычная, неестественная тишина поразила Василия Кузьмича. Ни крика петухов, ни мычания выгоняемых в поле коров, ни треска заводимого трактора… Только тонкий свист перелетающих с дерева на дерево синичек.
– А старуха у Буровых сумасшедшая? – нарушил Василий Кузьмич молчание.
– Да это Елена Ильинична, – отозвался дядя Гриша. – Была совсем трехнутая, нынче отходить помаленьку стала. И то ведь – сколько пережить-то пришлось. Старшего-то, Кольку, под Псковом убили в начале войны. А мужик – да ты, поди, помнишь – еще до войны посажен был. За кулацкую его натуру. Так словно в воду и канул – ни одной весточки. Только недавно вдруг письмо пришло – оказывается, с тюрьмы в армию пошел. Дрался так, что орден дали. Жив, здоров, демобилизоваться собирается. Младший, Мишка, считай, тоже погиб. Без вести. Пропал…
– Пропал? – крикнул Василий Кузьмич. – Пропал, говоришь? Нет, дядя Гриша, не пропал Мишка без вести. Вести о том, куда он пропал, у меня вот здесь сидят, словно уголья раскаленные. – Василий Кузьмич ударил себя в грудь. – На моих глазах свои кривые лапы поднял и немцам навстречу пошел. Из того окопа, где мы оборону держали. Танки держали! А он лапы поднял… Погибших ребят предал, родню свою, деревню свою… А, да что говорить. Родину предал, гад трусливый. Иуда! Эх, у меня в пулемете тогда ленту заело! – Василию Кузьмичу стало жарко. Ненависть к этому человеку, с которым они провели вместе детство, юность, сидели в одном окопе, душила его. – У меня для этой падали всегда один патрон храниться будет. До самой смерти. А если умру, то детям своим накажу… Кто бы его ни судил, кто бы его ни оправдывал – у меня к нему свой суд, особый. Не жить нам с ним на одной земле…
– Вот как! – Дядя Гриша даже присвистнул. – Сдался. Ну, Мишка, мамкин тихоня, недаром на всех зверенышем смотрел… Сдался! А я-то думал, погиб как человек. Не вытянул, значит… Что ж, всяк родится, да не всяк в люди годится. А как здесь мать убивалась… Сколько вытерпела от фашистов. – Дядя Гриша заволновался, он тоже чуть ли не кричал. – Ведь и били они ее и повесить грозились за то, что оба сына в Советской Армии воевали. А она и не скрывала… «Сама, говорит, в партизаны бы ушла, если бы не слепая». Ведь она куда как плохо видит… А они ее бить… До болезни довели. Ну, слава богу, кажись, получше сейчас, поспокойней она стала. Днем, на людях, и совсем хорошо… Э-эх! Ну, что служивый? Пойдем до дому. Надо тебе жить начинать.
Они поднялись с бревен. Дядя Гриша взял свои удочки, Василий Кузьмич – тощий вещмешок, и потихоньку зашагали по булыжной дороге туда, где стоял в густых зарослях сирени дом Григория Сидорова.
…Сколько лет прошло с этих пор! Сколько воды утекло! Уже чем-то безмерно далеким стала война. Нет– нет да и мелькнет мысль: да было ли все это? Страшные бои, смерть товарищей у тебя на руках, горящие танки с черными крестами, пепелища вместо деревень. Было ли все это? А если было, то как смогли перенести все эти муки, как смогли выстоять, не сломиться, сохранить в себе доброту и радость?
Все это было. И все жило в памяти людей, передаваясь из поколения в поколение. В памяти народной ничто не было забыто. И сегодня он убедился в этом… Василий Кузьмич вздохнул. Война пыталась отнять у него самое важное в жизни человека – память. Самое важное, потому что без памяти нет человека. Но не смогла…
В райцентре он успел побриться и, благоухающий одеколоном, веселый, появился в загсе в то время, как дочь с женихом, родня, гости заходили в просторный зал, где должна была проходить церемония. Жена шепнула, смерив его уничтожающим взглядом: «Все не как у людей». А дочь улыбнулась и заговорщически подмигнула. «Эх и гульнем! – подумал Василий Кузьмич. – Не каждую субботу дочерей замуж выдаем!» 6
…Буров поднимался и нарочно смотрел только себе под ноги, на желтую от старой хвои тропку, всю оплетенную узловатыми корнями сосен. Буров хотел увидеть деревню сразу, всю. «Или не увидеть, – подумал он. – Или не увидеть ничего, только лес. Молодой лес, заросли никому не нужной ольхи…» Такая мысль овладела Буровым. Он подумал, что это может дать ему облегчение, освободить от проснувшихся вдруг воспоминаний, ненужных, тягостных и навязчивых. «Еще в сорок первом деревня почти вся сгорела, – думал он, спотыкаясь о корни, – а сколько потом здесь было боев… Кому захотелось отстраиваться в такой глуши? Небось строились ближе к городу. А здесь все заросло, все…»
Буров запыхался и наконец почувствовал, что достиг вершины горки. Он остановился и поднял голову.
Туман рассеялся совсем и только кое-где над рекой еще клубился маленькими островками. Прямо перед Буровым, освещенная ласковым солнцем, лежала большая деревня. Он сначала даже подумал, что ошибся, вышел не туда, но взгляд его остановился на большом, потемневшем от старости и от дождя доме, наполовину упрятанном в липах и цветущей черемухе. Дом стоял на задворках деревни, у проселка, поблескивающего лужами. Это был его дом. Легкий дымок вился над трубой, несколько белых пятен из свежей дранки виднелось на крыше: ее недавно чинили. Буров оглянулся, ищя куда бы присесть. Но присесть было некуда – ни пенька, ни поваленного дерева, только мокрая трава. Он прислонился к сосне и жадно вглядывался в этот старый и такой знакомый дом, в тенистый сад, небольшую полоску вспаханной земли рядом. И сад и поле были пусты. И если бы не струйка дыма, можно было бы подумать, что в доме никого нет.
«Кто же там? Кто? Мать? Отец? Брат Николай?»
Мать? Но какая же старая, должно быть, его мать, если и он почти старик, тертый жизнью, еще сильный, но старик… Почему старик? Почему он зачислил себя в старики? Ведь ему еще пятьдесят один… Ему рано быть стариком! Рано!
Сколько же сейчас матери? Семьдесят пять? Больше?
Буров поймал себя на мысли о том, что он забыл даже год рождения матери, день ее рождения.
Если она жива, то ей, наверное, семьдесят пять… Если жива… А отец был на год моложе… Но что отец! Уж его-то наверняка в живых нет. Тюрьма бесследно не проходит. А был бы жив отец, порадовался за сына, за то, что крепко на ноги стал. Он и сам всю жизнь мечтал крепко на земле стоять, справно.
Буров вдруг увидел велосипедиста, едущего по направлению к его дому. Велосипедист ехал не спеша, осторожно объезжая лужи на дороге. Вот он подъехал к калитке, слез с велосипеда… У Бурова захолонуло сердце. Он всматривался до боли в глазах, стараясь определить хотя бы возраст этого человека. Человек вынул из сумки, привязанной к велосипеду, что-то белое и, прислонив велосипед к забору, открыл калитку и пошел к дому.
«Почтальон», – догадался Буров. Человек подошел к окошку и, видимо, постучал. Окошко растворилось. Бурову показалось даже, что он видел протянутую руку. Почтальон передал газеты в окно. Постоял несколько минут и, вернувшись к велосипеду, поехал дальше.
Буров, оторвавшись от притягивающего взгляд дома, долго следил за почтальоном, стараясь угадать, к кому еще он заезжал. Но угадать ничего не мог: деревня неузнаваемо изменилась. В том конце, где когда-то была небольшая белая школа и школьный сад, стояли красные кирпичные домики, все как на подбор небольшие, чистенькие, крытые черепицей. На том месте, где стоял скотный двор, высилось двухэтажное здание. «Наверное, школа», – подумал Буров.
Деревня жила своей обычной жизнью. Маленький трактор тащил по улице прицеп с какими-то ящиками, кое-где в огородах работали люди; мальчишки, сложив в кучу портфели, громко спорили, сгрудившись у реки.
Почтальон ехал от дома к дому, кое-где засовывая газеты в привешенные на калитки ящики, кое-где заходя в дом. Но как ни пытался Буров вспомнить имена земляков, которые жили в этих домах, он ничего вспомнить не мог: недаром столько лет изгонял из памяти все, что касалось прошлого.
…Сначала он боялся вопросов. Вопросов о том, как очутился в Париже, почему не возвращается в Россию. Тогда даже эмигранты, словно забыв о том, что их самих привело на чужбину, с презрением относились к своим соотечественникам, служившим у Гитлера. Буров сам видел, как какой-то русский, не то князь, не то граф, плюнул в лицо бывшему власовцу.
Газеты Бурова никогда не интересовали. Не стал читать он и эмигрантские листки.
Первое время, еще не зная толком языка, мыкаясь с жильем, пробавляясь временной работой, Буров постоянно чувствовал по отношению к себе не презрение, нет, скорее всего хорошо скрытое пренебрежение у одних и легкую жалость, подчеркнутую холодную внимательность у других. А это бесило его. Особенно жалость. Он ненавидел людей, которые хотели помочь ему, хотя не всегда мог позволить себе отказаться от этой помощи. И он старался никому не дать повода ни для пренебрежения, ни для жалости.
Буров упорно учил язык. С детства он был упрям. Упрям и ловок. Крестьянская сметка и общение только с французами позволили ему довольно быстро освоить язык. Но он хотел большего. Он хотел даже думать на французском, даже во сне говорить по-французски.
А эти сны… Как они мучили Бурова первое время, русские сны!
Несколько лет он прожил с одинокой, немолодой уже француженкой, учительницей. Она была некрасива и совсем не нравилась Бурову. Он каждый день с неохотой, почти с отвращением шел после работы в ее маленькую квартирку. Но она учила его произношению, умению держаться в обществе. И это было для него главным. Буров приносил домой жалкие гроши, хотя зарабатывал к тому времени уже неплохо. Неплохо для того, чтобы прилично одеться и два раза в месяц сходить в ресторан. Но он откладывал деньги в банк… Понемногу, но каждый месяц, тайком от своей учительницы…
Учительнице он запретил говорить о его прошлом даже дома, запретил произносить даже слова «русский», «русские», «Россия». А для себя он раз и навсегда решил, что мать и отец его погибли, умерли.
И, решив так, старался никогда не вспоминать о них и не вспоминал.
А однажды, когда он почувствовал себя готовым к новой жизни, Буров, уйдя утром на работу, не вернулся больше к своей учительнице. И сделал это без всякого сожаления. Потом была фирма, успешная служба, Мадлен, на которой он женился, сын… И вот он стоит на небольшой, заросшей молодым сосняком горке и смотрит на свою давно забытую деревню, на дом, где он провел детство.
«Какая дикая случайность, какая глупость, – думает Буров. – Зачем я здесь?.. Кому это нужно? Летел бы спокойно в Токио и никогда не вспомнил про эту глухую деревню, затерявшуюся среди лесов. Может, в этом доме и живут-то совсем чужие люди: столько лет прошло. Все погибли, а в доме живут чужие». Эта мысль нравится ему. «Ну, конечно же, это так. Я уеду, и все будет опять по-прежнему, все забудется».
Но тут же он с тоской вспоминает свое подавленное настроение перед отлетом, белую лошадь из детства, которая вдруг примерещилась ему невесть отчего. «Это старческое, старческий бред, только и всего. Но он будет теперь повторяться… От него никуда не уйти. Вот если в этом доме действительно чужие… Если в этом убедиться… Оборвать эту нить из прошлого…» Он осторожно начал спускаться по тропинке к деревне.
Уже недалеко от дома Буров увидел, что из него вышла женщина с сумкой и пошла к деревне. Женщина была совсем молодая, хорошо одетая. «Ну вот, – с удовлетворением подумал он, – так и есть: в доме живут чужие. Кто она, эта женщина? Ни дочерью, ни женой Николая она не может быть. Для одной слишком стара, для другой очень молода». Когда Буров подошел к калитке, то уже совсем успокоился. А вот протянуть руку и толкнуть калитку не мог. Не мог!..
Он постоял минуту, вглядываясь в окно, но никого не увидел. Потом с трудом, словно превозмогая какую– то гигантскую тяжесть, все-таки протянул к калитке руку. Она открывалась так же, как и раньше: надо было просунуть руку между двух досок и приподнять деревянную щеколду. И Буров приподнял.
Он осторожно пошел по узкой дорожке. Дорожка была упругая, усеянная по обочине желтыми цветами одуванчиков, большими подорожниками, и Бурова пронзило вдруг ощущение, будто он идет по этой травянистой, сырой от дождя тропинке босиком, как в детстве, легко придавливая траву пятками.
Около самого дома, вся осыпанная цветами, словно белый факел, росла черемуха. У крыльца стояла большая старая бочка с водой, чистенький половичок лежал на ступенях. Как тяжелы были эти пять ступеней, как тяжелы! Когда Буров поднялся на крыльцо и постучал в дверь, лицо его покрылось мелкими бисеринками пота, рубашка прилипла к телу…
В доме произошло легкое движение, негромко хлопнула дверь внутри, и вот уже распахнулась дверь на крыльце, и к Бурову вышла маленькая старушка в цветастом фланелевом платье и в таком же цветастом переднике. Буров сразу узнал мать, и словно мороз прикоснулся своими иголками к сердцу, заставил затрепетать его, сжаться.
– Тебе кого, милок? – спросила мать тонким и словно чуть надтреснутым голосом.
Слова застряли у Бурова в горле. Он смотрел на лицо матери, темное не то от солнца, не то от старости, смотрел в бесцветные глаза и не мог выговорить ни слова… ему не хватало воздуха, нечем было дышать…
– Если ты про дачу, так не сдаем мы, милок, не сдаем…
«Не узнала, – подумал он, – не узнала…»
– У нас тут автобус застрял… За трактором пошли… Я вот попить, молочко, может, у вас найдется, – выговорил наконец Буров.
Мать улыбнулась, прикрыв рукой беззубый рот.
– Ты заходи, заходи, милок… У нас если автобус застрянет, не только молочка попить успеешь. И отобедаешь и отужинаешь… Заходи, заходи.
Она пошла впереди, что-то шепча себе под нос, рукой шаря по стене, открыла дверь в комнату, поджидая
Бурова. И по тому, как она шла, шаря рукой по стене, Буров вдруг понял, что она почти ничего не видит. Он вошел вслед за матерью в комнату, темноватую, оттого что герани и китайские розы на окнах заслоняли свет, и невольно подумал о своем доме под Парижем. На один миг…
– Ты, милок, садись, я тебе молочка плесну, попей пока, а то и обедом накормлю. Автобус-то когда вытащат! Молочко, правда, у меня не свое. – Мать прошла на кухню, отделенную от комнаты легкой перегородочкой, и Буров слышал, как она наливает молоко. – Нам со стариком корову-то держать уже невмочь, да и незачем. Так вот соседская дочка приносит. Павлова Лидка, – сказала мать, вернувшись с кухни и ставя перед Буровым большую кружку молока.
– Пей, милок. Молоко свеженькое. Лидея утречком занесла. Такая заботливая дивчина… Дай ей бог здоровья. – Мать села, подслеповато щурилась, словно стараясь разглядеть гостя. – У ней, у Лидаи-то, сегодня свадьба. И мы со стариком званы, да старик мой обирючил совсем. Чего, говорит, там целый день сидеть. Вечером сходим. Жених свой, деревенский. На учителя выучился. Золото, а не парень.Якак подумаю о них, сердце радуется. Есть, милок, счастье-то на земле, есть…
Буров пал молоко судорожными глотками. Ему было трудно пить от нервного напряжения, но он заставлял себя и пил глоток за глотком.
«Что же это за Павлова? Не Василия ли Павлова Дочь? Ну, конечно, чья же еще… Больше Павловых в деревне не было», – подумал он, и слабость овладела всем его телом. Снова взмокла рубашка. Он чувствовал, как холодные струйки пота бегут по его телу.
«Василия Павлова дочь. Василия Павлова… Васьки Павлова…» Того, который остался в окопе, когда он, Буров, вышел с поднятыми руками навстречу серо-зеле– ной цепи немецких солдат…
– Ты, видать, городской, милок? – спросила мать. – Командировочный или дачу присматриваешь?
– Командировочный я, – ответил Буров. – Да вот застрял автобус… Наверно, вытащат скоро…
– Вытащут, вытащут, – согласилась мать. – Не скажу, скоро ли, но вытащут. Да ты не суетись. Автобус-то небось у Старого гумна сел, в низинке?
– У Старого гумна? – переспросил Буров. Слово «гумно» поставило его в тупик. Оно было знакомо. Даже очень знакомо. Связано с какими-то приятными воспоминаниями из детства. Но Буров никак не мог вспомнить, что оно означало.
– Да, у гумна, – торопливо согласился он. – У гумна…
– Ну, так он все одно через деревню пойдет. Ту– точки радом, на прогоне, и остановка. Ты и посиди, милок, поговори со старухой, как там в городе у вас жисть. А то я все одна да одна. Старик мой работает, хоть и пенсия ему вышла. Да коли и дома, так все равно слова не услышишь. Совсем в старости бирюком сделался.
Она тяжело вздохнула и задумалась. Руки ее, узловатые, темные, со множеством веснушек, шевелились, словно перебирали что-то невидимое для Бурова.
Буров молчал. Он понимал, что его молчание выглядит странно, что надо или сказать что-то, или уходить. Но он не мог сделать ни того, ни другого. Он только смотрел и смотрел на мать не отрываясь, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти ее потерянный было образ. «Как она постарела, как она постарела», – только думал он.
Мать вдруг встрепенулась и спросила:
– А что, верно ли люди говорят, картошка у вас в городе на рынке по двадцать копеек?
– Да, – кивнул Буров, – по двадцать…
– Ишь ты, по двадцать, – сказала она. – Совести у людей нету, такую цену рвать. У нас-то колхоз своим по копейке продает… Да только мы-то все со своей. Говорила старику: чего корячиться, каждую весну садить? Нам ведь ее и всего ничего надо. Так нет – садит, словно у нас семеро по лавкам. Привык в голодное-то время каждый клочок распахивать. Потом вот и раздает соседям на семена. Уж больно хороша у нас картошечка. Такая рассыпчатая, такая рассыпушка…
«Мама! – вдруг захотелось крикнуть Бурову. – Мама! Это я, твой сын! Твой Мишка! Я не погиб, мама! Я просто потерялся в холодном и злом мире. Я заблудился там, мама. И думал, что забыл дорогу… Но я не забыл, нет, я только думал, что забыл, а ноги ее отыскали, мама. Какая ты старая! И слепая… Ты же не видишь меня, мама?! Нет… А твои руки, добрые, ласковые руки? Неужели они меня не узнают? Я помню, они всегда пахли парным молоком. Они меня узнают, твои руки. Мама, ты меня слышишь? Ты меня не оттолкнешь, мама? Да, я был трусом, я поднял руки. Мне так не хотелось умирать. И я жив, мама. Я только потерялся. И тебя потерял тоже… Они заставили меня служить. Заставили, мама. Но я не стрелял в своих! Нет, нет, мама. Нет… Я просто потерялся…» Бурову хотелось гладить ее седую голову, припасть к ее коленям, обнять. Плакать. Но он вздрогнул, словно стряхивая с себя наваждение, и неимоверным усилием воли остановил себя. Отогнал эту мысль. «Это значит зачеркнуть все, что я сделал, все, к чему я так стремился, все, чего я достиг! Ради минутного порыва. Нет. Нет и нет».
Мать глянула в окно. Спросила Бурова:
– Времени-то много, милый человек?
Буров посмотрел на часы. Его золотой хронометр показывал час. Он сказал: «Час», но тут же спохватился. Это было парижское время.
– Три, три уже, я ошибся.
– Ну вот, и старик сейчас придет, отобедаешь с нами. Мы гостю всегда рады…
Она встала, пошла на кухню.
«Надо уходить, скорее, – подумал Буров. – Сейчас придет отец, и все пропало…» Но подняться не мог и все сидел, глядя, как мать накрывает на стол, осторожно ощупывая его перед тем, как поставить тарелку. Она поставила пять тарелок, пять маленьких граненых стаканчиков, принесла большую миску с винегретом.
– Что, гости будут? – спросил Буров.
– Нет, милок. Мы так всегда накрываем… На двух сынков накрываем…
Она вздохнула и перекрестилась.
– Что, война? – судорожно сглатывая слюну, сказал Буров.
– Война, милок, война проклятая. Один в сорок первом, другой в сорок пятом.
– Небось и могилы неизвестно где? – спросил Буров и весь напрягся, будто ожидал удара.
– Бог милостив, – ответила мать. – Люди добрые схоронили. И нам отписали. Старший-то совсем недалеко, под Псковом. Я туда каждый год со стариком езжу. А младший-то, Михаил, гораздо далеко, где-то под Пиллау. Мы только в сорок девятом и узнали. Все ждали, не найдется ли. Был он записан без вести пропавшим. Туда, под Пиллау, отец только один раз и ездил. Мне уже не под силу. Слепа я стала, совсем слепа. Почти ничего не вижу. Но отец говорит, могилка в порядке. И там люди присматривают…
Она все ходила в кухню, собирала потихоньку на стол. Речь ее лилась спокойно, доносилась до Бурова будто бы издалека. Он сидел, время от времени обводя комнату отсутствующим взглядом, останавливался на секунду то на одной, то на другой из многочисленных фотографий, развешанных на стенах, узнавал себя в мальчишке с большой кепкой, стоявшем как-то боком рядом с красивой женщиной – его матерью, брата Николая в военной форме.
Потом он встал, прошелся по комнате, стараясь поближе разглядеть фотографии. Они словно воскрешали его прошлое, напоминали о каких-то совсем забытых моментах его жизни, настолько далекой жизни, что сейчас она казалась нереальной.
Вот хотя бы этот снимок, где он с братом и отец, гордо выпятивший грудь, улыбающийся. Из дальних закоулков памяти выплыло воспоминание о том, как приехал отец с военных сборов. Понавез подарков. Бурову привез вот эту большую козырькастую кепку с шишечкой на макушке. И много всяких вкусных гостинцев. Отец Васьки Павлова и сфотографировал их тогда своим «фотокором». У него, у единственного в деревне, был фотоаппарат.
На большом черном комоде, покрытом кружевной салфеткой, тоже стояли фотографии в маленьких деревянных рамках его и брата Николая – в черных, траурных. Тикал будильник, маленький, изящный, совсем не такой, как был у них до войны. Внимание Бурова привлекла пачка бумаг, лежавшая на комоде. Сверху лежала Почетная грамота сельсовета и райисполкома Бурову Тимофею Васильевичу за спасение колхозного имущества… «Грехи перед властями замаливал», – подумал неприязненно Буров.
Грамот было много. Буров читал и читал их, беря одну за другой, как вдруг до боли знакомое лицо мелькнуло в пачке бумаг. Что это? Ошибка? Трясущимися руками Буров вытащил из пачки тоненький журнал с портретом веснушчатого, с озорными глазами, курносого мальчишки на обложке. Нет никаких сомнений. Это был журнал «Нойе Берлинер иллюстрирте» за май месяц 1964 года. На третьей странице журнала, он это хорошо помнил и будет помнить всю жизнь, было помещено фото, на котором улыбающийся Буров садился в новый «ситроэн». И подпись: «Французские монополисты не брезгуют услугами бывших власовцев». Это был неприятный момент в жизни Бурова. Какой-то прохвост разнюхал кое-что из его биографии, напечатал в «Юманите», «НБИ» перепечатал. Пришлось долго потом улаживать скандал, писать опровержение. И вот здесь…
Трясущимися руками Буров раскрыл журнал. Фотография исчезла. Было видно, что аккуратно вырезана из журнала. «Значит, знают… Не мать, отец. Отец. И скрывает от нее. Боится, что это ее убьет. Убьет мать… Убьет известие, что ее сын жив». Подавленный, Буров сел, не зная, что делать. Потом услышал, как стукнула калитка, и посмотрел в окно. По тропинке к дому шел кряжистый старик, неся буханку хлеба под мышкой. Отец почти не изменился за эти долгие годы. На Бурова нашла какая-то апатия, он сидел равнодушно и слушал, как отец долго вытирал ноги на крыльце, потом открыл дверь в комнату и охнул глухо, увидев Бурова. Отец хотел что-то сказать, но только нечленораздельный стон вырвался у него из груди. Он прислонился к косяку и закрыл глаза. Бурову показалось, что отец теряет сознание. Но руки его жили. Огромные кисти сошлись на груди, сцепились и хрустнули корявые, темные пальцы. Через мгновение отец справился с собой, вздохнул шумно, словно набрал полные легкие воздуха, открыл глаза и шагнул в комнату.