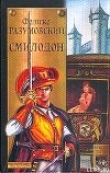Текст книги "Смерть транзитного пассажира "
Автор книги: Сергей Высоцкий
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Annotation
Сергей Высоцкий
СМЕРТЬ ТРАНЗИТНОГО ПАССАЖИРА
1
– Здесь! Вот он… – Полицейский раздвинул упругие ветки вишневых кустов.
Дождевые капли зашелестели по листве. Покатились на землю, увлекая за собой лепестки облетающих цветов.
Пожилой коренастый мужчина несколько секунд молча смотрел туда, куда показал полицейский. На траве лежал человек. Из-под небрежно наброшенной пластикатовой накидки торчали ноги, обутые в мягкие домашние туфли. Вода собралась в складках накидки, стекала тоненькой струйкой на светлые брюки лежавшего.
– Снимите, – кивнул коренастый.
Полицейский осторожно, чтобы не потревожить мокрые кусты, нагнулся. Снял накидку…
Человек лежал, уткнувшись лицом в густую влажную траву. Одна его рука была неловко подвернута, вторая, вытянутая вперед, впилась в землю. Седые растрепанные волосы потемнели от воды.
– Его экономка позвонила в полицию час назад, господин комиссар, – сказал полицейский. Он все еще держал накидку в руках, не зная, куда ее деть.
Коренастый усмехнулся:
– Да бросьте вы, Клод, эту пленку.
– Я думал, господин комиссар… – Клод замялся на секунду. – Мало ли там что… Следы, может быть…
Лицо у него было совсем рыжим из-за обилия больших ярких веснушек. И брови были рыжие. Комиссар подумал о том, что его рыжая, прямо-таки светящаяся физиономия никак не гармонировала с дождливой погодой.
– Какие следы, Клод?.. – с легким раздражением сказал он. – Я удивлен, что вы сами тут не управились. Обязательно надо было вытаскивать меня?! – Он вздохнул. – Если я буду таскаться черт знает куда из-за каждого самоубийцы… – Комиссар не договорил и с неприязнью взглянул на седой затылок лежавшего.
– Перевернем его, Клод.
Они осторожно перевернули мертвого. На немолодом, изборожденном глубокими морщинами лице застыла гримаса боли. Пиджак был расстегнут, а на белой рубашке расползлось большое коричневое пятно…
– Кто он?
– Мишель Буроф, господин комиссар, – ответил Клод. – Из администрации фирмы АБМ. Живет один. Экономка у него приходящая. Богатый человек, господин комиссар. Я заходил в дом…
– Какая странная фамилия, – сказал комиссар. – Буроф! Клод, вы пригласили экспертизу?
Клод кивнул.
– Странно, что он поперся из дому на дождь… Мне это показалось очень странным, господин комиссар.
– Сколько я вас знаю, Клод, вам все кажется странным, – пробурчал комиссар. – Может быть, человеку просто захотелось подышать свежим воздухом перед смертью? 2
Вечером в ресторане отеля «Корона» Буров много выпил по случаю удачного завершения дел и теперь лежал в своем номере, чувствуя, как подступает головная боль. Надеясь отогнать ее, он закрывал глаза и пытался лежать расслабившись, ни о чем не думая. Но это не помогло. Буров хорошо знал, что спасти от головной боли его могут только сильнодействующие таблетки. Но таблеток не было, а ему не хотелось спускаться вниз и спрашивать их у сонного портье. В отеле стояла тягучая тишина. Лишь изредка с улицы доносился вой полицейской машины, спешащей куда-то по ночному Брюсселю.
Рядом, жалобно постанывая во сне, лежала девушка, с которой он познакомился в ресторане. Видно, ей снились плохие сны. Звали ее Лили, и больше ничего Буров о ней не знал. Лили говорила только по-шведски, а Буров совсем не знал шведского. Она отстала от какой-то большой и шумной компании, гулявшей в том же ресторане, и весь вечер провела с Буровым. Она была хорошенькая, с чуть простоватым личиком, с несколькими веснушками под большими голубыми глазами. Друзья ее уехали, и Буров долго пытался дознаться у Лили, куда ее отвезти, но ничего добиться не мог. Она мотала головой и упорно повторяла одно лишь слово – «здесь».
Лили разметалась во сне и лежала, едва прикрытая легким одеялом. Около самой груди у нее была большая родинка, совсем как у Мадлен, бывшей жены Бурова. Только у Мадлен эта родинка совсем темная, такая же темная, как и сама Мадлен. Бурову стало вдруг грустно и одиноко. Вот уже шесть лет исполнилось, как Мадлен ушла от него и увела их маленького сына. Буров не мог понять, почему все так произошло: любовника Мадлен не завела – Буров знал, что до сих пор она живет одна, воспитывая сына. Буров считал, что у них было все для счастливой жизни: он имел хороший доход, любил жену и сына. Коммерческая деятельность, правда, бросала его в разные концы света, но это, как правило, были недолгие командировки, которые, кстати, способствовали укреплению их бюджета и его положения в фирме.
Уход жены был неожиданным и непостижимым. То, что она в истерике кричала на суде о его черствости и эгоизме, Буров считал просто первыми попавшимися словами – они жили в согласии; во всяком случае, за восемь лет супружества Буров никогда не слышал от Мадлен ни упрека, ни жалобы. И вдруг… Буров возненавидел бывшую жену. Он не стал ездить на свидания с сыном, чтобы не встречать ее. Даже женщин, хоть как-то напоминавших Мадлен, он избегал.
Голова болела все больше. Вчерашняя успешная продажа партии счетно-решающих устройств уже не радовала Бурова. И надо было столько выпить! Виновата эта девка с родинкой…
Буров никогда не позволял себе лишнего. Да и вообще пил редко.
«Старею я… – подумал Буров, и ему стало тоскливо. – Вот и в ресторане на воспоминания потянуло…»
…Он пришел в ресторан часов в восемь. Думал поужинать и пойти в номер лечь спать. Но тут подвернулась эта Лили… Она сидела за соседним столиком и пялила глаза на Бурова. Судя по всему, девчонка уже изрядно выпила со своими молокососами-друзьями. Буров пригласил ее танцевать. Потом они сидели вместе, пили шампанское, слушали музыку. Верткий чернявый человек из оркестра объявил очередной номер. Не то «Белые лошади», не то «Белые лошадки». Лили захлопала в ладоши и потребовала виски «Белую лошадь». А Буров вдруг вспомнил детство и большую колхозную кобылу по кличке Авария. Она была совсем белая, без единого пятнышка, без единой подпалины, стройная, легкая. На такую бы вскочить и лететь полями да взгорками. Ее еще ни разу не запрягали в плуг. Мать Мишки Бурова возила на Аварии хлеб из соседнего села, где была небольшая пекарня. Буров любил ездить с матерью.
Лошадь бежала мелкой рысью по мягкой, пыльной дороге, всхрапывая и косясь на седоков, словно приглашая их понестись вскачь. Вокруг было тихо, спокойно. В глухом еловом лесу, что обступил дорогу, не слышно было даже птичьего пения – только глухой цокот копыт. Лишь иногда тишина нарушалась, когда колесо телеги наезжало на утонувший в пыли камень. Телега подскакивала, звенели цинковые ящики, в которых возили хлеб. И снова тишина.
У пекарни витал аппетитный запах свежего хлеба. Пока дожидались своей очереди, весовщик, поздоровавшись с матерью, выносил горячую буханку.
– Поклюйте, чтоб не соскучиться, – всегда говорил он одну и ту же фразу.
Буров отламывал горячие хрустящие корочки с углов буханки – они были самыми вкусными – и ел.
Иногда мать давала денег на мороженое, и тогда он бежал к магазину и покупал самое вкусное, какое только существовало на свете, – холодное, желтовато– зернистое мороженое, зажатое между двумя хрустящими вафлями, на которых было написано женское имя: или Мария, или Нина.
Раньше Буров почти никогда не вспоминал про «ту» жизнь. Все словно выветрилось из его памяти, отсеклось напрочь. Он старался не встречаться с русскими, жившими во Франции, а если и встречался случайно, то не испытывал никакого желания вести разговоры о прошлом. «Это меня нисколько не волнует», – говорил он вежливо собеседнику. И, казалось, был совершенно искренним. И вдруг…
«Неужели старею?» – с тревогой подумал он, глядя, как бегают по струнам пальцы дородной арфистки. Длинные, хищные, они цеплялись за струны, словно лапки гигантского паука. Бурову показалось, что они существовали отдельно от арфистки – ее надменное сытое лицо было неподвижно, будто окаменело. Большие карие глаза смотрели сонно и безразлично. И только пальцы выдавали ее хищное существо.
…Зазвонил телефон. Звонок был негромкий, но Буров вздрогнул – так неожиданно он нарушил ночную тишину.
– Мсье, вас вызывает Париж, – сказала телефонистка.
– Мсье Буроф? – спросил мужчина на другом конце провода, и Буров сразу узнал хрипловатый голос своего шефа, директора фирмы.
– Да, это я, мсье Эмбер, – сказал он торопливо. – Что-нибудь случилось?
Еще днем Буров звонил шефу и доложил о том, что все дела в Брюсселе закончены, а сам он утром выезжает в Париж.
– Ничего плохого, мсье Буроф… Просто вам придется утром лететь в Токио, – прохрипел директор. —
Ближайшим самолетом – в семь. Машину оставьте в Брюсселе… Я понимаю, что у вас могли быть другие планы, но дело слишком большое… – Он помолчал немного. – Я могу положиться только на ваш опыт… – Он снова помолчал. – Если поездка окажется успешной, я буду рекомендовать совету директоров назначить вас начальником экспертного отдела…
У Бурова екнуло сердце, белая телефонная трубка запрыгала в руке. Он хотел сказать: «Благодарю», – но не мог произнести ни слова.
– Паспорт с японской визой и подробные инструкции вам вручит мой секретарь на аэродроме, – продолжал Эмбер. – Он уже выехал… Чего вы молчите, Буроф? Алло…
– Я готов, мсье. Я слушаю внимательно… – Буров передохнул. – Я очень польщен, мсье…
– С богом! Из Токио дайте телеграмму…
Буров положил трубку и несколько минут сидел без движения, словно не зная, что делать. Потом посмотрел на часы. Было два часа ночи. Он позвонил портье, заказал такси на пять часов и попросил разбудить его в четыре. Оставалось два часа. «Надо хоть немного поспать, – подумал он и удивился, что головная боль неожиданно прошла. – Спать, спать, – сказал он себе. – Времени подумать будет еще достаточно».
Но уснуть не мог. Беспокойные мысли лезли в голову. Он встал, прошелся по комнате, постоял у окна. На улице было темно. Дождь барабанил по стеклам. «Может быть, погода будет нелетной! – подумал Буров и поймал себя на том, что ему приятно думать так. – Что это я?»
Он сел за письменный стол написать в Париж экономке, которая вела все его хозяйство. Но на столе не было ни конвертов, ни бумаги. Буров открыл один за другим все ящики, но бумаги не было. Только пыль, забытые кем-то карандаши. Лишь в одном из ящиков валялась истрепанная книга, без начала и конца. Буров медленно стал ее листать… Это были какие-то письма, статьи, стенограммы выступлений. Ему на глаза попалось «Воззвание к французам».
«Мы по-братски предупредили Германию.
Германия продолжает свое движение на Париж.
Она стоит у ворот».
«Чье же это воззвание?» – подумал Буров. Он почти совсем не знал истории да и вообще читал от случая к случаю. Все больше детективы из дешевой серии…
«Может быть, де Голль? Но тут же увидел дату: «Париж, 17 сентября 1870».
Он лег в постель и стал читать книгу, надеясь, что все-таки придет сон.
«Очень желательно, чтобы факт, о котором вы прочтете, не прошел незамеченным», – писал неизвестный Бурову автор в статье «В защиту солдата».
«Солдат по имени Блан, фузилер 112-го линейного полка, дислоцирующегося в Эксе, только что приговорен к смертной казни за тяжкое оскорбление, нанесенное старшему в чине.
Объявлено, что в ближайшем будущем этот солдат будет казнен.
Эта казнь мне кажется невозможной.
Почему? Вот почему:
10 декабря 1873 года руководители армии, заседая в Трианоне в качестве верховного военного трибунала, приняли важное решение.
Они отменили смертную казнь в армии.
Перед ними стоял человек: то был солдат, самый ответственный из всех, – маршал Франции. Этот солдат в самый решительный час, когда совершалась катастрофа, дезертировал со своего поста; он бросил Францию наземь перед Пруссией; он перешел на сторону врага при самых чудовищных обстоятельствах; имея возможность победить, он позволил себя разбить…» Буров читал, и в нем проснулось любопытство, заинтересованность, чем же кончится эта история маршала, перешедшего на сторону врага, и солдата, оскорбившего старшего в чине.
«Этот человек умертвил отечество.
Высший военный совет счел, что он заслуживает смерти, я объявил, что он должен остаться в живых.
Что же совершил военный совет, поступив таким образом? Повторяю, он отменил смертную казнь в армии.
Он установил, что отныне ни измена, ни переход на сторону врага, ни убийство родителей (ибо убить свое отечество то же самое, что убить свою мать) не будут наказываться смертью…
…Бесспорно, многие соображения могли подсказать этим мудрым и храбрым офицерам необходимость сохранения смертной казни для военных. В будущем предстоит война: для этой войны нужна армия; армии нужна дисциплина; наивысшая форма дисциплины – честность; самая нерушимая форма субординации – верность знамени; самое чудовищное преступление – измена. Кому нанести удар, как не предателю? Какого солдата наказать, как не генерала?..
Моральная казнь, заменяющая казнь физическую, более ужасна. Доказательство: Базен…
…Оставьте этого человека в его бездне…
Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю: по великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть».
Буров бросил книгу на пол, погасил свет. Он лежал с открытыми глазами и думал о том, как же сложилась судьба этого солдата, давшего пощечину своему капралу. И кто это вступился за него, написав статью таким торжественным, возвышенным слогом? «Первый встречный– человеческая совесть…» Красиво сказано, – подумал он. – Первый встречный… Красивая ложь… Совесть – это сам человек. Каков человек, такова и совесть. Они всегда в согласии, они всегда вместе. Остальное – красивая ложь».
Смутное сознание того, что все только что прочитанное имеет какое-то далекое отношение к его судьбе, вдруг овладело Буровым, но он тут же отогнал эту мысль. «Я не изменник, – подумал он, – у меня просто не было выхода. Таких, как я, тысячи, десятки тысяч.
Утром он быстро собрался и, даже не взглянув на спящую Лили, вышел из номера. Расплатившись, Буров дал портье денег и попросил его помочь девчонке отыскать свой отель.
Зябко поеживаясь, он смотрел на темные пустынные улицы. Странное чувство испытывал Буров. Он понимал, что настоящая, большая удача выпала ему. Большой, редкий фарт. Сбывается давнишняя мечта: будет он теперь не просто хорошо обеспечен, а богат. Будет большим человеком, самостоятельным и независимым. И этому надо радоваться. Но радоваться по-настоящему он почему-то не мог. Какая-то печаль лежала на сердце и мешала радоваться. Какая-то зыбкость и непонятное легкое раздражение владели Буровым. Ему было жаль, что пришлось так рано встать и уйти из своего теплого, уютного номера, от этой пустой, но такой уютной девчонки, разметавшей золотистые волосы на подушке. Бурова раздражало то, что сейчас приходится ехать на такси по темным холодным улицам, кутаясь в плащ, а потом дожидаться самолета, вступать в необходимые и в то же время ненужные разговоры с десятками людей. Ему не хотелось всего этого. Даже мысли о том, что придется все это делать, раздражали.
«Это первый признак старости, – в который уже раз подумал Буров. – Одинокой старости». 3
Гигантский аэропорт выглядел пустынным. Небольшие группы пассажиров терялись в огромном зале ожидания. У кассы Бурова дожидался Левель, секретарь шефа. Он был, как всегда, угрюм и немногословен. Передавая Бурову конверт с письмом шефа и паспорт, Левель буркнул:
– Мороки с этим паспортом было… Но уж если шеф решил, то своего добьется. Все сделали за полдня.
Буров подумал, что мороки, наверное, действительно было немало. И раз уж шеф добился всего, значит, ему это было очень надо.
Левель приподнялся на носках, окинул Бурова с ног до головы взглядом, словно оценивая, достаточно ли прилично он выглядит для поездки, и подал руку.
– Желаю удачи! Возвращайся на коне! А я устал безумно. Ехал всю ночь. Пора и отдохнуть…
Буров взял билет. У него еще оставалось время, и он зашел в бар выпить кофе.
Бар был пуст и мрачен. Темно-вишневый ковер на полу, низкий, черный потолок создавали впечатление тягостное, унылое. За стойкой, ссутулившись, сидел один– единственный посетитель. Бармен, бубня себе под нос незатейливую мелодию, бесшумно орудовал бутылками, составляя коктейль.
Буров взгромоздился перед стойкой, попросил кофе и виски. Достал письмо шефа и только собрался вскрыть конверт, как его окликнул сосед:
– Вот так встреча! Вы ли это, мсье?
Раздосадованный, что ему помешали, Буров оглянулся: соседом по стойке был Жевен, представитель одной парижской фирмы. Бурову нередко приходилось сталкиваться с этим респектабельным, несколько благообразным на вид, но удивительно пронырливым человеком. Фирма, которую представлял Жевен, тоже занималась компьютерами и была главным конкурентом фирмы, где работал Буров.
– Вот уж кого не ожидал увидеть в такую рань, так это вас, мсье Буроф… – Жевен приветливо улыбался, но Бурову показалось, что взгляд у него настороженный. – Главное, в этом унылом Брюсселе, где парижане мрут от скуки!
Буров, не торопясь, спрятал письмо шефа в карман. Сказал:
– Мы всегда встречаемся с вами черт знает где. И почти никогда в Париже!
Жевен кивнул.
– Пути господни неисповедимы. Но я очень рад видеть вас, Буроф! Вы прекрасно выглядите. Время не берет вас!
– Что говорить о времени, мсье Жевен. – Буров поднял стакан с виски. – Давайте лучше выпьем.
Они выпили.
– Вы далеко? – спросил Жевен.
Бурову совсем не хотелось говорить, куда он летит. Он ответил только:
– Да, на этот раз далеко… А вы?
– И у меня, мсье Буроф, большой вояж. Еще виски?
Буров кивнул. Подумал: «Этот старый хрен никогда
не скажет, куда и зачем едет. Ну и пусть подавится своими секретами».
Они выпили еще. Буров принялся за кофе, досадуя, что так и не прочитал письмо шефа. «Ну да ладно, – решил он. – Сейчас распрощаюсь с этим хлюстом и прочитаю…» В это время диктор объявил посадку на московский рейс. Буров посмотрел на Жевена. Их взгляды встретились. Жевен понял и рассмеялся:
– Нам объявили посадку, попутчик?
– Значит, и вы? – сказал Буров. – Забавное совпадение…
– Значит, и я, – подтвердил Жевен. – Но я не в Москву. Я дальше, в Токио…
– В Японии мы с вами еще не встречались… Ну что ж, я начинаю верить журналистам, что мир наш не так уж и велик.
Они расплатились и пошли на посадку. Жевен болтал без умолку, но Бурову казалось, что он расстроен.
«Старой лисе не нравится моя поездка в Токио? – думал Буров. – Но почему? Значит, неспроста летят к японцам представители двух конкурирующих фирм…»
Как только самолет набрал высоту и погасили предупредительные табло, Буров пошел в туалет. В самолете народу было не так много, и Жевен сел рядом с Буровым, так что прочитать письмо шефа не было никакой возможности.
…Ничего неожиданного в письме шефа не было. Очередная сделка, правда, как понял Буров, очень выгодная. На этот раз с японской фирмой по производству полупроводников. И лишь небольшая тонкость: сделку надо было заключить в понедельник, иначе японцы вынуждены будут обратиться к представителям другой фирмы…
Он спрятал письмо и вернулся в салон. Жевен дремал, откинувшись на мягком кресле. На коленях у него лежала Библия. Когда Буров садился, он открыл глаза, улыбнулся. Буров посмотрел на него с затаенной неприязнью. Подумал: «Небось и он меня готов испепелить, а вот приходится улыбаться. Ну что ж, сегодня суббота. Завтра я буду в Токио. Жевену не на что рассчитывать, если он летит по тому же делу».
В салон вошла стюардесса.
– Дамы и господа, минуту внимания. Наш самолет через пять минут пересечет государственную границу Советского Союза.
Пассажиры оживленно задвигались, стараясь заглянуть в иллюминаторы. А там лишь громоздились одно на другое мощные ослепительно-снежные облака. Буров заметил, что нижний их слой был мрачно-синий, кое-где почти совсем темный.
– Мы летим на высоте девяти километров, – продолжала стюардесса. – Температура за бортом минус пятьдесят пять по Цельсию… В Москве плюс пятнадцать. Идет слабый дождь.
– Черт возьми, как некстати этот дождь, – выругался Жевен, – чего доброго, не дадут посадки, и мы упустим самолет. Вы же знаете, на Токио он летит только раз в неделю.
– Напрасна беспокоитесь. – Буров посмотрел на Женена. – Сейчас и взлетают и садятся в любую погоду… Бросьте вы свою Библию, и давайте выпьем за наши успехи.
Он подозвал стюардессу, попросил виски. Через несколько минут она подкатила к ним тележку, заставленную бутылками, сигаретами, плитками шоколада.
Жевен со вздохом отложил Библию и, глядя, как Буров кладет лед в стаканы, сказал:
– «Все труды человека – для рта его, а душа не насыщается».
– Хотел бы я знать, чем можно насытить вашу душу, Жевен? – спросил Буров. – Уж не за пищей ли для души летите вы в Японию?
– Наша фирма не так богата, чтобы оплачивать духовную пищу своих служащих. Они ее ищут в Библии, коллега. А в Японии я буду изучать патентное дело.
Буров усмехнулся и поднял стакан.
– За ваши успешные поиски, Жевен! И еще за то, чтобы они всегда проходили в стороне от моих.
«Эта хитрая лисица неспроста летит в Японию, – думал он, глядя, как Жевен тянет виски. – Знаем мы эти разговоры про систему патентного дела… Жевен не из тех, кто первому встречному расскажет о своих намерениях. Уж не летит ли он за тем же, за чем и я…»
– Скажите, Буроф, вы ведь русский. Какие чувства вы испытываете, бывая на родине?
– А я не бывал в России…
– С тех пор?
– Да, с тех самых… – ответил Буров и посмотрел в иллюминатор. Но там все так же клубились облака…
– И у вас никогда не появлялось желания побывать дома? – не отставал Жевен.
– Я никогда не был сентиментален, – усмехнулся Буров. – Мой дом там, где я живу. Уверен, что и вы, Жевен, предпочли бы иметь теплое гнездышко с десятком хорошо обставленных комнат у черта на куличках, чем развалюху у себя на родине? А?
Жевен засмеялся, но ничего не ответил, и Буров, глотнув виски, сказал:
– Все так думают, но только не все имеют смелость говорить это вслух.
– Вы что же, не верите в то, что существует любовь к родине? К месту, где человек родился, к стране, в которой он вырос и живет, к стране его предков и сыновей?
– Ах, мсье! Зачем столько эмоций? – Буров иронически посмотрел на Жевена, так горячо принявшегося спорить. – Каждый верит в то, во что ему выгодно верить… Может быть, слово «выгодно» слишком грубо… Скажу тогда так: каждый верит в то, что помогает ему жить… Хорош бы я был со своей «любовью к родине», как вы выражаетесь, живя в вашей Франции. Да мне надо бы еще двадцать пять лет тому назад повеситься на первом суку. Эта любовь не прибавила бы мне силы для борьбы за свое место в жизни, для борьбы с такими, как вы… – Буров развел руками, словно извиняясь и желая сказать: такова жизнь, мсье Жевен, и мы должны принимать ее именно такой! – Ведь никто, мсье, не поделится добровольно тем, что он имеет, с другим человеком, а тем более с каким-то неизвестным беженцем. Даже тот, кто чтит бога или делает вид, что верит, не расставаясь никогда с Библией…
Жевен усмехнулся:
– Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов… Вы сердиты на весь свет, Буроф.
– Нет. Я уже давно не сердит. С тех пор, как приобрел себе положение и достаточно средств. Озлобленными могут быть только обделенные.
Они замолчали. «Хорошо я отбрил этого ханжу, – подумал Буров. – Так ему и надо, пусть не лезет в чужую душу». Но тут же ему стало все безразлично – и этот надутый человек, и дождь в Москве, и все-все на свете. Он откинул кресло и закрыл глаза.
Бурова разбудил бархатный голос стюардессы:
– …будем садиться на запасном аэродроме.
В салоне поднялся шум. Пассажиры обеспокоенно переговаривались.
– В чем дело? – спросил Буров Жевена и тут только заметил, что лицо его попутчика искажено злобой.
– Вот свиньи! Москва не принимает из-за плохой погоды! У них там четыре аэродрома. Не везде же гроза! Вот вам и «при любой погоде».
– Но в чем же дело? И где этот запасной аэродром? – спросил Буров, с интересом глядя на озлобленного Жевена.
– Перед Москвой – грозовой фронт, Москва не принимает. Предполагают садиться черт знает где. Русские просто перестраховщики… Какое им дело до того, что у людей могут быть неотложные дела.
Как ни расстроен был и сам Буров, он не удержался от того, чтобы не съязвить:
– Но что вам беспокоиться, Жевен? Неделей раньше начнете изучать патентное дело в Токио, неделей позже… Или фирма ограничила вас во времени?
Жевен с такой ненавистью посмотрел на Бурова, что ему стало не по себе.
– Я пойду говорить с пилотами, – твердо сказал Жевен, – я скажу, что авиакомпании придется платить неустойку, большую неустойку за мое опоздание. Так не поступают деловые люди…
Он уже собрался идти, но Буров положил ему руку на колено.
– Жевен, но ведь мы не одни в самолете. Здесь женщины и дети.
– Что вам до этого? Пустите меня! – взвизгнул Жевен. – Вы ведь тоже летите не на прогулку…
Буров усмехнулся.
Жевен вернулся вне себя и молча сел. Буров ждал, когда он успокоится.
– Они хорошие парни… Но русские отказались принимать.
Стюардесса объявила, что самолет идет на посадку, и попросила пассажиров пристегнуть ремни.
В самолете стало темно, легкая дрожь пронизала его зыбкое тело. Буров взглянул в иллюминатор: темные клочья облаков проносились мимо, и Бурову показалось, что он слышит, как свистит ветер и скребут по обшивке вдруг ставшие жесткими облака. Самолет сильно тряхнуло. Потом еще раз… Заплакала девочка-негритянка. Мать стала успокаивать ее, что-то быстро приговаривая по-испански. Она задернула занавеску на иллюминаторе и напряженно глядела на табло, где горели слова «Не курить, пристегнуть ремни». В глазах у нее был испуг.
Мсье Жевен замер в своем кресле, и только губы у него шевелились. «Наверное, молитвы читает, – подумал Буров злорадно. – Трусишка». Жевен снял руки с подлокотников и сложил на животе. На матовой коже подлокотников остался мокрый след от ладони…
Кабина самолета вдруг наполнилась ослепительным светом молнии, и сразу же раздался оглушительный треск. «Как глупо, – мелькнула у Бурова мысль. – Так не хотелось лететь…» Он почувствовал, как Жевен вцепился ему в локоть.
А уже в следующий момент Буров понял, что самолет катится по твердому полю аэродрома.
«Толчок я прозевал», – подумал Буров, брезгливо освобождаясь от рук Жевена.
Гром гремел с прежней силой, чудовищный ливень хлестал по обшивке, на улице было темно, как ночью, но в салоне поднялась веселая суета. Стоял невообразимый гомон, кто-то всхлипывал, все наперебой делились впечатлениями.
– Ах, я думала, это конец, – говорила седая дама. – От испуга я не могла вспомнить ни одной молитвы…
– А я решил, что русские пустили в нас ракету, – сказал немолодой американец и нервно захохотал.
Жевен посмотрел на Бурова и, виновато улыбнувшись, сказал:
– Псу живому лучше, нежели мертвому льву.
Буров промолчал.
Стюардесса вышла из кабины пилотов и, помедлив несколько секунд, чтобы улегся шум, сказала:
– Мы сели в Ленинграде. Из-за плохой погоды придется ждать здесь до вечера… Погода вы сами видите какая… – мило улыбнувшись, она кивнула белокурой головой на иллюминатор. – А в Москве еще хуже. Вы можете выйти из самолета, подышать воздухом.
Косые струи дождя зло хлестали в окна аэровокзала. Буров с удовлетворением, даже со злорадством отметил, что аэровокзал какой-то старомодный, темноватый и совсем маленький. Он невольно сравнил его с гигантскими постройками в Брюсселе, откуда вылетел три часа назад. «А Орли, Бурже… Все отстает она, матушка-Россия, как ни старается…» Буров прошелся по небольшому залу. У буфета, заставленного бутылками и яркими коробками конфет толпился народ. Буров поинтересовался, берут ли франки. Франки принимали. Он выпил кофе с коньяком. Кофе был вполне приличным, а коньяк просто превосходным.
– Армянский? – спросил он у буфетчицы.
– Коньяк молдавский, мсье, – ответила та по-французски и почему-то покраснела. Буфетчица была совсем молодая, чернявая, с большим красным бантом на затылке.
Буров неприязненно подумал: «И банты-то красные заставляют носить…»
Он подошел к окну и стал смотреть, как ветер кидает пригоршни дождя прямо в окна, как треплет потемневший флаг у выхода на летное поле.
«Как странно, – подумал Буров, – вот я и в России, а ничего не переменилось во мне, я не припал грудью к земле при выходе из самолета, не кинулся обнимать первых встречных земляков… И волнует меня сейчас только одно – успею ли я к самолету в Токио. Двадцать пять лет – это целая вечность, четверть века! За это время можно не только отвыкнуть, но и забыть навсегда… Пройдет несколько часов, и я преспокойно улечу в Москву. Несколько часов там… Но что мне Москва? Пустой звук. Я никогда в ней не был. А в Париже-я знаю каждую улочку, каждый садик. С ним связаны самые яркие воспоминания. Моя жизнь. Двадцать пять лет».
Жевен остановился рядом. С понимающей улыбкой посмотрел на Бурова. «Идиот, – подумал Буров, – решил небось, что воспоминания меня одолели…»
– Наблюдаете родину? – спросил Жевен.
– Много тут понаблюдаешь! – Буров кивнул на окно. – Такой дождь может лить и в Париже. Там только побольше комфорта для того, чтобы его переждать.
– Пилоты говорят, что вылетим не раньше восьми вечера, – сообщил Жевен. – Меня успокаивает только то, что в Москве погода еще хуже. Русский «ТУ» никуда от нас не уйдет. Кстати, через полчаса обед. Русский обед, мсье Буроф!
Дождь стал стихать. Из серой пелены один за другим начали проступать силуэты самолетов. Они были разных марок. Но больше всего «ИЛов», «ТУ»… Вот и «Каравелла». Стройные, вымытые дождем самолеты прижались к бетону аэродрома, готовые взмыть в небеса.
Потом стали видны дальние ангары, дома городской окраины, и вдруг Буров увидел большой холм, укутанный невысоким лесом, и купола обсерватории на нем. «Пулково, – узнал Буров. – Пулковские высоты». И еще: он не увидел, а скорее представил, почувствовал, как взлетает на холм ровная, словно стрела, дорога, делает зигзаг, огибая здания обсерватории, и мчится дальше на юг, через необозримые поля, перелески, рассекая деревушки со странными названиями, вроде Дони, на Гатчину, на Лугу, к неприметной осиновой рощице на краю огромной мшары. И здесь, в сторону от гудящего под колесами грузовиков асфальта, отлетает мягкий, весь в колдобинах и лужах проселок, ведущий в тихую деревушку Лужки. Буров смотрел на Пулково и думал о том, сколько раз приходилось ему ездить мимо этих зданий. И в дождь, и в ясную погоду, когда с холма открывался перед тобой весь Ленинград как на ладони.
Безотчетное желание выйти на шоссе и сесть в автобус, идущий в сторону Лужков, вдруг овладело Буровым. Просто так – выйти и сесть. И ехать спокойно, ни о чем не думая. Смотреть по сторонам, запоминать, сравнивать… и оставаться равнодушным.