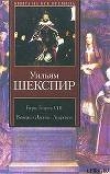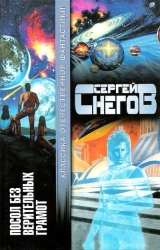
Текст книги "Посол без верительных грамот (сборник)"
Автор книги: Сергей Снегов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Он обращался к молчавшему весь диспут Араки – хотел закончить в присутствии Боячека завязавшийся раньше спор.
Араки сдержанно сказал, что разработка методов защиты относится скорей к компетенции физиков, чем физиологов. Все беды, о которых шла речь, – авария звездолета, болезнь Андрея – произошли от физических причин. Что до безумия, то он повторит: безумие – реакция на удар; реакция эта – иногда форма защиты от более грозных последствий. Обществу такие акты безумия не грозят. Если гениальность становится общественным достоянием, то безумие остается индивидуальным несчастьем.
– Очень глубокая мысль, – с волнением сказал Генрих. – И мне кажется, из нее вытекают важные выводы. Я буду думать об этом!
– Закончим на этом, друзья! – предложил Боячек. – Резюме: исследования продолжаются, немедленные выводы откладываются.
Братья возвращались к себе пешком. Генрих молчал почти всю дорогу. Рой спросил, о чем он размышляет.
– О Гаррисоне, – сказал Генрих.
– О Гаррисоне? Что в Гаррисоне нашлось удивительней, чем у Олли, чем у Спенсера?
– Многие загадки, связанные с Олли и Спенсером, нам ясны, – задумчиво сказал Генрих. – А у Гаррисона остается одна загадка, и она все больше меня тревожит. Мне кажется, пока мы не поймем ее, мы ничего не поймем!
Рой иронически посмотрел на брата. Генрих преувеличивал, такова уж была его натура. Все, чего он не понимал, казалось ему самым важным. Потом, разобравшись, он сознавался, что неизвестное скрывало в себе пустячок; раскрытие пустячка лишь дорисовывало детали, а не раскрывало новые горизонты.
– Какое же непонятное действие Гаррисона кажется тебе ключом к тайнам? – спросил Рой.
– Самоубийство, – ответил Генрих.
Глава шестая. Доброму богу Бальдру стали сниться дурные сны…Сон был из тех, какие классифицируются категорическим словом «бессмысленный».
Но он повторился трижды – образ в образ, звук в звук, тень в тень. Генрих озадаченно усмехнулся, проснувшись после первого сновидения; удивился после второго, сказав брату: «Вот же дурь в голову лезет, Рой! Скоро я начну отбирать у Артемьева лавры»; был потрясен после повторившегося в третий раз сумбурного видения. Вскочив с кровати, он тут же – уже сознательно – возобновил в мозгу увиденную картину: выжженная пронзительно черным солнцем пустыня, белое небо; две размахивающие черные руки, двигающиеся по пустыне, одни руки – ни ног, ни туловища, ни головы; руки шагали, как ноги, не опираясь на песок; раздавался громовой вой, свист, грохот – небо раскалывалось, руки пускались в бег, заплетались, хватались за отсутствующую голову, заламывались, сцеплялись пальцами, падали; черное солнце распадалось на ослепительно сияющие зеленые куски, один из огненно-зеленых кусков рушился на спасающиеся руки; руки вдруг отрывались от несуществующего туловища и, царапая пальцами почву, проворно уползали в разные стороны, вызмеивались, прыгали, судорожно метались; они жили и двигались вместе, умирали порознь – становились, умирая, желтыми, солнечно-желтыми, это был цвет гибели; «и-и-и» – пронзительно переливался вопль по холмам, он вещал о конце сна, надо было просыпаться – Генрих просыпался.
В самом видении не было смысла. Смысл был в том, что оно повторяется. Но Генрих не мог постичь значения того, что непрестанно возобновляется одна и та же бессмыслица. Рой нетерпеливо отмахнулся, когда Генрих рассказал о втором «приступе сна» – так он назвал повторение, – проворчал, что до Артемьева Генриху далеко: у того все же сновидения сюжетно выстроены. Еще он посоветовал обратиться к Араки или записывать свои сны. Генрих после второго повторения подключил ночью регистратор сонных видений, но сон больше не возобновлялся. «Не хочет записываться», – с новым удивлением сказал себе Генрих.
Рой в эти дни вместе с Арманом занимался расшифровкой новых уловленных сигналов Кентавра-3. Генрих не мог дать себе отчет, почему вдруг отказался участвовать в работе, им же начатой. В лаборатории всегда хватало дел с незавершенными темами, авария со звездолетом и последующие события оттеснили, но не отменили старые вопросы. Рой даже обрадовался, что Генрих хочет отойти от острых проблем к плановым темам. Рой сказал, что Генрих все же не полностью поправился – посещающие его болезненные видения не свидетельствуют о железном здоровье. А если будет что интересное, они с Арманом известят его.
Три раза в неделю Генрих посещал клинику Араки. Андрей оставался в том же состоянии – ни хорош, ни плох. Временами он бывал в полном сознании
– они беседовали о цивилизации на Кентавре и о земных новостях. Нередко Андрей впадал в забытье, и тогда Генрих тихо сидел у его кровати, всматривался в него. Андрей изменился, изменения накапливались. Он пополнел. Худое лицо округлилось, вобрало в себя резко выдававшиеся скулы. И говорил Андрей гораздо спокойней. Лишь глаза оставались такими же огромными. «Неприличные для мужчины глаза, для девушки подошли бы», – говорил Генрих раньше Андрею. В них вспыхивал прежний блеск, но спокойные, умные, резко меняющие выражение глаза до болезни вязались с подвижным лицом – сейчас они казались чужими на лице сонном.
Однажды, вдруг пробудившись, Андрей увидел, что Генрих рассматривает его.
Генрих смутился, как если бы его поймали на нехорошем поступке.
– Что ищешь во мне? – резко спросил Андрей.
– Изучаю, скоро ли тебя покинет хворь, – шутливо ответил Генрих.
– Нет, – объявил Андрей с обычной категоричностью. – Ты хочешь знать, скоро ли я превращусь в Гаррисона, не надо обманывать, я все понимаю, Генрих.
Глаза Андрея так блестели, что Генрих не сумел ответить взглядом на взгляд.
– Я уже передавал тебе, к каким выводам мы пришли. Нарушение генетической программы на стадии зародыша, а ты все-таки взрослый мужчина…
Андрей нетерпеливо прервал его:
– Чепуха, зародыш – одна из возможностей, не думай, что кентавряне, если это они, а нет сомнения, что это они, так вот, они не глупее нас, – говорил он, напластывая одно предложение на другое. – Посланцы, живые приборы связи, должны быть всегда, это же невозможно, если гибель одного не вызывает немедленного возникновения другого, не говорю уж, что их может быть множество, уже известные – двое, множество неизвестных, разве не так?
Генрих наконец прервал несущийся поток речи Андрея.
– Рой с Арманом инструментально ищут подозрительные излучения. На поиск выделена совершеннейшая аппаратура. Пока результатов нет. Новых Спенсеров и Гаррисонов не обнаружено.
Андрей некоторое время молчал.
– Слушай, – наконец сказал он и снова уставил на Генриха блестящие глаза. – Если эта судьба ожидает меня, то и тебе она грозит, хрен редьки не слаще, ты думал об этом, только не виляй, говори прямо!
– Не думал, – признался Генрих. Такая дикая мысль и вправду не приходила ему в голову.
– Тогда думай! – приказал Андрей, откинулся на подушки и закрыл глаза. Он был и похож и не похож на себя. Генрих, прождав с минуту, чтобы Андрей отдохнул, хотел заговорить, но Андрей рывком повернулся, раздраженно повторил: – Думай! И обо мне и о себе; самое худшее возможно, жестко думай, без страха, надо нам знать!
– Буду думать, – ласково сказал Генрих. – И хотя не о нас с тобой, но все-таки каждодневно, повсечасно думаю все о том же.
– Растолкуй, вы с Роем всегда так витиеваты и многословны…
– Я думаю о Гаррисоне. Его самоубийство для меня загадка. Ты его знал лучше всех. Не мог бы ты подсказать мне какую-либо путеводную нить?
Андрей удовлетворенно мотнул головой, словно мысль о загадке самоубийства Гаррисона была той самой, которая должна была всех больше волновать друга.
– Я тоже – каждый день, каждый час… Вывод один – потрясающе темная загадка, ровно десять возможностей решения, начну с тривиальных: женщины, несчастная любовь – отпадает…
– Арман проверял – не было у Гаррисона близких женщин, – вставил фразу Генрих.
– О чем я и говорю, не прерывай. Парень неплох, молод, лаборантки заглядывались – нет, Федя не прельщался. Вторая возможность – неудачи по работе, ссоры с начальством, начальство – я, чепуха, все шло в ажуре, перспективы сияющие – отпадает. Третья – тайные болезни, наследственные хвори, роковые житейские секреты в прошлом, чушь такая, что и не стоит дальше, – отпадает. Четвертая – осознал, что посланец иных миров, пришел в ужас, растерялся, сдался – не отпадает. Пятая – вариация четвертой, понял, что способен натворить бед, ужаснулся, сдался – не отпадает. Шестая – вариация пятой, я, всегда рядом я, воздействие на меня, видит, что тянет меня в пропасть, не захотел, ужаснулся… Еще надо?
– Пожалуй, хватит.
– Тогда иди, я устал, – приказал Андрей. – И думай!
Он повернулся лицом к стене. Генрих тихо удалился. Уходя, он бросил осторожный взгляд на друга, теперь надо было следить даже за выражением своих глаз, чтобы Андрей не прочел в них того, о чем и сам Генрих не догадывается. Это тоже было новой чертой: прежде Андрею хватало других забот, он и не старался особенно разбираться в настроениях друзей.
Генрих направился к Араки. Главный врач рассматривал в настольном экране изображение какой-то сложной химической структуры. Не отрываясь от изображения, он молчаливым жестом пригласил Генриха сесть. Генрих ждал и осматривался. Если лаборатория Роя и Генриха была вся заставлена приборами самых разнообразных конструкций, то у Араки доминировали экраны – большие и маленькие, прямоугольные, овальные, круглые, темные, полупрозрачные, цветные, однотонные. На рабочем столе Араки стояло несколько аппаратов, и каждый – со своим экраном.
Араки наконец оторвался от изображения.
– Вас интересует Андрей Корытин, друг Генрих? Ему лучше. Через месяц выпустим, если не произойдет осложнений.
– Я хотел поговорить о себе.
– Вы заметили в себе что-то новое, чего мы не знаем?
– Только одно: меня мучают странные сны. Странность их в том, что они повторяются с буквальной точностью.
Араки не нашел в снах ничего странного, обыкновенные фантазии. Удивительность, нездешность, необычность – типичная черта сновидений. Сон странен, если в нем нет ничего странного. Очень уж реалистические сны говорят скорей о расстройстве психики, а не о ее нормальности.
– Не волнуйтесь, пока серьезных нарушений нет, – сказал Араки на прощание.
Генрих возвратился в лабораторию. Роя вызвал к себе Боячек, Арман возился с аппаратами. Генрих сел на диван и задумался.
Арман что-то сердито бормотал про себя – вероятно, какое-то из любимых древних ругательств вроде «Черт возьми!», «Остолоп!», «Чистая дьявольщина!» – Арман изобретательно варьировал архаические выражения.
– Слушай, Арман, вы с Роем знатоки древности, – сказал Генрих. – Особенно ты. Как в старину относились к сновидениям? Видели в них только забавные развлечения, какими они стали у поклонников Джексона и Артемьева?
– Ни в коем случае! – воскликнул Арман. Он сел рядом с Генрихом. – Какие-нибудь новости об Артемьеве? Я думал, мы с ним все распутали.
– Нет! Просто меня тяготят нелепые сны, – со вздохом сказал Генрих.
– Доброму богу Бальдру, сыну отца богов Одина и богини-матери Фригг, стали сниться дурные сны! – нараспев заговорил Арман. – И великая Фригг, встревоженная, пошла по Земле упрашивать все вещи мира не делать зла ее светозарному сыну. И все камни, металлы, растения, вода, животные, птицы и рыбы с охотой давали обещание не вредить Бальдру. Лишь с одной омелы Фригг позабыла взять слово, слишком уж невзрачна на вид была омела. Об этом проведал злой дух Локи. И ветка омелы, пущенная по наущению коварного Локи рукой брата Бальдра слепца Хеда, пронзила сердце солнценосного бога. Так пелось в древних скандинавских сагах.
– Не то чтобы дурные, – сказал Генрих. – Непонятные. Не могу уяснить, что за чушь лезет в голову и почему лезет…
Арман мигом перескочил из сферы древней мифологии в сферу современной науки.
– Отлично! – воскликнул он с воодушевлением. – Я хочу сказать, что ты ставишь перед нами интереснейшую математическую проблему – моделирование сновидений. Мне кажется, я давно о чем-то таком подумывал, но всё руки не доходили. С нами до сих пор занимались медики и мастера искусства, а дело это надо поручить физикам. Итак, мы вводим в нашу институтскую МУМ все данные твоего мозга, а также и схемы увиденных сновидений, и машина определяет, могли эти картинки сна зародиться сами в твоем мозгу, вырастая лишь из той информации, что хранится в их клетках, или они навеяны со стороны. Не возражаешь против такого эксперимента?
– Не возражаю, – сказал Генрих.
Когда на Генриха наваливалась апатия, он лежал дома на диване и бессмысленно смотрел в потолок, и тогда к нему лучше было не подходить. Рой научился безошибочно определять приближение у брата приступов беспричинного равнодушия. Он обычно оставлял Генриха в покое, терпеливо ожидая, пока апатия пройдет. Он заходил в комнату Генриха и, увидев, что «на брата нашло», спокойно говорил что-либо вроде «хороший сегодня день по метеографику» или «после работы погуляю» – и уходил.
Сегодня Рой не зашел. Генрих проснулся, поднялся, хотел одеться, но передумал и снова лег. В комнате было темновато – надо было засветить потолок и внутренние стены. Генрих нажатием кнопки сделал прозрачной наружную стену, теперь она была сплошным окном. Светлее почти не стало, за холодной прозрачностью стены были видны лишь быстро несущиеся лохматые тучи. Вторым нажатием кнопки Генрих распахнул стену. В комнату ворвался холодный ветер и шум, в теплой комнате наступила осень. Генрих вышел на балкон.
Бульвар, как всегда, был пустынен, и, как всегда, в воздухе носилось много авиеток и мчались аэробусы. Генрих закрыл глаза, втянул в себя воздух. Проносящиеся воздушные машины не создавали шума, шум шел снизу – ветер трепал сады на бульваре и деревья кричали как живые. Они не как живые, а живые, поправил себя Генрих, жизнь их иная, чем у людей, – но жизнь! Он вспомнил, что давно уже хотел настроить дешифратор на поиск смысла в голосах травы и листьев, но что-то всегда заставляло откладывать.
Он лег на кровать и включил инфракрасные излучатели внутренних стен. Снаружи врывался холод, его оттесняло струящееся со стен тепло, попеременно тянуло то ледком, то жарой. Генрих то поеживался, то расправлялся – в воздухе было смятение, как на душе. Все путалось, не было ничего устойчивого. И хоть еще вчера Генрих понял, что надо делать, он все же не находил душевной силы на задуманное.
И, поеживаясь от налетавшего холода, он возвратился мыслью к тому, о чем размышлял весь вчерашний день; к тому, что Рой во время споров у Араки назвал загадочным вопросом, но не захотел обсуждать – истинная глубина всех загадок таилась здесь. Собственно, и загадки не было, вопрос был прост, ответ еще проще. И Генрих все снова беззвучно, не шевеля губами, повторял и этот вопрос: «Зачем цивилизации в Кентавре-3 понадобилось вещать о себе на всю Вселенную и повсюду рассылать своих послов?» – и удивительно ясный, до изумления убедительный ответ: «Захотелось».
– Захотелось, просто захотелось! – вслух сказал Генрих.
Он закрыл глаза. Мысль летела быстрей таинственного сверхсветового агента связи кентаврян. Генрих мчался в красочном звездном скоплении, небо вокруг – и над головой и под ногами – сверкало тысячами ярчайших глаз, оно было не пейзажное, а живое. Генрих не любовался небом, он тосковал. Он представил себя кентаврянином. И ему было тяжко в этом прекраснейшем из уголков мира, ему и всем его братьям, кентаврянам. Все здесь, познанное и покоренное, было свое: он мог менять сияние звезд, сдвигать и разбрасывать их – могущество, столь огромное, становилось неизмеримым! Но не было соседей, не было родственного разума, друга, с которым можно было бы перекинуться сиянием звезд. Звезды, и не сознавая этого, разговаривают друг с другом – у него не было друзей. Он был одинок. Он жаждал общения: услышать о других разумах, рассказать о себе, помочь тем, кто нуждался в помощи! Вселенная была слишком велика. Было страшно, было горько ощущать себя единственным разумом в таком огромном мире.
Генрих вдруг вспомнил, как еще в начальной школе читал пьесу древнего писателя, где герой, некто Бобчинский, просит другого героя всем, кого тот повстречает, не исключая, если придется, самого государя, говорить, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский, только одно это и сообщать
– живет, мол, в том городе Бобчинский, и все! Товарищи смеялись, читая забавную сценку, а Генриха поразила тоска, звучавшая в просьбе. Глуповатый помещик жаждал известности, но подспудно лежало глубинное чувство общения, такой связи со всеми, чтобы равнялась миллионорукости – и каждая рука протянута другу! И если кто еще недруг, того сделать другом!
– Конечно, конечно! – пробормотал Генрих. – Жажда общения! На каком-то этапе развития она стала острей жажды существования, та примитивней. Здесь истоки добра, разносимого ими, здесь корень невольно творимого зла. Все сходится! Все сходится!
Генрих вскочил. Время размышлений кончилось: надо было действовать. Он подошел к столу, придвинул к себе диктофон, проверил, есть ли пленка, негромко сказал:
– Рой, милый, прости, дальше тянуть опасно. Не сердись. Лучше участь Гаррисона, чем Спенсера.
Он положил диктофон на видное место. Брат вечером придет и, не увидев Генриха, включит запись. Теперь надо было торопиться, Рой мог прийти и раньше вечера. Он постарается помешать.
Генрих снова вышел на балкон и вызвал авиетку. Давно он не мчался с такой торопливостью над улицами Столицы. Лишь пролетев над Окружным парком, он сбросил скорость. Среди деревьев открылось одноэтажное здание. Генрих приземлился у входа, торопливо прошел в вестибюль. Суховатый голос первого сторожа – здесь все автоматы настраивались на предупреждающе строгий тон – поинтересовался, что нужно посетителю.
– Первая срочность, – сказал Генрих и бросил жетон во входное отверстие сторожа.
Генрих знал, что жетоны не могут не сработать. Рой уже не раз пользовался своим розыскным жетоном, и сбоев не было. Но Генрих еще не прибегал к разрешающей силе жетона, и от волнения вдруг перехватило дыхание. Жетон возвратился через минуту, первая дверь открылась. Генрих торопливо шел по ярко освещенному пустому тоннелю, тоннель завершился полукруглым залом. Посредине зала, выступая из стены, возвышался цилиндрический второй сторож, от него двумя крыльями отходили панели со встроенными в них дверьми.
– Слушаю вас, – сказал второй сторож. Голос его, медленный и хмурый, доносился как бы отовсюду.
– Склад силовых экранов, первая срочность, – сказал Генрих и бросил жетон.
На панели справа открылась крайняя дверь, Генрих поспешил туда. Здесь идти пришлось всего несколько шагов. Очередной сторож повторил тот же вопрос. Генрих ответил теми же словами о первой срочности и бросил жетон. В этом помещении не было дверей, а сторож представлял собой массивный столб, стоявший посреди комнаты.
Жетон не возвращался. Сторож прогудел:
– Уточните тип экрана.
– Последняя модель лаборатории академика Ивана Томсона, – сказал Генрих. – Я имею в виду защитный костюм, создающий гравитационную, оптическую и электромагнитную прозрачность, а также…
– Автономность высшей категории тип Н-5, – прервал его сторож. – Сожалею, друг. Первая срочность недостаточна.
– Как – недостаточна? Я вас не понимаю. Первая срочность всегда давала право вести розыск в любой одежде, создающей невидимость.
Ответ последовал незамедлительно:
– Только не в этой. Для модели Н-5 установлена особость К-12. Ваш жетон старого образца, он не дает права на гравитационную невидимость, а только на электромагнитную. Очень сожалею, друг.
Генрих в отчаянии глядел на пластиковую тумбу, разговаривавшую голосом человека. Он знал, что препятствия к получения костюма возможны, но опасался лишь того, что его не допустят на эти самые труднодоступные склады. И на такой случай он придумал выход: они с Роем уже осматривали разные модели экранных костюмов, осмотр с одеванием равносилен использованию, а что раз было разрешено, то разрешено вообще. Но, оказывается, память электронных сторожей хранила однажды полученное разрешение. Гравитационные экраны он не осматривал и не испытывал, разрешения на них не запрашивал. Но только эти костюмы были нужны, все остальные не могли защитить от розыска, который вскоре предпримет Рой.
– Очень сожалею, друг! – непреклонно повторил сторож.
Надо было удаляться или просить другой костюм. Генрих, судорожно глотнув ком, вдруг возникший в пересохшем горле, воскликнул:
– Одну минуточку! Можно ли узнать, что значит особость К-12?
– Ваш жетон разрешает получить ответ на этот вопрос, – сказал сторож.
– Особость К-12 означает, что только двенадцать человек допущены к пользованию костюмами высшей категории автономности.
– У вас есть список людей, которым разрешено?
– Нет, друг. Список ежедневно подтверждается в памяти «Охранительницы» в Управлении государственных машин. Я обязан запрашивать «Охранительницу», кому на сегодняшний день и час разрешено получать такие костюмы.
Генрих быстро сказал:
– Запросите «Охранительницу». Возможно, я имеюсь в этом списке.
Сторож молчал с минуту, потом торжественно произнес:
– Совершенно верно, друг Генрих. Вы находитесь в особости К-12 под номером одиннадцать. Прошу вас войти.
Сторож раздвинулся на две половинки, каждая отошла к стене, между половинками образовался проход. Новое помещение было собранием ниш, в каждой нише висел экранирующий костюм. Сторож прогудел, что надо идти к нише номер три и брать костюм номер восемь – восьмой номер будет сидеть на Генрихе лучше других. Генрих протянул руку и погладил массивный ящик, похожий скорей на поставленный торчмя саркофаг, а не на костюм, – последнее великое творение Ивана Томсона: он выпустил эту модель из лаборатории всего за два месяца до своей трагической гибели. Генрих с грустью подумал, что, вероятно, сам Томсон внес его с Роем в список тех, кому позволено пользоваться его изобретением. «Вам с Роем моя последняя работа очень пригодится во время исследования катастроф на других планетах», – порадовал их тогда Томсон. Он и не подозревал, что катастрофы произойдут на Земле, что в одной из них погибнет он сам и что самый совершенный костюм для поиска будет использован его другом для защиты от поиска.
– Передвижение осуществляется внутренним двигателем, – гудел сторож.
– Кнопочное включение гарантирует прозрачность в оптической, тепловой, магнитной, электростатической, гравитационной и всех гамма– и радиообластях. Входите и закрывайтесь. Выведу наружу своими полями. Доброго поиска, друг Генрих.
Генрих влез внутрь ящика, и ящик ожил. Он задвигался, зашевелился, из твердого стал гибким; теперь он и вправду был костюмом, а не саркофагом: громоздким, массивным, но оберегающим, а не только хранящим в себе тело. Генрих вытянул руки – стена костюма легко выдалась наружу, образуя рукав, но не выпустив наружу пальцы. Сторож посоветовал использовать костюм как кокон, обеспечив себе свободу внутри него, в противном случае будет впечатление, что тело облеплено тестообразной массой.
– Доставьте меня для начала на Второй Кольцевой бульвар, в пятнадцатый сектор, – ответил Генрих на вопрос сторожа, куда его транспортировать до того, как он включит свои охранные экраны и двигатели.
Это была боковая аллея – уединенное местечко, огражденное высокими пирамидальными тополями. Аллея вела к полянке, полянку окаймляли густые кусты роз; посреди стоял фонтан, в жаркие дни он создавал влажную прохладу, сегодня – по случаю хмурой погоды – не работал. Вокруг фонтана тянулись скамейки, над спинками их наклонились ветви кустов. Генрих любил бульвары Столицы, а сюда, в пятнадцатый сектор, приходил весной и летом чаще, чем в другие уголки. Здесь, под нависающими яркими, нежно пахнущими розами, перед причудливо перекрещивающимися струями фонтана хорошо отдыхалось и думалось.
Сегодня в метеографике после полудня значился дождь. Время шло к полудню, тучи уже сгущались. Ветер гремел в ветвях, шипел на гравии дорожек, свистел в чаще молодых деревьев. В воздухе метались листья. Генрих включил все формы электромагнитной невидимости; теперь он был недоступен для глаза и для всех приборов, использующих частицы и волны. Он оставался еще в этом мире, но уже был вне его. Поколебавшись, он погасил экраны. Было рано наглухо закрываться. Он еще мог побыть в своем личном бытии. Часа два он еще имеет. Он не будет торопиться. Еще не все продумано, еще не все окончательно решено, еще не опровергнуты последние сомнения…
«Нет, все продумано, – безжалостно сказал себе Генрих. – Все решено.»
Сомнений больше нет. Загадок не стало вчера, с той минуты, когда он внезапным озарением постиг причины гибели Гаррисона. Это была последняя тайна. Он так трудно и так настойчиво размышлял о ней, он предугадывал, какое значение она имеет для всех, для него в особенности. Он искал в разгадке решения собственной судьбы – нашел и ужаснулся. Он отшатнулся от решения, не захотел принимать; то была тяжелая ночь споров с собой, нападок на себя, жалости к себе! Ночь кончилась, а с ней и сомнения. Все стало ясно. Хмурая ясность! Ясность или самообольщение?
«Не было самообольщения, – с жестокой честностью возразил себе Генрих. – Было понимание. Могущественная цивилизация, создававшая всюду свои живые датчики связи, свои опорные умы, через которые получала нужную информацию и исподволь передавала свои знания и умения, одного лишь не учла: возможности своей гибели. О, конечно, Боячек прав, она никому не желала зла; стремление к связи, к вселенскому общению бескорыстно – зло возникло непредвиденно. Произошла катастрофа в далеком звездном скоплении, и все связные гибнущей цивилизации из послов добра стали агентами злотворения. Спенсер не понял происходившего, его мозг сгорел сразу, а Гаррисон в отчаянии сообразил, что может стать для людей так же гибельно страшен, как Спенсер. И он ушел из жизни, предварительно навеяв в мой мозг важные математические истины, послав через Артемьева сообщение об Олли. И я силою аварии на Марсе стал наследником Спенсера, вероятно, и Андрея подготавливали к этому, но у Андрея не зашло так далеко, как у меня. Я теперь их представитель на Земле – канал, через который может пролиться яд. А я не хочу быть источником зла, не хочу, не хочу!.. Нет, – сказал себе Генрих, пораженный новой мыслью, – нет, все не так, как вообразилось. Нет, как же смел я подумать, что одного они там, в своем невообразимом далеке, не предугадали, не поняли, не учли: возможности собственной гибели. Все они учитывали, от всего защищались. Вот она, их защита: мое внезапное понимание! Да, так! Так, и не может быть иначе! Живые датчики связи осуществляют свои функции бессознательно, это их вторая жизнь – тайная, неподозреваемая. Нет, они не сознательно творящие свое дело Олли! А в момент опасности они или гибнут, как Спенсер, или их озаряет понимание, как Гаррисона. И Гаррисон уходит из жизни сам. Безопасность – здесь, в мгновенно пробуждающемся сознании, что ты опасен. Они уверены в тех, кого выбрали! Какое уважение в том, что осужденного одаряют пониманием его судьбы!»
Генрих включил двигатель шага. В костюме стало легко ходить. Генрих прошелся по аллейке, постоял у пирамидального тополя, задрал голову вверх. Тучи мчались быстрей, опускались ниже: становились темней. Генриха наполнил еще не изведанный, острый, как сердечная боль, приступ любви к миру, к любой его вещи, движению и звуку. Он когда-то лишь жил в мире, мир был его окружением, а теперь он стал сопричастен всему в мире, с радостной болью ощутил кровную связь с ним.
Он подошел к розовому кусту. Еще недавно это был пышный кудряш, сейчас он простирал оголенные ветки, и всеми ветками дрожал на ветру. Генрих погрузил в него руку, пошевелил в чаще скользких, в колючках, прутиков, с нежностью сказал: «Не бойся, я не сделаю тебе зла!» Он погладил забронированными в пластик пальцами ствол покачивающегося тополя, и ему тоже сказал: «Не бойся!» Потом сел на гранитный барьер и пообещал пустому, тускло поблескивающему розовым мрамором фонтану, что зла и ему не будет. Рядом возвышались три валуна: в центре серый гранит из Скандинавии, справа базальт с Луны, слева красный вулканит с Марса. Раньше Генрих лишь бросал на них рассеянный взгляд – ни земные, ни небесные камни его не интересовали. А сейчас он подошел к трем камням, внимательно пригляделся к ним. В угрюмости их чудился страх, недвижная надменность их тел скрывала боязнь… Он гладил поочередно камни Земли, Луны и Марса и растроганно шептал им: «Я ваш, я не изменю вам». И гравию, шумящему под ногой, он грустно сказал: «Ты говоришь моим голосом!» И, опершись рукой на спинку скамейки, он с болью заверил ее: «Я сидел на тебе не для того, чтобы вредить тебе!» А ветру, гремевшему кругом, он взволнованно крикнул: «Твой, твой, всегда твой!»
Хлынул дождь – неистовый, мощный, громогласный. И сразу стих ветер, перестали испуганно метаться деревья, ошалело извиваться кусты и травы – все голоса замолкли, движение замерло. Все звуки были теперь отданы рушащейся воде, и лишь она одна двигалась в окружающем мире. И Генрих, прислонившись к тополю и открыв лицо холодным потокам, с закрытыми глазами упоенно шептал: «Я – дождь! Я – дождь!» Это было новое ощущение, новое понимание, новое озарение – все прежние приникновения к истине потонули и растворились в нем. Генрих сказал радостно: «Я – тополь!»– и пошел по аллейке. Гравий молчал под ногами, по гравию гремела вода, Генрих прошептал: «Я – земля! Я – вода!» Он глянул вверх: туч не было, была плотная белесая мгла. И Генрих медленно и торжественно произнес: «Я – тучи! Я – небо!»– и возвратился к скамейке. Время исчерпало себя, время перестало быть – надо было исполнять задуманное.
Генрих проглотил приготовленные еще вчера пилюли, надавил на пусковые кнопки электромагнитного и гравитационного экранов и, выпадая из мира, которым с такой всеощутимостью вдруг стал сам, успел лишь прошептать: «Я – жизнь!»