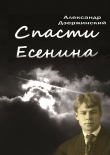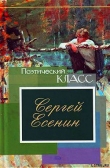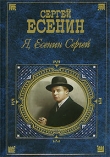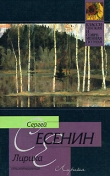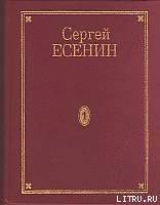
Текст книги "Том 4. Стихотворения, не вошедшие в Собрание сочинений"
Автор книги: Сергей Есенин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Море голосов воробьиных…»
Море голосов воробьиных*.
Ночь, а как будто ясно.
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.
Ах, у луны такое*, —
Светит – хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое, —
Светит – хоть кинься в воду.
Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?
Сам я не знаю, что будет.
Близко, а, может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.
‹1925›
«Плачет метель, как цыганская скрипка…»
Плачет метель, как цыганская скрипка*.
Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо.
Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь память
Снежною ночью в лихую замять.
Я не заласкан – буря мне скрипка.
Сердце метелит твоя улыбка.
4/5 октября 1925
«Ах, метель такая, просто черт возьми!..»
Ах, метель такая, просто черт возьми!*
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.
4/5 октября 1925
«Снежная равнина, белая луна…»
Снежная равнина, белая луна*,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?
4/5 октября 1925
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…»
Клен ты мой опавший, клен заледенелый*,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.
28 ноября 1925
«Какая ночь! Я не могу…»
Какая ночь! Я не могу*…
Не спится мне. Такая лунность!
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.
Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.
Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.
Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.
Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.
Что отлюбили мы давно,
Ты – не меня, а я – другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.
Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.
30 ноября 1925
«Не гляди на меня с упреком…»
Не гляди на меня с упреком*,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.
Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.
Ну и что же, лови, я не струшу,
Только как бы твой пыл не погас,—
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.
Не тебя я люблю, дорогая,
Ты – лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза – голубень.
Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.
Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.
Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.
1 декабря 1925
«Ты меня не любишь, не жалеешь…»
Ты меня не любишь, не жалеешь*,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.
Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?
Знаю я – они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.
Пусть твои полузакрыты очи,
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,—
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.
Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.
И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.
Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер…»
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».
И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.
4 декабря 1925
«Может, поздно, может, слишком рано…»
Может, поздно, может, слишком рано*,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.
Что случилось? Что со мною сталось?
Каждый день я у других колен.
Каждый день к себе теряю жалость,
Не смиряясь с горечью измен.
Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых,
Что ж ищу в очах я этих женщин —
Легкодумных, лживых и пустых?
Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.
На душе – лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман, —
За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!
И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить метель за синий цветень мая,
Звать любовью чувственную дрожь.
Так случилось, так со мною сталось,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.
13 декабря 1925
«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…»
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель*,
Перстень счастья ищущий во мгле,
Эту жизнь живу я словно кстати,
Заодно с другими на земле.
И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.
«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.
Оттого душе моей не жестко
Ни желать, ни требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.
Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.
‹1925›
«До свиданья, друг мой, до свиданья…»
До свиданья, друг мой, до свиданья*.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
‹1925›
Стихи на случай. Частушки
«Пророк» мой кончен, слава Богу…"
«Пророк» мой кончен, слава Богу*.
Мне надоело уж писать.
Теперь я буду понемногу
Свои ошибки разбирать.
‹1913›
«Перо не быльница…»
Перо не быльница*,
Но в нем есть звон.
Служи, чернильница,
Лесной канон.
О мати вечная,
Святой покров.
Любовь заречная —
Без слов.
6 октября 1915
«Любовь Столица, Любовь Столица…»
Любовь Столица, Любовь Столица*,
О ком я думал, о ком гадал.
Она как демон, она как львица,—
Но лик невинен и зорьно ал.
‹1915›
Частушки*
(О поэтах)
Я сидела на песке
У моста высокова.
Нету лучше из стихов
Александра Блокова.
Сделала свистулечку
Из ореха грецкого.
Веселее нет и звонче
Песен Городецкого.
Неспокойная была,
Неспокой оставила.
Успокоили стихи
Кузмина Михаила.
Шел с Орехова туман,
Теперь идет из Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Миколая Клюева.
Дуют ветры от реки,
Дуют от околицы.
Есть и ситец и парча
У Любови Столицы.
Заливается в углу
Таракан, как пеночка.
Не подумай, что растешь,
Таня Ефименочка*.
Ах, сыпь, ах, жарь,
Маяковский – бездарь.*
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмана.*
Пляшет Брюсов по Тверской
Не мышом, а крысиной*.
Дяди, дяди, я большой,
Скоро буду с лысиной.
‹1915–1917›
* * *
Ох, батюшки, ох-ох-ох,
Есть поэт Мариенгоф.
Много кушал, много пил,
Без подштанников ходил.
Квас сухарный, квас янтарный,
Бочка старо-новая.
У Васятки у Каменского
Голова дубовая.
‹1918–1919›
«Не надо радости всем ласкостям дешевым…»
Не надо радости всем ласкостям дешевым*,
Я счастлив тем, что выпил с Мурашевым.
Пасха, 1916 г.,
10 ап‹реля›, 12½ ч. ночи
«Не стихов златая пена…»
Не стихов златая пена*
И не Стенькина молва, —
Пониковская Елена
Тонко вяжет кружева.
Лес в них закутался,
Я – запутался.
‹1918›
Как должна рекомендоваться Марина*
Скажу вам речь не плоскую,
В ней все слова важны:
Мариной Ивановскою
Вы звать меня должны.
Меня легко обрамите:
Я маленький портрет.
Сейчас учусь я грамоте,
И скоро мне шесть лет.
Глазенки мои карие
И щечки не плохи.
Ах, иногда в ударе я
Могу читать стихи.
Перо мое не славится,
Подчас пишу не в лад,
Но больше всего нравится
Мне кушать «шыколат».
19 января 1924
«Если будешь писать так же…»
Если будешь*
Писать так же,
Помирай лучше
Сейчас же!
1924
«За все, что минуло…»
За все,*
что минуло,*—
Целую в губы
Сокола милого.
1924
«Эх, жизнь моя…»
Эх, жизнь моя*,
Улыбка девичья.
За Гольдшмита* пьем
И за Галькевича*.
Будет пуст стакан,
Как и жизнь пуста.
Прижимай, Муран*,
Свой бокал к устам.
5 октября 1924
Баку
«Милая Пераскева…»
Милая Пераскева*,
Ведь Вы не Ева!
Всякие штуки бросьте,
Любите Костю.
Дружбой к Вам нежной осенен,
Остаюсь – Сергей Есенин.
P.S.
Пьем всякую штуку.
Жму Вашу руку.
‹1924›
Клавдии Александровне Любимовой*
Из всякого сердца вынется
Какой-нибудь да привет.
Да здравствует именинница
На много лет!
Я знаю Вас очень недавно,
Клавдия Александровна,
Но жить Вам – богатеть,
Кунеть да – мохнатеть!
К следующему году —
Прибавок к роду.
А через два годы, —
Детей, как ягоды.
‹1924›
«Калитка моя бревенчатая…»
Калитка моя*
Бревенчатая.
Девки, бабы
Поют о весне.
Прыгает грач
Над пашнею.
Проклинайте вы все
Долю вчерашнюю.
Довольно гнуть
Спины.
Я встретился с ней
У овина.
Говорил ей словами
О своей судьбе.
Умирающая деревня,
Вечная память тебе.
‹1924–1925›
«Никогда я не забуду ночи…»
Никогда я не забуду ночи*,
Ваш прищур, цилиндр мой и диван.
И как в вас телячьи пучил очи
Всем знакомый Ванька и Иван*.
Никогда над жизнью не грустите,
У нее корявых много лап,
И меня, пожалуйста, простите
За ночной приблудный пьяный храп.
19 марта 1925
«Пускай я порою от спирта вымок…»
Пускай я порою от спирта вымок*,
Пусть сердце слабеет, тускнеют очи,
Но, Гурвич! взглянувши на этот снимок,
Ты вспомни меня и «Бакинский рабочий».
Не знаю, мой праздник иль худший день их,
Мы часто друг друга по-сучьи лаем,
Но если бы Фришберг* давал всем денег,
Тогда бы газета была нам раем.
25 апреля 1925
Баку
«Самые лучшие минуты…»
Самые лучшие минуты*
Были у милой Анюты.
Ее взоры, как синие дверцы,
В них любовь моя,
в них и сердце.
12 июня 1925
«Милый Вова, здорово…»
Милый Вова*,
Здорово.
У меня не плохая
«Жись»,
Но если ты не женился,
То не женись.
‹26 июля 1925›
«Пил я водку, пил я виски…»
Пил я водку, пил я виски*,
Только жаль, без вас, Быстрицкий.
Нам не нужно адов, раев,
Только б Валя жил Катаев.
Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.
‹1925›
«И так всегда. За пьяною пирушкой…»
И так всегда. За пьяною пирушкой*,
Когда свершается всех дней круговорот,
Любой из нас, приподнимая кружку,
В нее слезу нечаянно прольет.
Мы все устали. Да, устали очень.
И потому наш голос за тобой —
За васильковые, смеющиеся очи
Над недовольною и глупою судьбой.
‹1925›
Отрывки. Неоконченное
«Ты на молитву мне ответь…»
Ты на молитву мне ответь*,
В которой я тебя прошу.
Я буду песни тебе петь,
Тебя в стихах провозглашу.
‹1911›
И. Д. Рудинскому по поводу посещения им нашей школы 17 ноября 1911 г.*
Вы к нам явилися, как солнце
Среди тумана серых туч,
И, заглянув в души моей оконце,
Свой бросили животворящий луч.
Тот луч согрел во мне остывшие…
‹1911›
«Кто скажет и откроет мне…»
Кто скажет и откроет мне*,
Какую тайну в тишине
Хранят растения немые
И где следы творенья рук?
Ужели все дела святые
Ужели всемогущий звук
Живого слова сотворил?
‹1913›
«Холодней, чем у сколотой проруби…»
Холодней, чем у сколотой проруби*,
Поджидаешь ты томного дня.
Проклевали глаза твои – голуби
Непрощенным укором меня.
‹1916›
«Не пора ль перед новым Посемьем…»
Не пора ль перед новым Посемьем*
Отплеснуться вам, слова, от Каялы*.
Подымайтесь малиновым граем,
Сполыхните сухояловый омеж*,
Скряньте настно белесые обжи*,
Оборатуйте кодолом Карну*.
Что шумит, что звенит за курганом,
Что от нудыша мутит осоку*?
Распевает в лесу лунь-птица,
Причитает над тихим Доном.
Не заря оседлала вечер
Аксамитником* алым, расшитым,
Не туман во степи белеет
Над сукроем* холмов сохатых —
Оторочилось синее небо*,
Оск‹л›обляет облако зубы.
К‹а›к сидит под ольхой дорога,
Натирает зеленые скулы,
Чешет пуп человеческим шагом…
‹1917›
«При луне хороша одна…»
При луне хороша одна*,
При солнце зовет другая.
Не пойму я, с какого вина
Захмелела душа молодая?
‹До 1919›
«Вот они, толстые ляжки…»
Вот они, толстые ляжки*
Этой похабной стены.
Здесь по ночам монашки
Снимают с Христа штаны.
‹1919›
«Возлюбленную злобу настежь…»
Возлюбленную злобу настежь* —
И в улицы душ прекрасного зверя.
Крестами убийств крестят вас те же,
Кто кликал раньше с другого берега…
Говорю: идите во имя меня
Под это благословенье!
Ирод – нет лучше имени —
А я ваш Ирод, славяне.
‹1919›
«Не жалею вязи дней прошедших…»
Не жалею вязи дней прошедших*,
Что прошло, то больше не придет.
И луна, как солнце сумасшедших,
Тихо ляжет в голубую водь…
‹1925›
Синий день. День такой синий*
Чтоб не ругалась больная мать,
Я приду, как… сука,
У порога околевать.
I
Ты ведь видишь, что ночь хорошая,
Нет ни холода, ни тепла.
Так зачем же под лунной порошею
В эту ночь ты совсем не спала?
Не спала почему? Скажи мне,
Я все [вынесу], все перенесу [переживу].
И хоть месяцем желтым выжну
Непосеянную полосу.
Весне зима есть,
Да, зима!
Ты ее ведь видела, любимая, сама.
Береза, как в метель с зеленым рукавом,
Хотя печалится, но не по мне живом.
Скажи же, милая, когда она печалится?
Кругом весна, и жизнь моя кончается.
Но к гробу уходя и смерть приняв постель
древесную метель.
Вот потому всегда, когда мой глаз остер,
Мне душу греет так рябиновый костер,
Но все пройдет навек, как этот жар в груди,
Береза милая, постой, не уходи.
II
Сани. Сани. Конский бег.
Поле. Петухи да ветер.
Полюбил я русский снег
Тем, что чист и светел.
Сам я русский и далек,
Никогда не скрою:
Та звезда, что дал мне рок,
Пропадет со мною.
* * *
Ночь проходит. Свет потух.
За окном поет петух.
И зачем в такую рань
Он поет – дурак и дрянь?
Но коль есть в том смысл и знак,
Я такой, как он, дурак.
* * *
Небо хмурое. Небо сурится.
К голосам я привычен и глух.
Лишь тебя только, доброй курицы,
Я желаю, далекий петух.
Нам ведь нечего делать и надо ли?
Сдохну я, только ты не ложись.
У моей, я хотел бы, падали
Процветала куриная жизнь.
III
Ты ведь видишь, что небо серое
Так и виснет и липнет к очам.
Ты прости, что я в Бога не верую —
Я молюсь ему по ночам.
Так мне нужно. И нужно молиться.
И, желая чужого тепла,
Чтоб душа, как бескрылая птица,
От земли улететь не могла.
‹Октябрь 1925›
«Буря воет, буря злится…»
* * *
Буря воет, буря злится*,
· · ·
Из-за туч луна, как птица,
Проскользнуть крылом стремится,
Освещая рыхлый снег.
· · ·
· · ·
Страшно хочется подраться
С пьяным тополем в саду.
· · ·
· · ·
…дверь откроешь на крыльцо,
Буря жесткой горстью снега
Саданет тебе в лицо.
· · ·
· · ·
Ну, да разве мне расстаться
С этой негой и теплом.
С недопитой рюмкой рома
Побеседуем вдвоем.
‹1925›
Коллективное
Есенин и др. Кантата[1]1
Первая часть произведения написана М. Герасимовым, вторая – С. Есениным, третья – С. Клычковым.
[Закрыть]*
1
Сквозь туман кровавый смерти,
Чрез страданье и печаль
Мы провидим, – верьте, верьте —
Золотую высь и даль.
Всех, кто был вчера обижен,
Обойден лихой судьбой,
С дымных фабрик, черных хижин
Мы скликаем в светлый бой.
Пусть последней будет данью
Наша жизнь и тяжкий труд.
Верьте, верьте, там за гранью
Зори новые цветут.
2
Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.
Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц…
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.
Солнце златою печатью
Стражей стоит у ворот…
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.
3
Сойди с креста, народ распятый,
Преобразись, проклятый враг,
Тебе грозит судьба расплатой
За каждый твой неверный шаг.
В бою последнем нет пощады,
Но там, за гранями побед,
Мы вас принять в объятья рады,
Простив неволю долгих лет.
Реви, земля, последней бурей,
Сзывай на бой, скликай на пир.
Пусть светит новый день в лазури,
Преображая старый мир.
Осень 1918
Комментарии
Список условных сокращений
Бак. раб. – газета «Бакинский рабочий». Баку, 1906–1995.
Бирж. вед. – газета «Биржевые ведомости», утр. вып. СПб. – Пг., 1880–1917.
Восп., 1, 2 – сб. С. А. Есенин в воспоминаниях современников в двух томах, тт. 1–2. М., Худож. лит., 1986.
Г18 – Сергей Есенин. Голубень, СПб., Революционный социализм, 1918.
Г. тр. кр. – газета «Голос трудового крестьянства». М., 1917–1919.
Еж.ж. – «Ежемесячный журнал». Пг., 1914–1918.
Зарянка – ИРЛИ – макет не вышедшего при жизни Есенина сборника «Зарянка. Стихи для детей». 1916 (Хранится в ИРЛИ, арх. М. В. Аверьянова, ф. 428, оп. I, № 132, лл. 1-12).
Зн. бор. – газета «Знамя борьбы», Пг., 1918 (№ 1-91).
Комментарий – Комментарий к Собранию сочинений Есенина С. А. Составители Толстая-Есенина С. А. и Чеботаревская Е. Н. 1940–1941 (Хранится в ГЛМ, ф. 4, оп. 1, № 227/1-3, 278).
Кр. нива – журнал «Красная нива». М., 1923–1932.
Кр. новь – журнал «Красная новь». М., 1921–1942.
Н. прил. – «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу „Нива“». СПб. – Пг., 1894–1916.
П18 – Преображение. Стихотворения Сергея Есенина. [М], Изд. Московской трудовой артели художников слова, [1918].
Р16 – Сергей Есенин. Радуница, Пг., Изд. М. В. Аверьянова, 1916.
Р18 – Радуница. Стихотворения Сергея Есенина М., Изд. Московской трудовой артели художников слова, [1918].
Сел. час. – Сельский часослов. Поэмы Сергея Есенина. М., Изд. Московской трудовой артели художников слова, 1918.
Ск-1 – «Скифы», сборник 1-й, СПб., Скифы, 1917.
Ск-2 – «Скифы», сборник 2-й, СПб., Скифы, 1918.
Собр. ст. – Сергей Есенин. Собрание стихотворений, тт. 1, 2, 3, М.—Л., Госиздат, 1926; (Стихи и проза. Т. 4), М.—Л., Госиздат, 1927.
Хроника, 1, 2 – В. Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника, чч. 1 и 2. М., «Советская Россия», 1969–1970.
ГЛМ – Государственный литературный музей Российской Федерации. Отдел рукописных фондов, фототека (Москва).
ГМЗЕ – Государственный музей-заповедник С. А. Есенина (с. Константиново Рязанской обл.).
ГМТ – Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва).
ИМЛИ – Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук (до 4 декабря 1991 года – ИМЛИ АН СССР). Рукописный отдел (Москва).
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (до 21 ноября 1991 года – ИРЛИ АН СССР). Рукописный отдел (Санкт-Петербург).
НБ ФА – Научная библиотека Федеральных архивов (до 29 июня 1992 г. – Научная библиотека Центральных государственных архивов СССР), Москва.
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (до 24 июня 1992 года – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР), Москва.
РГБ – Российская государственная библиотека (до 22 января 1992 г. – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). Отдел рукописей (Москва).
РГИА – Российский государственный исторический архив (до 24 июня 1992 г. – Центральный государственный исторический архив СССР), Санкт-Петербург.
РИАМЗ – Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Фонд письменных источников (Рязанский кремль).
РНБ – Российская Национальная библиотека (до 27 марта 1992 года – Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Отдел рукописей (Санкт-Петербург).
Четвертый том Полного собрания сочинений С. А. Есенина по особенностям состава и композиции существенно отличается от первых трех томов. В этом томе впервые собраны все известные на нынешний день законченные произведения, по разным причинам не вошедшие в подготовленный поэтом трехтомник, а также стихотворения, оставшиеся незавершенными или сохранившиеся в отрывках.
Публикация этой части наследия Есенина в его собраниях сочинений имеет свою историю.
Государственное издательство, предпринявшее выпуск «Собрания стихотворений» С. А. Есенина в трех томах, после гибели поэта решило развернуть это собрание в полное. В четвертый дополнительный том намечалось включить «все стихотворения, оставшиеся в рукописях, а также стихотворения, не вошедшие в три предыдущих тома…» (Собр. ст., т. 1, с. VIII).
В 1927 году четвертый том «Стихи и проза», составленный И. В. Евдокимовым, вышел в свет. Как отмечалось в «Предисловии», книга вобрала в себя, помимо прозы, «а) стихотворения, не включенные поэтом, по разным соображениям, в первые три тома; б) забытые и затерявшиеся в старых журналах и газетах; в) поступившие от разных лиц, преимущественно из дружеских альбомов, не публиковавшиеся до сего времени, и г) посмертные стихотворения» (Собр. ст., т. 4. Стихи и проза, с. 7).
Произведения были сгруппированы в разделы по годам, внутри же разделов располагались в хронологической последовательности по времени публикации или по датам, имеющимся в автографах. В книгу вошло 62 стихотворения (в том числе надпись на сборнике, подаренном И. В. Евдокимову: «Сердце вином не вымочу..»).
В «Предисловии» же сообщалось, что «четвертый том не исчерпает полностью всего, написанного Есениным, а следовательно возможны некоторые пропуски, – и почти несомненны некоторые варианты и разночтения». Это объяснялось тем, что издатели «не имели возможности пользоваться оставшимся рукописным наследством поэта, недоступно хранящимся у сестры поэта Е. А. Есениной и у разных других лиц…» (там же).
Не были использованы однако не только недоступные рукописи. Осталось неучтенным значительное число прижизненных публикаций стихотворений поэта в газетах, журналах и других изданиях (например, «Лебедушка» – журн. «Доброе утро», М., 1917, № 5–6, март; «О родина!» – «Свободный журнал», Пг., 1917, № 6, декабрь; «Мечта» – журн. «Нива», Пг., 1918, № 3, 20 января).
После выхода в свет тома «Стихи и проза» родственники, друзья поэта, исследователи, почитатели творчества Есенина, нашли и напечатали большое число забытых и ранее неизвестных стихотворений поэта. Особенно много есенинских текстов было обнаружено в 50-70-е годы. С публикациями и пояснениями к ним выступали С. А. Толстая-Есенина, Е. А. Есенина, А. А. Есенина, Рюрик Ивнев, Д. И. Золотницкий, Ю. Л. Прокушев, В. Г. Белоусов, В. И. Астахов, В. А. Вдовин и другие. Выделяется такая находка, как рукописный сборник раннего Есенина «Больные думы», содержащий 16 стихотворений.
Все это дало возможность в пятитомное Собрание сочинений (М., 1961–1962) ввести 68 забытых или не публиковавшихся при жизни поэта стихотворений, таких, например, как «К покойнику», «Ты ушла и ко мне не вернешься..», «Свищет ветер под крутым забором…», «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…»
В 1–3 томах этого собрания размещались стихотворения в хронологическом порядке, а стихотворные экспромты и наброски были выделены в особый раздел и помещены в конце 5-го тома.
Во второе пятитомное издание (М., 1966–1968) были дополнительно включены «Больные думы» и три стихотворения («Тихий ветер. Вечер сине-хмурый…» – с неточностями, «Греция», «Польша»), экспромт («Дорогой дружище Миша…» – М. П. Мурашеву). В то же время в издание не вошли напечатанные в пятитомнике 1961–1962 гг. три стихотворения («За сухое дерево месяц зацепился…», «Подражание Борису Садовскому», «Же́не Рокотову») – как не принадлежащие Есенину.
Первые три тома Собрания сочинений в 6-ти томах (М., 1977–1980) воспроизводили подготовленное автором издание его стихотворений и поэм. Четвертый же том (1978) составили публикации стихотворений, не вошедших в трехтомник. Том состоял из двух разделов: «Стихотворения», «Отрывки, наброски, экспромты, шуточные стихи» и «Приложения» – «Dubia». По сравнению со вторым пятитомником здесь (с дополнениями – в 6 томе) напечатано 20 новых поэтических текстов.
Новые публикации стихотворений Есенина также содержались в книгах: «Избранное» (М., 1946); «Избранное» (М., 1952); «Стихотворения» (Л., 1953. Б-ка поэта, малая серия); «Сочинения. В 2-х т.» (М., 1955); «Стихотворения и поэмы» (Л., 1956. Б-ка поэта. Большая серия. Второе изд.);«Сергей Есенин» ‹Избранное›(М., 1958); «Собрание сочинений. В 3-х т.» (М., 1970).
Все названные издания явились основой для подготовки настоящего тома в Полном собрании сочинений С. А. Есенина.
Составители провели дополнительную поисковую и исследовательскую работу в государственных архивах и частных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, с. Константинова, Спас-Клепиков, Ташкента, Липецка.
Впервые учтены 9 ранее неизвестных автографов, в том числе 2 фотокопии: «Поэт», «Чары», «Акростих», «Грубым дается радость…» (фрагмент), «Издатель славный! В этой книге…», «Воспоминание» ‹1924› (две рукописи), «Я помню, любимая, помню…», «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…»; 2 списка рукой С. А. Толстой-Есениной («Плачет метель, как цыганская скрипка…», «Ах, метель такая, просто черт возьми..» – сняты с автографов поэта).
Выявленный автограф стихотворения «Поэт» ‹1912›, из которого с 1945 года печатались только две заключительные строфы, дал возможность впервые в собрании сочинений воспроизвести его полный текст.
Впервые учтен список «Кантаты», сделанный рукой М. П. Герасимова в 1926 году и предназначавшийся для Музея Есенина.
Просмотрены сотни книг, периодических изданий России – СССР и русского зарубежья за 1912–1930 годы; учитывалась также литература о Есенине более поздних лет, вплоть до 1995 года.
Впервые указываются 10 первых прижизненных и посмертных публикаций, ранее не отмеченных в собраниях сочинений С. А. Есенина. Среди них: «Заметает пурга…», «Не стану никакую…», «Деревенская избенка», «Дорогой дружище Миша…». Особо следует отметить находку в газете «Воля и думы железнодорожника» (М., 1918, 26 окт., № 72) – первую публикацию «Кантаты» с разночтениями во всех трех частях.
По автографам, спискам и первым публикациям внесены уточнения в тексты 15 стихотворений: «Брату Человеку», «Пороша», «Воспоминание» ‹1924›, «Пускай я порою от спирта вымок…» и других.
По сравнению с основным составом поэтических произведений, входивших в 4-й и 6-й тома Собрания сочинений 1977–1980 гг., в настоящий том дополнительно включены 11 есенинских текстов. «Поэт» (ст. 1-12), «Юность», «Народная. Подражание песенке матери» – из «Формы», «Возлюбленную злобу настежь…», «Частушки (О поэтах)», «Не надо радости всем ласкостям дешевым…», «Клавдии Александровне Любимовой», «Пил я водку, пил я виски», «И. Д. Рудинскому по поводу посещения им нашей школы 17 ноября 1911 г.», «Вот они, толстые ляжки..», «Не жалею вязи дней прошедших…».
Основной раздел тома – «Стихотворения». Сюда вошли завершенные произведения Есенина – от его ранних опытов («Звезды», «Зима») до стихотворений конца 1925 года, созданных после того, как рукопись первого тома Собр. ст. была сдана поэтом в издательство («Клен ты мой опавший, клен заледенелый…», «Не гляди на меня с упреком…»). Представлены стихи для детей («Сиротка», «Бабушкины сказки»), пейзажная и любовная лирика («Пороша», «Я помню, любимая, помню…»), стихотворения гражданской тематики («Поэт» ‹1912›, «Капитан Земли»), поэтические посвящения («На память Мише Мурашеву», «В глазах пески зеленые…»). Здесь печатаются сонеты и акростих, четверостишия и объемные «Сельский часослов», «Цветы». Основной раздел завершается последним стихотворением Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…».
Следующий раздел – «Стихи на случай. Частушки». К стихам на случай отнесены: стихотворные записи в альбомах, принадлежащих разным лицам; стихотворные экспромты, адресованные друзьям и знакомым поэта (исключая помещенные в соответствующий раздел седьмого тома наст. изд. дарственные надписи). Из шуточных стихов в собрание впервые вводятся строки, обращенные к К. А. Любимовой. Здесь же печатаются частушки Есенина «О поэтах».
В третьем разделе даются отрывки из завершенных или незавершенных и не дошедших до нас стихотворений («При луне хороша одна…», «Буря воет, буря злится…»), а также явно незаконченные произведения («И. Д. Рудинскому по поводу посещения им нашей школы 17 ноября 1911 г.»).
В разделе «Коллективное» – «Кантата», написанная С. Есениным совместно с М. Герасимовым и С. Клычковым.
Материал, размещенный в первом, основном, а также в трех последующих разделах настоящего тома, вместе со стихотворными строками, черновыми набросками, заготовками и т. п., входящими в 7-ой том, непосредственно примыкает к произведениям первых трех томов и завершает собою публикацию всего известного на нынешний день поэтического наследия Есенина.
В «Приложения» настоящего тома впервые вводится раздел «Строки, записанные современниками». Здесь публикуются как законченные стихотворения («Упоенье – яд отравы…», «Мине», «Тетя Мотя…»), так и отдельные строфы, частушки, оставшиеся в памяти родных, друзей, знакомых Есенина. Среди них: Ю. П. Анненков, С. Т. Коненков, В. П. Комарденков, А. Б. Мариенгоф, Н. А. Сардановский, Н. И. Титов, Г. Ф. Устинов, М. И. Цветаева.
Вторая часть «Приложений» – «Приписываемое» (Dubia). Она содержит стихотворения, в отношении которых авторство Есенина окончательно не установлено.
Завершается раздел тремя аннотированными списками под общим заголовком «Приписанное, но не включенное в настоящее издание»:
1. Ошибочные публикации под фамилией Есенина;
2. Намеренные публикации под фамилией Есенина (в том числе – «Послание евангелисту Демьяну»);
3. Стихотворения, принадлежность которых Есенину весьма сомнительна (архивные списки), или источник текста не достоверен (публикации).
Произведения основного и идущих за ним разделов печатаются в последних редакциях по авторским публикациям, а также по автографам или спискам, сделанным родными и близкими поэта («Не пора ль перед новым Посемьем…», «И так всегда. За пьяною пирушкой…»). Если имеется несколько автографов одного стихотворения, то предпочтение отдается более поздней по исполнению рукописи (например, «Даль подернулась туманом…»). В случае, когда автограф предшествует первой публикации, текст стихотворения дается по этой публикации («Моей царевне», «Льву Повицкому»). Из нескольких авторских публикаций в качестве источника текста, как правило, берется последнее издание (исключением является стихотворение «Молитва матери» – см. коммент. к нему).
Сопоставление прижизненных и посмертных публикаций с автографами позволило устранить ряд погрешностей, не замеченных автором или редакторами («Гаснут красные крылья заката…», «Слушай, поганое сердце…»). Все исправления оговариваются в комментариях.