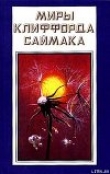Текст книги "Александр Серов. Его жизнь и музыкальная деятельность"
Автор книги: Сергей Базунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Глава III. Молодость Серова
Мечты и действительность. – Поступление на службу. – Отношение к служебным занятиям. – Музыкальные занятия и музыкальные взгляды Серова. – Творческие попытки. – Первые произведения. – Первый успех и отношение к нему.
«…Странное дело, я думал, что после выпуска совершится в моей внутренней жизни крутой переворот, т. е. с меня спадет скорлупа, в которой были до сих пор заключены все движения, все намерения, все мысли моего Я… И что же – ничуть не бывало, я еще совершенно тот же, как и прежде…»
Так писал Серов вскоре после окончания училища своему другу Стасову, внимательно осматриваясь среди новой и непривычной обстановки, в которой очутился после пяти лет замкнутой училищной жизни. Новые впечатления казались ему не только новыми, но и «странными»…
Между тем приходилось избрать какой-нибудь определенный род деятельности, устроиться и начать какую-нибудь карьеру. Но молодой человек не имел никаких видов, никаких положительных планов на будущее. Его занимали по-прежнему лишь мечты о поэзии, о музыке, намерения его сводились к тому, чтобы посвятить свою жизнь любимому искусству. «Какое высокое назначение, – писал он г-ну Стасову, – быть жрецом такой музы (музыки), бросить значительную горсть фимиама на ее жертвенник и этим заставить человечество подвинуться на несколько шагов вперед». Так мечтал молодой энтузиаст и на все практические возражения имел готовый, им самим выработанный и самого его увлекавший ответ: «Я уверен, – говорил он, – что успех музыки никак не менее подвигает человечество, как паровые машины и железные дороги». Такое настроение, такое направление мыслей, разумеется, мало содействовало разрешению вопроса о выборе практической деятельности.
Бог знает, сколько времени продолжалось бы это нерешительное состояние молодого Серова, если бы в дело не вмешался наконец его отец. Обладая характером очень решительным и относясь к «святому искусству» чрезвычайно сдержанно, он не возлагал на него никаких практических надежд и разрешал вопрос о карьере сына совсем с другой точки зрения. Он полагал именно, что всякий молодой человек дворянского рода должен служить и на службе составить себе «положение». Училищный диплом сына определял и род службы: диплом этот был юридический, следовательно, и эксплуатировать его нужно было в каком-нибудь юридическом учреждении. И вслед за тем на ум приходило уже само собою место в Сенате, благо, у Николая Ивановича Серова сохранились там кое-какие служебные связи. Таким образом, вопрос о карьере молодого Серова был решен столь же быстро, сколь и определенно. При этом оставалось, правда, невыясненным то обстоятельство, каким образом удастся молодому человеку согласовать свои артистические стремления с деятельностью департаментского чиновника. Но это был уже вопрос второстепенный, не входивший в соображения Николая Ивановича. Он ограничился тем, что объявил сыну свое бесповоротное решение и принялся за хлопоты.
Как же принял такое решение наш молодой мечтатель? Он был смущен, более того, он был подавлен решением отца: до такой степени оно не отвечало его душевным потребностям и шло прямо вразрез со всеми его мечтами, со всеми его артистическими надеждами. При всем том, что мог он возразить отцу? Говорить о своем художественном призвании, о музыке, об искусстве? Но он хорошо знал взгляды Николая Ивановича. Он знал, что отец его все такие вещи считает просто пустяками, вздором, о котором не стоит рассуждать серьезно. Притом же, говоря о своем призвании, приходилось бы еще спорить; нужно было дать доказательства того, что у него есть артистическая будущность. Но какие доказательства мог он предъявить, когда у него самого в будущем ничего не было, кроме надежд? Одни надежды, только надежды!.. Как легковесны были бы в глазах положительного Николая Ивановича такие «доказательства»!
И молодой человек решил совсем не предъявлять отцу никаких возражений. Он принял его решение по наружности совершенно равнодушно, стараясь ничем не обнаруживать своего отвращения к ожидавшей его службе, и совершенно пассивно стал ожидать результатов отцовских хлопот. Свои артистические мечты он затаил в себе до более благоприятного времени.
Между тем хлопоты энергичного Николая Ивановича об определении сына на службу увенчались самым скорым успехом. Тем же летом (1840 год) молодой Серов был зачислен в канцелярию 5-го уголовного департамента Сената и вместе с тем получил чин IX класса. На Руси стало одним титулярным советником больше.
Затем потянулись довольно однообразные дни. С Лиговки, где проживали тогда Серовы, молодой чиновник исправно путешествовал на Сенатскую площадь, просиживал в канцелярии положенное время, аккуратно, насколько это требовалось, исполнял свои служебные обязанности и как будто совершенно смирился со своим новым положением. Казалось, он совершенно расстался со своими идеальными планами, забыл и свои художественные стремления, и свое призвание.
Но так только могло казаться. В действительности же под внешностью равнодушия молодой человек скрывал отнюдь не равнодушные чувства. Он начал с того, что стал внимательно присматриваться к окружавшей его служебной обстановке, изучать то, что в стенах канцелярии называлось «делом». Ведь этому «делу» он должен был посвятить теперь свои силы и способности. Оценка получилась совершенно отрицательная.
И ради этого жалкого «нечто» он должен пожертвовать тем другим, настоящим делом, которое составляло цель и призвание его жизни! Никогда! Если уж необходимо служить, чтобы иметь средства к жизни, то он, пожалуй, будет служить, но никогда не посвятит службе своих душевных сил и способностей. Пусть служба остается средством к жизни, но она никогда не сделается целью ее! И, остановившись на таком решении, молодой Серов поспешил поделиться со своим другом Стасовым этими первыми впечатлениями своего житейского опыта. Вот некоторые отрывки из его письма от 6 – 10 августа 1840 года:
«…Что я скажу тебе о своей политической жизни (как ты ее называешь)? До сих пор в этом отношении все идет вяло, ни тепло, ни холодно (un état tiède), да и быть иначе не может с этим сором (sic!), что называется сенатскими делами… Да разве может существовать душа до такой степени черствая и пыльная, чтобы предаться занятиям сенатской службы con amore[9]9
с любовью (ит.)
[Закрыть]!! Спасибо, этого никто и не требует, а чтоб sauver les apparences (спасти внешность), и еще довольно выгодно, право, для этого не много нужно уделять душевных сил, и они преспокойно могут быть все сосредоточены на другом, лучшем!»
Это «другое, лучшее», чему он решил посвятить свои душевные силы, было, без сомнения, излюбленное им искусство. И, выработав такой спасительный компромисс, Серов до времени на нем успокоился.
Определив, таким образом, свое отношение к службе, рассматривая ее как прозу жизни, скучную, досадную, но неизбежную, и решив уделять этой прозе как можно меньше сил, Серов перенес все свое внимание на музыку. Ей он отдался всецело, сосредоточив здесь весь свойственный его натуре энтузиазм. И в первое время пристрастие его к любимому искусству было так велико, так безгранично, что вполне подходит под понятие фанатизма в самом настоящем смысле этого слова. «Музыка, – писал он г-ну Стасову в 1840 году, – сама по себе обширнее всех прочих искусств. „Naturam amplectitur omnem“ [10]10
В своем письме А. Н. Серов приводит окончание латинского выражения Ignis ubique latet, naturam amplectitur omnem (Огнь сокрытый, обнимающий всю природу)
[Закрыть] (обнимает всю природу)… Даже название искусство как-то мало, унизительно для музыки…» В другом письме того же года это необузданное увлечение вылилось в целом рассуждении. Мы приводим его, потому что кроме взглядов Серова на музыку оно очень любопытно обрисовывает также некоторые другие воззрения и саму личность юного автора.
«…Высокое, высочайшее искусство – музыка! Блажен тот, кто им обладает вполне, или, сказать более поэтически: блажен тот, кого любит эта муза! О, кого она любит, тому не нужно никаких княгинь Воротынских (героиня романа „Большой свет“ графа Соллогуба, которым Серов и Стасов в то время особенно восхищались. – Авт.): c'est trop bas, trop trivial pour lui (это слишком низко, слишком тривиально для него). Мне кажется, что такой счастливец, если и полюбит когда-нибудь женщину, то не иначе, как чтобы она была почти так же идеальна, как сама муза, и он в прелестном существе перед своими глазами мог бы всегда видеть la personification de la musique. Voila mon opinion. That is my thought on the love (олицетворение музыки. Вот мое мнение. Вот мое мнение о любви). Может быть, таких существ нет на свете! О, тогда моему счастливцу вовсе не нужно идеальной любви в осуществлении. Он ограничится своей любимой мечтой, оставив животную жизнь идти своей дорогой. А впрочем жаль, если нет таких женщин; жизнь такого счастливца, который бы обладал музыкой и обладал таким существом, счастливца, у которого бы страсть к искусству совпадала со страстью к своему supplément[11]11
дополнению (фр.)
[Закрыть], – жизнь его была бы действительно осуществлением доступного для человека блаженства на земле!»
Но не надо думать, что музыка возбуждала в Серове одни только платонические восторги. У него была слишком деятельная натура, чтобы сидеть сложа руки, ограничиваясь бесплодным обожанием искусства. Нет, он работал, и притом очень много и упорно, всеми силами стараясь подвинуть и расширить свое артистическое развитие. Нужно сказать, что он совершенно ясно сознавал как неосновательность теоретических своих познаний, так и сравнительно малое знакомство свое с музыкальною литературой.
Для устранения этих недостатков он делал все, что от него зависело. Все, что по части музыки давал театр, концерты и отдельные знаменитые исполнители, – все это он прослушивал с самым жадным вниманием, так что в конце сезона (1840-41 годы) мог по справедливости писать: «Я теперь просто всегда плаваю в музыке… все прочие отношения для меня как будто не существуют… беспрерывно питаю себя звуками», и пр. Он действительно не пропускал ни одного случая, когда можно было слышать хорошую музыку. При этом совершенно недостаточно сказать, что молодой музыкант слушал! Это слово ничего не говорит о той сложной умственной аналитической работе, которая происходила в голове его в то время, когда он слушал музыку. Он не просто слушал, он изучал музыку. Она была для него не одним только наслаждением и менее всего развлечением, конечно, – в его глазах она всегда была материалом, подлежащим всестороннему художественному анализу, от которого он никогда не мог отказаться. Поэтому будет неудивительно, если мы скажем, что, прослушав какое-нибудь музыкальное произведение, выходя из концерта, театра и пр., он уносил с собою готовый, всесторонне обдуманный критический отзыв о слышанном, иногда целую музыкальную рецензию, которую оставалось только набросать на бумаге. Переписка, которую Серов в то время вел с г-ном Стасовым, полна такими рецензиями, и даже в письмах, относящихся к этому сезону, читатель может найти много музыкальных отзывов, поражающих столько же зрелостью, сколько тонким художественным пониманием. По своей обстоятельности и значению многие из этих писем-рецензий заслуживали быть напечатанными тогда же, несмотря на значительную молодость их автора. Они указывали на присутствие в нем несомненного музыкально-критического таланта, который Серов так блестяще проявил впоследствии.
Но обо всем этом нам еще придется говорить в дальнейшем. Здесь же мы хотим лишь отметить особую манеру слушать музыку, которая была свойственна Серову. Не менее серьезно относился он, разумеется, и к той музыке, которую ему доводилось исполнять самому. А играл он постоянно, посвящая этому делу почти все свободное время. Дома, у знакомых, один и, когда случалось, в четыре руки – Серов всегда был готов играть, лишь бы это была музыка художественная и серьезная. Неудивительно поэтому, что при таких условиях его природное художественное чутье теперь развивалось и прогрессировало быстро, постепенно приобретая ту обоснованную сознательность, которая неразлучна с истинным пониманием.
Что касается музыкальных вкусов, направления Серова в то время, то нужно сказать, что все симпатии его были на стороне классической музыки с Бетховеном во главе.
Впоследствии Серова нередко упрекали в неустойчивости и изменчивости взглядов. Не касаясь этих упреков по существу, мы здесь заметим только, что никакой изменчивости, никакой неустойчивости не заметно во взглядах Серова на классическую музыку. Бетховен был и навсегда остался кумиром Серова, и никакие последующие симпатии не могли заглушить или уменьшить в нем то чувство благоговейного удивления, какое он питал к величайшему из классиков. Что касается музыки, современной Серову, то в этот период он выше всего ставил музыку немецкую, решительно предпочитая ее итальянской. Особенно он восхищался в это время Мейербером, которого, впрочем, скоро развенчал, заметив в нем декоративность, погоню за внешними эффектами и пр.
Нам уже известно, что Серов очень ясно сознавал недостаточность своих музыкально-теоретических познаний. Мы заметили также, что его музыкальные занятия и аналитический характер их имели между прочим целью восполнить именно этот пробел. Разбирая образцовые музыкальные произведения, Серов желал видеть, как на практике разрешаются разные теоретические вопросы, которые вставали перед ним в ходе его собственных творческих попыток. Что касается этих попыток, то нужно сказать, что начало их относилось еще ко времени пребывания Серова в училище правоведения.
В то время, еще не будучи вовсе знаком с теорией композиции, будущий композитор уже начинал иногда ощущать потребность излить с помощью фортепиано приходившие ему в голову музыкальные мысли. Однако, не зная теории вовсе, он не умел не только записать то, чем бывала полна его голова, но даже сама передача этих мыслей на фортепиано затрудняла его чрезвычайно, ибо и для такой передачи требуются знание и навык. И вот, когда наступали такие минуты бессознательного вдохновения, молодой правовед украдкою запирался в комнате, где стояло фортепиано, и там один, без всяких посторонних указаний, без всякого руководства, так сказать ощупью, принимался отыскивать те аккорды и звуковые сочетания, которые волновали его музыкальное воображение. Свои таинственные занятия он держал в строжайшем секрете от начальства и товарищей, и уже тогда эти маленькие творческие опыты увлекали его в высочайшей степени.
По выходе из училища Серов продолжал свои практические попытки композиции по-прежнему, но уже, конечно, с большею свободою и без тогдашней таинственности. И по-прежнему он не имел систематических сведений по теории, хотя успел, конечно, с того времени кое-что прочесть и обрел кое-какой навык. Вот как он описывал свои тогдашние опыты:
«..Я иногда сажусь к клавишам, ничего не обдумав предварительно, и перебираю звуки до тех пор, пока появится какая-нибудь мысль; тогда уже пойдет совсем другая игра… фантазируется как нельзя лучше, и иногда вынесу из этого хаоса несколько удачно вылившихся фраз и сейчас замечу их на нотной бумаге. Иногда же, вовсе не подходя к органу, я вдруг сочиню целый мотив, который мне как будто кто-то напевает. Впрочем, чаще одну только первую половину мотива. Вот тебе подробно мой procedé (способ)…» (Письмо к Стасову от 6 – 10 августа 1840 года).
Раз пробудившись, творческая мысль композитора стала постепенно развиваться и скоро сделалась для него источником самых живых наслаждений. При удачных опытах восторг его превосходил всякие границы, и своим восхищением он тогда спешил поделиться с неизменным своим другом, как это видно из многих мест его переписки с г-ном Стасовым. Но, с другой стороны, те же письма показывают, что начавшаяся творческая деятельность становилась по временам для Серова источником весьма горьких и тяжелых ощущений. Дело не обходилось без разочарований, неудач: иногда его одолевали артистические сомнения.
По временам, в минуты такого упадка душевных сил, он начинал сомневаться даже в самом призвании своем. Вот что писал он, например, г-ну Стасову 20 ноября 1840 года:
«…Я все жду вдохновения (по твоему предсказанию), но оно не посещает меня, сенатского чиновника!!! Верно все твои мечты обо мне не сбудутся. Я все еще в смертельном сомнении: scilicet (то есть), требует ли мое душевное расположение постоянных трудов (для которых я не умею найти времени) или его и вовсе нет в моей душе, этого расположения? That is the question! the great question! (Вот в чем вопрос! большой вопрос!) А между тем песок бежит! Иногда мне приходит в голову: с чего ты взял, что я могу быть композитором? Иногда какой-то внутренний голос преубедительно мне нашептывает, что во мне довольно сил – быть всем, чем я пожелаю! Если бы мне какое-нибудь благодетельное существо могло одним разом решить эту задачу, о, как бы я ему был обязан! Иногда мне опять кажется, что разрешить этот вопрос никто в мире, кроме меня самого, не может, и я изнываю в тоске!..»
Однако эта «артистическая» тоска продолжалась обыкновенно недолго. Бодрое расположение духа брало верх над всеми сомнениями, и наш артист снова принимался за работу. «A bas les sombres idées![12]12
Долой мрачные мысли! (фр.)
[Закрыть]» – таким возгласом заканчивает он, между прочим, и вышеприведенное тоскующее письмо.
Такое чередование оживленной бодрости при удачах со следующими за нею неудачами продолжалось довольно долго. Как вдруг, – это было в конце апреля 1841 года, – В. В. Стасов неожиданно получил от Серова такое ликующее письмо:
«Ты, может быть, думаешь, что я по-прежнему ожидаю вдохновения или уже и вовсе перестал ждать его; напротив, я теперь блаженствую, потому что „уста мои разверзлись“. Да, скоро пришлю тебе совершенно изготовленные „Cantique pour Violoncelle“, потом еще маленькую балладу для голоса на слова Гете: „Der Rattenfänger“… потом еще „Une fantaisie en forme de Valse“ pour Violoncelle et Piano, которая еще не совсем обделана… Я вполне был счастлив, когда их писал», и проч.
И вслед за тем молодой композитор «corde tremente» (с бьющимся сердцем), как он выражается, действительно прислал г-ну Стасову балладу «Der Rattenfänger», прося критического отзыва об этом первом своем произведении.
Отзыв г-на Стасова оказался, в общем, весьма благоприятным, и восторг молодого дебютанта был безграничен. «Я полон блаженства», – писал он Стасову в ответ на его рецензию. Затем все существо его наполнилось необыкновенною бодростью и неудержимой жаждой деятельности. В письме от 11 мая 1841 года он писал г-ну Стасову уже так:
«Слава Богу, теперь я на каждый день смотрю как на белый лист, на котором я непременно должен что-нибудь написать, наконец перестал прозябать в каком-то ничтожном бездействии и могу сказать, что каждый час употребляю на должное! Дай Бог только, чтоб мне не пришлось разувериться; но нет: чем больше я наблюдаю за собою, тем более убеждаюсь, что я не могу ничего производить иначе как в области любимого моего искусства».
Надо сказать, что вообще это письмо отличается необыкновенною приподнятостью тона, и в конце дело доходит даже до того, что автор досадует, зачем у него так мало препятствий к достижению его заветных целей: «Даже мне досадно, – говорит он, – что я встречаю слишком мало сопротивлений, что путь мой слишком углажен».
Затем баллада «Der Rattenfänger», а вместе с нею и небольшая «Maylied» («Майская песня»), написанная Серовым около того же времени, были представлены высокому вниманию принца П. Г. Ольденбургского. В качестве основателя и попечителя училища правоведения он являлся как бы естественным покровителем бывших питомцев училища и мог интересоваться дальнейшею судьбою их. Известно также, что он был большой любитель музыки и понимал ее. Что касается Серова, то принц отметил его между другими воспитанниками еще во время пребывания его в училище, и именно за выдающиеся музыкальные способности. Всех этих соображении достаточно, чтобы угадать, как принял принц первые работы нашего молодого дебютанта. К тому же обе вещицы были и в самом деле очень мило написаны. Принц отнесся к ним чрезвычайно благосклонно и простер свою любезность до того, что однажды даже сам принял участие в их исполнении.
Нужно ли говорить о том, в какой восторг привели эти события нашего сангвинического маэстро! Когда он получил известие о таком неожиданном успехе своих первых произведений, то, по собственным его словам, «чуть не сошел с ума от радости». Ликующее письмо, которое тогда получил от него г-н Стасов, осталось документом, свидетельствующим о том восторженном настроении, в каком находился наш композитор. Это письмо само по себе настолько характерно, что мы считаем уместным привести его почти целиком.
«…Получив от отца своего известие, что мои музыкальности были осуществлены голосами принца, гр. Виельгорского и магическими перстами Гензельта, я чуть с ума не сошел от радости. Радость эта совершенно поглотила все мое бытие, и я только мог плакать от умиления. Никогда в жизни я не забуду этих минут! И в самом деле, что за неожиданный успех! Смел ли я думать, когда кропал эти звуки в тиши своей органной комнатки, что они так скоро и так важно осуществятся! Особенно когда я писал «Rattenfänger«'а, у меня никогда и в голове не было, чтобы когда-нибудь добрый наш, милый принц сам пел его! Это, я думаю, превзошло даже и твои ожидания, которые для меня всегда казались несбыточными. При этом успехе, как и при всяком в моей жизни, мне приходит и беспрерывно преследует меня одна мысль: чем я заслужил такое счастие? почему судьба выбирает в свои любимцы людей самых беспечных, рохлей – одним словом, таких, как я?.. Еще сбивает меня с толку одна мысль: я нарочно изучал биографии знаменитостей на поприще изящных искусств и почти всегда видел, что им на пути их жизни беспрерывно встречались препятствия и неудачи. Сравниваю с собой (vous me pardonnez[13]13
Вы меня простите (фр.)
[Закрыть])… и, к крайнему сожалению, вижу, что у меня все идет как по маслу. Я ищу затруднений, преследований и встречаю только удачи и одобрения… Воля твоя, а что-то странно и решительно непонятно. Еще хорошо бы было, если бы человек-то, на которого сыплются такие блага, как истинный, добрый христианин вымаливал их у самого Провидения, – вовсе нет, он чистый эпикуреец и молиться не умеет, а думает, что человек вообще должен молиться только в несчастии, следовательно, ему-то еще ни разу не случалось молиться! Даже благодарить как-то совестно, потому что сам чувствую, что не по заслугам…» (Письмо к Стасову от 5 августа 1841 года).
Нам неизвестно, какое впечатление произвело это письмо в свое время на г-на Стасова. На нас же, знающих подробности дальнейшей жизни молодого энтузиаста, оно производит довольно грустное впечатление и заставляет задуматься. В самом деле, молодой человек называет себя эпикурейцем, досадует, что встречает в жизни вместо препятствий и затруднений одни «только удачи и одобрения». И думается: что, если бы этот ликующий «эпикуреец» смог в то время заглянуть в будущее и увидел, какая тяжелая, полная разочарований, неудач, нужды, поистине трагическая жизнь суждена ему? Написал ли бы он такое письмо, пожалел ли бы он, что жизнь посылает ему слишком мало препятствий и затруднений?.. Но, разумеется, хорошо, что ничего этого он не знал тогда и мог предаваться своему восторгу, не омрачая его перспективою такого печального будущего…
Улеглись первые, самые бурные порывы счастья, так всецело овладевшие душою нашего композитора, но все существо его еще долго оставалось исполненным тихого довольства и даже как бы умиления. Воспользовавшись представившеюся возможностью провести часть лета вне Петербурга, он переехал в начале июля 1841 года в Ревель и зажил там тихою жизнью отдыхающего, довольного своею судьбою человека. После пережитых волнений, хотя и увлекательных, но все же тревожных, это временное затишье казалось ему необыкновенно приятным. Особенно привлекала его теперь природа, располагая к тихому созерцанию, творческой деятельности и мечтам. Вот как описывал он г-ну Стасову свою летнюю жизнь:
«…До сих пор никогда не удавалось мне сообщить тебе впечатления моей ревельской жизни. Не знаю, как на тебя, а на меня природа во всем величии своей простоты оказывает самое благотворное влияние. Я тогда как будто дома, в своем элементе. И для этого чувства мне вовсе не нужны какие-нибудь особенно величественные явления, нет – море, лунный свет, горы и зелень вдали, кое-где признаки бытия человеческого, и я вполне доволен. Заметь, впрочем, пристрастие моей натуры к безмятежному спокойствию ночи: я действительно не люблю шумного дня, несмотря на прелесть его разнообразия. Именно это разнообразие мешает впечатлениям; тогда как в спокойную ночь всякое впечатление получает особенно широкую силу, деспотическую власть, и par réaction[14]14
в ответ (фр.)
[Закрыть] заставляет душу нашу также распростираться по целому объему внешнего мира, обнимать и вмещать в себе самые сокровенные тайны бытия, хотя вовсе безотчетно, и с младенческим умилением прислушиваться к дыханию вселенной! Само собою разумеется, что такое настроение, гармоническое по самому существу, должно быть самым благоприятным для музыки. И – теперь следует факт – я вполне испытал всю производительную силу этих ночных и лунных впечатлений, хотя доказательства этой силы видимо еще не вполне осуществились. Сказать попроще, я в самом деле в прекрасные июльские ночи… набрался, впитал в себя весьма много самых чистых мыслей, из которых только весьма немного успел кое-как набросать на бумагу, прочее все в голове». (Письмо к Стасову от 2 сентября 1841 года).
Оба приведенных письма достаточно обрисовывают тогдашнее настроение и душевное состояние их автора. Не рискуя ошибиться, можно, кажется, признать, что это время было наилучшим во всей жизни нашего композитора. Это был период полного и ничем не омраченного счастья, и мы спешим отметить это обстоятельство, потому что в будущем такие периоды предстояли ему не часто и не часто нам придется отмечать их.
На этом мы могли бы, пожалуй, и окончить настоящую главу; но читатель, может быть, пожелает узнать, как же обстояли в это время служебные дела нашего композитора. В самом деле, как подвигалась служба нашего мечтателя в то время, когда он, упоенный своим счастьем, всецело погрузился в поэтическую атмосферу искусства, красот природы и лунных ночей? Ответ на такой вопрос мы уже дали выше, сказав, что счастье его было полно. Да, оно было полно, то есть, в частности, ему в это время «повезло» и по службе. Именно, в одно время с известием об успехе его первых музыкальных произведений композитор получил из Петербурга уведомление, что, по распоряжению министра юстиции, титулярный советник Серов за отличие (??) переводится из 5-го департамента Сената в департамент министерства. Это составляло заметное повышение по службе.
Что же касается «отличия», упомянутого в приказе о переводе, то мы о нем ничего не можем сказать читателю, потому что и сам Серов о нем ничего не знает и, сообщая эту новость Стасову, после слова «отличие», подобно нам, ставит двойной знак вопроса.