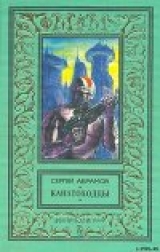
Текст книги "Хождение за три мира"
Автор книги: Сергей Абрамов
Соавторы: Александр Абрамов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Я готов был познать себя во всей совокупности измерений, фаз и координат, но Ольге не сказал об этом, сообщив лишь в кратких чертах о своей беседе с учеными и обещав подробнее рассказать все на следующий день. То был день ее рождения, который мы обычно проводили вдвоем, но на этот раз я пригласил гостей – Галю и Кленова. Очень хотелось позвать и Заргарьяна с Никодимовым, как виновников неожиданного, если не сказать – чудесного в моей жизни, и я даже намекнул им об этом по выходе из ресторана, но Павел Никитич или не выслушал меня внимательно, или не понял по рассеянности, а Заргарьян шепнул конфиденциально:
– Оставьте. Все равно не придет: бирюк, сам признается. А я подойду, когда вырвусь; может, попозже. Ведь мы еще не закончили нашего разговора, – подчеркнул он не без лукавства, – о самопознании, а?
Он действительно приехал позже всех, когда разговор за столом уже превратился в спор, яростный до хрипоты и упрямый до невежливости, когда забываешь буквально обо всем, кроме своих собственных выкриков.
Мой рассказ о пережитом во время опыта и о последующей беседе с учеными произвел впечатление маниакального бреда. Кленов промычал неопределенно:
– Н-да…
И замолчал. А Галя, покрасневшая, с сердитыми искорками в глазах, возбужденно воскликнула:
– Не верю!
– Чему?
– Ничему! Лажа какая-то, как говорят ребята у меня в лаборатории. Авантюра. Тебя просто мистифицируют.
– А зачем его мистифицировать? – отозвался Кленов. – С какой целью? И потом, Никодимов и Заргарьян не рвачи и не прожектеры. Добро бы рекламы хотели, а то ведь молчать требуют. Не те это имена, чтобы допустить даже тень мысли о квазинаучной авантюре.
– Все новое в науке, все открытия подготовлены опытом прошлого, – горячилась Галя. – А в чем ты видишь здесь этот опыт?
– Часто новое опровергает прошлое.
– Разные бывают опровержения.
– Точно. Эйнштейну тоже вначале не верили: еще бы – Ньютона опроверг!
Ольга упорно молчала, не вмешиваясь в спор, пока на это не обратила внимания Галя:
– А ты что молчишь?
– Боюсь.
– Кого?
– Вы спорите о каких-то абстрактных понятиях, а Сергей непосредственно участвовал в опыте. И, как я понимаю, на этом не остановится. А если правда все, что он рассказывает, то едва ли это выдержит мозг обыкновенного человека.
– А ты так уверена, что я обыкновенный человек? – пошутил я.
Но она не приняла шутки, даже не ответила. Разговором опять завладели Кленов и Галя. Я должен был ответить на добрый десяток вопросов, снова повторив рассказ о виденном и пережитом в лаборатории Фауста.
– Если Никодимов докажет свою гипотезу, – сдалась наконец Галя, – то это будет переворот в физике. Величайший переворот в нашем познании мира. Если докажет, конечно, – прибавила она упрямо. – Опыт Сергея еще не доказательство.
– А меня другое интересует, – задумчиво сказал Кленов. – Если принять априори верность гипотезы, то сейчас же возникает другой, не менее важный вопрос: как развивалась жизнь каждой пространственной фазы? Почему они подобны? Я говорю не о физическом, а о социальном их облике. Почему в каждом перевоплощении Сергея Москва – это Москва нынешняя, послевоенная, столица СССР, а не царской России? Ведь если гипотеза Никодимова будет доказана, вы понимаете, о чем прежде всего спросят на Западе? Спросят политики, историки, попы, журналисты. Обязательно ли подобно во всех мирах их общественное лицо? Обязательно ли одинаково их историческое развитие?
– Никодимов говорил и о мирах с другим течением времени, может быть, даже со встречным временем. Теоретически можно попасть и к неандертальцам, и на первый земной звездолет.
– Я не об этом, – отмахнулся нетерпеливо Кленов. – Как ни гениально было бы открытие Заргарьяна и Никодимова, оно не снимает всей важности вопроса о социальном облике каждого мира. Для марксистской науки все ясно: физическое подобие предполагает и социальное подобие. Везде развитие производительных сил определяет и характер производственных отношений. Но ты представляешь себе, что запоют певцы личностей и случайностей? Варвары могли не дойти до Рима, а татары до Калки. Вашингтон мог проиграть войну за независимость США, а Наполеон выиграть битву при Ватерлоо. Лютер мог не стать главой Реформации, а Эйнштейн не открыть теории относительности. У Брэдбери эта зависимость исторического развития от нелепой случайности доведена до абсурда. Путешественник во времени случайно давит какую-то бабочку в Юрском периоде, и вот уже меняется картина президентских выборов в США: вместо прогрессиста и радикала выбирают президентом фашиста и мракобеса. Мы-то знаем, что Голдуотера все равно не избрали бы, даже если в Юрском периоде передавили сразу всех динозавров. А победи Наполеон при Ватерлоо, его разгромили бы где-нибудь под Льежем. И вместо Лютера кто-нибудь возглавил бы Реформацию, и, не будь Эйнштейна, кто-то все равно открыл бы теорию относительности. Даже не поднявшийся до высот исторического материализма Белинский более ста лет назад писал, что и в природе, и в истории владычествует не слепой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость.
Кленов говорил с той же профессиональной назидательностью лектора, которая меня так раздражала на редакционных «летучках», и чисто из духа противоречия я возразил:
– Ну, а представь себе, что в каком-то соседнем мире не было Гитлера? Не родился. Была бы тогда война или нет?
– Сам не можешь ответить? А Геринг, Гесс, Геббельс, Рем, Штрассер, наконец? Уж кому-нибудь Крупны бы передали дирижерскую палочку. И я вижу твою великую миссию. Сережка, – ты не смейся; именно великую, – не только в том, чтобы доказать гипотезу Никодимова, но и в том, чтобы закрепить позиции марксистского понимания истории. Что везде и всегда при одинаковых условиях жизни на нашей планете, во всех ее изменениях, фазах или как вы там их называете, классовая борьба всегда определяла и определяет развитие общества, пока оно не стало бесклассовым.
В этот момент и появился Заргарьян с хризантемами в целлофане. И десяти минут не прошло, как он покорил и Ольгу и Галю, а профессорская назидательность Кленова сменилась почтительным вниманием первокурсника.
Он сразу перехватил нить разговора, рассказал о предполагаемых нобелевских лауреатах, о своей недавней поездке в Лондон, перебросился с Галей замечаниями о будущем лазерной техники, а с Ольгой о роли гипноза в педиатрии и похвалил статью Кленова в журнале «Наука и жизнь». Но он определенно и, как показалось мне, умышленно отводил разговор от моего участия в их научном эксперименте. А когда часы пробили одиннадцать, он поймал мой недоуменный взгляд и сказал с присущей ему усмешечкой:
– Я ведь знаю, о чем вы думаете. Почему Заргарьян молчит об эксперименте? Угадал? Да просто потому, милый, что не хотелось сразу уходить. После того что я сейчас вам скажу, уже никакой разговор невозможен. Заинтриговал? – засмеялся он. – А ведь все очень ясно: завтра мы предполагаем поставить новый опыт и просим вас об участии.
– Я готов, – повторил я то, что уже сказал им вчера в ресторане.
– Не торопитесь, – остановил меня Заргарьян, и в голосе его уже появилась знакомая мне серьезность, даже взволнованность. – Новый опыт более длителен, чем предыдущий. Может быть, это несколько часов; может быть, сутки… Во-вторых, опыт рассчитан на более удаленные фазы. Я говорю «удаленные» только для того, чтобы остаться в границах понятного. Речь едва ли идет о расстояниях, тем более что определить их мы не можем, да и то, что под этим подразумевается, для активности биотоков не имеет значения: распространение излучения практически мгновенно и не зависит ни от пространственного расположения фаз, ни от знака поля. И я должен честно предупредить вас, что мы не знаем степени риска.
– Значит, это опасно? – спросила Галя.
Ольга ни о чем не спросила, только зрачки ее словно стали чуточку больше.
– Я не могу определенно ответить на это. – Заргарьян, казалось, не хотел ничего утаивать от меня. – При неточной наводке наш преобразователь может потерять контроль над совмещенным биополем. Каковы будут последствия для испытуемого, мы не знаем. Теперь представьте себе другое: в этом мире он без сознания, в другом оно придано человеку, допустим летящему в это время на самолете. Что будет с сознанием в случае авиакатастрофы, мы тоже не знаем; успеет ли преобразователь переключить биополе, переключится ли оно или просто погибнут два человека и в том мире, и в этом.
Ответом Заргарьяну было молчание. Он поднялся и резюмировал:
– Я уже говорил вам, что после моего заявления светский разговор исключается. Вы свободны, Сергей Николаевич, в своем решении. Я заеду за вами утром и с уважением выслушаю его, даже если это будет отказ.
Мы проводили его в молчании, в молчании вернулись и долго не начинали разговора, пока наконец Галя не спросила меня в упор:
– Ты, вероятно, ждешь от меня совета?
Я молча пожал плечами: какое значение могли иметь ее «да» или «нет»?
– Я уже поверила в этот бред. Представь себе – поверила. И если бы я годилась на это, если бы мне предложили, как тебе… я бы не задумывалась над ответом. А советовать… Что ж, пусть Ольга советует.
– Я не буду отговаривать тебя, Сергей, – сказала Ольга. – Сам решай.
Я все еще молчал, не отводя глаз от пустого бокала. Ждал, что скажет Кленов.
– Интересно, – вдруг проговорил он, ни к кому не обращаясь, – раздумывал ли Гагарин, когда ему предложили первым вылететь в космос?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА
Нам мало всего шара земного, нам мало определенного времени,
У меня будут тысячи шаров земных и все время.
Уолт Уитмен. «Песня радостей»
Но, глядя в даль с ее миражем сизым,
Как высшую хочу я благодать —
Одним глазком взглянуть на коммунизм!..
Илья Сельвинский. «Сонет»
ЭКСПЕРИМЕНТ
Заргарьян заехал за мной утром, когда Ольга еще не ушла на работу. Мы оба встали раньше, как всегда бывало, когда кто-то из нас уезжал в отпуск или в командировку. Но ощущение необычности, непохожести этого утра на все предыдущие туманило и окна, и небо, и душу. Мы умышленно не говорили о предстоящем, привычно перебрасываясь стертыми пятачками междометий и восклицаний. Я все искал пропавшую куда-то зубную щетку, а Ольга никак не могла добиться надлежащей температуры воды от душевого смесителя.
– То горячо, то холодно. Подкрути.
Я подкручивал, но у меня тоже не получалось.
– Волнуешься?
– Ни капельки.
– А я боюсь.
– Ну и зря. Ничего же не случилось тогда. Просидел два часа в кресле, и все. Заснул и проснулся. Даже голова потом не болела.
– Ты же знаешь, что сейчас – это не два часа. Может быть, десять; может быть, сутки. Опыт длительный. Даже не понимаю, как его разрешили.
– Если разрешили – значит, все в порядке. Можешь не сомневаться.
– А я сомневаюсь. – Голос ее зазвенел на высокой ноте. – Прежде всего, как врач сомневаюсь. Сутки без сознания. Без врача…
– Почему без врача? – перебил я ее. – У Заргарьяна, помимо его специального, и медицинское образование. И датчиков до черта. Все под контролем: и давление, и сердце, и дыхание. Чего же еще?
У нее подозрительно заблестели глаза.
– Вдруг не вернешься…
– Откуда?
– А ты знаешь откуда? Сам ничего не знаешь. Какое-то перемещающееся биополе. Миры. Блуждающее сознание. Даже подумать страшно.
– А ты не думай. Летают же люди на самолетах. Тоже страшно, а летают. И никто не волнуется.
У нее задрожали губы, полотенце выскользнуло из рук и упало на пол. Я даже обрадовался, что зазвонил телефон и я мог избежать развития опасной темы.
Звонила Галя. Она хотела заехать к нам, но боялась, что не успеет.
– Заргарьяна еще нет?
– Пока нет. Ждем.
– Как настроение?
– Не бардзо, Ольга плачет.
– Ну и глупо. Я бы радовалась на ее месте: человек на подвиг идет!
– Давай без пафоса, Галка.
– А что? Так и оценят, когда можно будет. Не иначе! Прыжок в будущее. Даже голова кружится при мысли о такой возможности.
– Почему в будущее? – засмеялся я. Мне захотелось ее подразнить. – А вдруг в какой-нибудь Юрский период? К птеродактилям!
– Не говори глупостей, – отрезала Галя: Фома неверующий уже превратился в фанатика. – Это не предполагается.
– Человек предполагает, бог располагает. Ну, скажем, не бог, а случай.
– А ты чему учился на факультете журналистики? Тоже мне марксист!
– Деточка, – взмолился я, – не принуждай меня каяться сейчас в политических ошибках. Покаюсь по возвращении.
Она рассмеялась, словно речь шла о поездке на дачу.
– Ни пуха ни пера. Привези сувенир.
– Интересно, какой я ей привезу сувенир – коготь птеродактиля или зуб динозавра? – сказал я Кленову, который уже сидел за нашим утренним кофе.
Я был тронут: он не поленился прийти проводить меня в мое не совсем обычное путешествие и даже успел успокоить Ольгу. Слезинки в глазах ее испарились.
– На динозавров поглазеть тоже не вредно, – философически заметил Кленов. – Организуешь этакое сафари во времени. Большой шум будет.
Я вздохнул.
– Не будет шума, Кленыч. И сафари не будет. Встретимся с тобой где-нибудь в смежной жизнишке. В кино сходим на «Дитя Монпарнаса». Палинки опять выпьем. Или цуйки.
– Воображения у тебя нет, – рассердился Кленов. – Не в смежную жизнишку тебя посылают. Помнишь, что сказал Заргарьян? Вполне возможны миры и с каким-то другим течением времени. Допустим, оно отстало от нашего. Но не на миллионы же лет! А вдруг всего на полстолетия? Очнешься, а на улице – октябрь семнадцатого.
– А если на столетие?
– Тоже не плохо. В «Современник» пойдешь работать. Выходит же у них какой-нибудь «Современник» с таким направлением? Наверняка. И Чернышевский за столом сидит. Скажешь, неинтересно? И слюнки не текут?
– Текут.
Мы оба захохотали, да так громко, что Ольга воскликнула:
– Мне плакать хочется, а они смеются!
– У нас недостаток хлористого натрия в организме, – сказал Кленов. – Потому и слезные железы пересохли. А женам героев слезы вообще противопоказаны. Давайте лучше коньячку выпьем. А то очутишься в будущем, а там – сухой закон.
От коньячку пришлось отказаться, потому что Заргарьян уже звонил у входной двери. Он выглядел строгим и официальным и за всю дорогу до института не обронил ни слова. Молчал и я. Только тогда, когда он поставил свою «Волгу» в шеренгу ее институтских сестер и мы поднялись по гранитным ступеням к двери, Заргарьян сказал мне, впервые назвав меня по имени, сказал без улыбки и без акцента, каким он всегда кокетничал, когда язвил или посмеивался:
– Не думай, что я боюсь или встревожен. Это Никодимов считает возможным какой-то процент риска: проблема, мол, еще не изучена, опыта маловато. А я считаю, что все сто процентов наши! Уверен в успехе, у-ве-рен! – закричал он на всю окрестную рощицу. – А молчу потому, что перед боем лишнего не говорят. Тебе все ясно, Сережа?
– Все ясно, Рубен.
Мы пожали друг другу руки и опять замолчали до нашего появления в лаборатории. Ничто не изменилось здесь со времени моего первого посещения. Те же мягкие тона пластмасс, золотое поблескивание меди, зеркальность никеля, дымчатая непрозрачность стекловидных экранов, чем-то напоминавших телевизорные, только увеличенные в несколько раз. Мое кресло стояло на обычном месте в паутине цветных проводов, толстых, и тонких, и совсем истонченных, как серебристые паутинки. Западня паука, поджидающего свою жертву. Но кресло, мягкое и уютное, к тому же ласково освещенное из окна вдруг подкравшимся солнцем, не настраивало на тревогу и настороженность. Скорей всего, оно напоминало сердце в путанице кровеносных сосудов. Сердце пока не билось: я еще не сел в кресло.
Никодимов встретил меня в своем накрахмаленном до окаменелости белом халате, все с той же накрахмаленной, жестковатой улыбкой.
– Я должен бы только радоваться тому, что вы согласились на этот рискованный опыт, – сказал он мне после обмена дежурными любезностями, – для меня, как ученого, это может быть последний, решающий шаг к цели. Но я должен просить вас еще раз продумать свое решение, взвесить все «за» и «против», прежде чем начнется самый эксперимент.
– Все уже взвешено, – сказал я.
– Погодите. Взвесим еще раз. Что стимулирует ваше согласие на опыт? Любопытство? Стимул, по правде говоря, не очень-то уважительный.
– А научный интерес?
– У вас его нет.
– Что же влечет журналистов, скажем, в Антарктику или в джунгли? – отпарировал я. – Научного интереса у них тоже нет.
– Значит, любознательность. Согласен. И душок сенсации, в какой-то мере общий для всех газетчиков, пусть даже в лучшем смысле этого слова. Что ж, газетчик Стэнли, ради сенсации поехавший на поиски затерявшегося в Африке Ливингстона, в итоге пожал равноценную славу. Может быть, она и вам кружит голову, не знаю. Представляю, как с вами говорил Рубен, – усмехнулся Никодимов и вдруг продолжил голосом Заргарьяна: – Да ведь это подвиг, еще не виданный в истории науки! Слава миропроходца, равноценная славе первых завоевателей космоса! Я убежден, что он, наверное, так и сказал: миропроходца?
Я искоса взглянул на Заргарьяна. Тот слушал, ничуть не обиженный, даже улыбался. Никодимов перехватил мой взгляд.
– Сказал, конечно. Я так и думал. Бочка меду! А я сейчас добавлю в эту бочку свою ложку дегтя. Я не обещаю вам, милый друг, ни славы миропроходца, ни встречи на Красной площади. Даже подвала в газете не обещаю. В лучшем случае, вы вернетесь домой с запасом острых ощущений и с сознанием, что ваше участие в эксперименте оказалось небесполезным для науки.
– А разве этого мало? – спросил я.
– Смотря для кого. О неоценимости вашего вклада знаем только мы трое. Ваше устное свидетельство о виденном, вернее, только одно это устное свидетельство – еще не доказательство для науки. Всегда найдутся скептики, которые могут объявить и наверняка объявят его выдумкой, а приборов, какие могли бы записать и воспроизвести зрительные образы, возникшие в вашем сознании, – таких приборов, к сожалению, у нас еще нет.
– Возможно и другое доказательство, – сказал Заргарьян.
Никодимов задумался. Я с нетерпением ждал ответа. О каком доказательстве говорил Заргарьян? Все материальные свидетельства моего пребывания в смежных мирах там и остались: и оброненный во время операции зонд, и моя записка в больничном блокноте, и разбитая Мишкина губа. Я же не унес ничего, кроме воспоминаний.
– Я сейчас вам объясню, о чем говорит Рубен, – медленно произнес он, словно взвешивая каждое еще не сказанное слово. – Он имеет в виду возможность вашего проникновения в мир, обогнавший нас во времени и в развитии. Если допустить такую возможность и если вы сумеете ее использовать, то ваше сознание может запечатлеть не только зрительные образы, но и образы абстрактные, скажем, математические. Например, формулу еще неизвестного нам физического закона или уравнение, выражающее в общепринятых математических символах нечто новое для нас в познании окружающего мира. Но все это лишь допущение, гипотеза. Ничем не лучше гадания на кофейной гуще. Мы пробуем переместить ваше сознание куда-то дальше непосредственно граничащих с нашим трехмерным пространством миров, но даже не можем объяснить вам, что значит «дальше». Расстояния в этом измерении отсчитываются не в микронах, не в километрах и не в парсеках. Здесь действует какая-то другая система отсчета, нам пока неизвестная. Самое главное, мы не знаем, чем вы рискуете в этом эксперименте. В первом мы не теряли из виду ваше энергетическое поле, но можно ли поручиться, что мы не потеряем его сейчас? Словом, я не обижусь, если вы скажете: давайте отложим опыт.
Я улыбнулся. Теперь уже Никодимов ждал ответа. Ни одна морщинка его не дрогнула, ни один волосок его длинной поэтической шевелюры не растрепался, ни одна складочка на халате не сморщилась. Как непохожи они с Заргарьяном! Вот уж поистине «стихи и проза, лед и пламень». А пламень за мной уже рвался наружу: громыхнув стулом, Заргарьян встал.
– Ну что ж, давайте отложим… – намеренно помедлил я, лукаво поглядывая на Никодимова, – отложим… все разговоры о риске до конца опыта.
Все, что произошло дальше, уложилось в несколько минут, может быть, даже секунд, не помню. Кресло, шлем, датчики, затемнение, обрывки затухающего разговора о шкалах, видимости, о каких-то цифрах в сопровождении знакомых греческих букв – не то пи, не то пси – и, наконец, беззвучность, тьма и цветной туман, крутящийся вихрем.
ДЕНЬ В ПРОШЛОМ
Вихрь остановился, туман приобрел прозрачность и тускло-серый оттенок скорее весеннего, чем зимнего, утра. Я увидел захламленный двор в лужах, затянутых синеватым ледком, грязно-рыжую корочку уже подтаявшего снега у забора и совсем близко от меня темно-зеленый автофургон. Задние двери его были открыты настежь.
Сильный удар в спину бросил меня на землю. Я упал в лужу, ледок хрустнул, и левый рукав ватника сразу намок.
– Ауфштеен! – крикнули сзади.
Я с трудом поднялся, еле держась на ногах, и не успел даже оглянуться, как новый удар в спину швырнул меня к фургону. Из темной его пасти протянулись чьи-то руки и, подхватив меня, втянули в кузов. Двери позади меня тотчас же захлопнулись, громыхнув тяжелой щеколдой.
Потом я услышал урчание мотора, металлический скрип кузова, хруст льда под колесами автофургона. На повороте меня тряхнуло, ударив головой о скамейку. Я застонал.
И опять знакомые руки протянулись ко мне, подняли и посадили на скамейку. В окружавшей нас полутьме я не мог разглядеть лица человека, сидевшего напротив.
– Держись за доску, – предупредил он. – Дороги у нас дай бог.
– Где мы? – спросил я, как показалось мне, каким-то чужим голосом, глухим и хриплым.
– Известно где. В душегубке. – Сосед потянул носом воздух. – Да нет… Кажись, не пахнет. Значит, на исповедь везут.
– Где мы? – снова спросил я. – Город какой?
– Колпинск город. Райцентр бывший. Глянь в окошко – увидишь.
Я подтянулся к маленькому квадратному окошку без стекол, затянутому тремя железными прутьями. В крохотном проеме мелькнули водокачка, подъездные пути в проломе забора, одноэтажные приземистые домишки, вывеска комиссионного магазина, написанная черной краской по желтой рогожке, голые тополя у обочины замызганного тротуара. Пустынная уличка тянулась долго и неприглядно. Редкие прохожие, казалось, никуда не спешили.
– Вы меня извините, – сказал я своему спутнику, – у меня что-то с памятью.
– Тут не только память – душу выбьют, – живо откликнулся он.
– Ничего не помню. Какой сейчас год, месяц, день… Вы не бойтесь, я не сумасшедший.
– Я уж теперь ничего не боюсь. Да и с психом дело иметь сподручнее, чем с иудой. А год сейчас трудный, сорок третий год. Либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале. Ну, а день помнить незачем: все одно до утра не доживем. Вы в какой камере?
– Не знаю, – сказал я.
– В шестой, должно, быть. Туда вчера сбитого летчика привезли. Прямо из городской больницы. Подлечили и привезли. Не вас ли?
Я промолчал. Теперь вспомнилось, как это было, вернее, как могло быть. В январе сорок третьего года я летел на Большую землю из урочища Скрипкин бор в партизанском краю, в северо-западном Приднепровье. В районе Колпинска нас накрыли немецкие, зенитные батареи. Самолет почти чудом прорвался, долетели благополучно. Но в этой фазе пространства – времени, должно быть, не прорвались. А в городскую больницу, вероятно, привезли не сбитого летчика, а раненого пассажира. А из больницы – в шестую камеру, и оттуда – на «исповедь», как сказал мой спутник. Что он подразумевал под этим, было ясно без уточнения.
Больше мы не разговаривали, и только когда машина остановилась и заскрежетала щеколда на двери, он что-то шепнул мне на ухо, но что, я так и не расслышал, а спросить не успел: он уже спрыгнул на мостовую и, отстранив конвоира, помог мне спуститься. Удар приклада в спину тотчас же отшвырнул его к подъезду. За ним последовал и я. Немецкие солдаты спешили по бокам, визгливо покрикивая:
– Шнель! Шнель!
Нас разделили уже на первом этаже, где моего спутника – лица его я так и не рассмотрел – увели куда-то по коридору, а меня поволокли по лестнице в бельэтаж, именно поволокли, потому что каждый пинок посылал меня в нокдаун. Так продолжалось до комнаты с голубыми обоями, где под стать им восседал за письменным столом тучный блондин с такими же голубыми мальчишескими глазами. Его черный эсэсовский мундир сидел на нем, как школьная курточка, да и сам он походил на растолстевшего школьника с рекламы немецких кондитерских изделий.
– Ви имеет право сесть. Вот здесь. Хир. – И он указал на плюшевое кресло у стола, должно быть заимствованное из реквизита местного городского театра.
Ноги у меня подкашивались, голова кружилась, и я сел, не скрывая удовольствия, что и было тут же замечено.
– Ви совсем выздоравливать. Очень хорошо. А теперь говорить правду. Вархейт! – сказал мальчикоподобный эсэсовец и выжидательно замолчал.
Молчал и я. Страха не было. От страха спасало ощущение иллюзорности, отстраненности всего происходящего. Ведь это случилось не в моей жизни и не со мной, и это хилое, изможденное тело в грязном ватнике и разбитых солдатских ботинках принадлежало не мне, а другому Сергею Громову, живущему в другом времени и пространстве. Так утешали меня физика и логика, а физиология болезненно опровергала их при каждом моем вздохе, при каждом движении. Сейчас это тело было моим и должно было получить все то, что ему предназначалось. Я тревожно спрашивал себя, хватит ли у меня сил, хватит ли воли, выдержки, мужества, внутреннего достоинства, наконец?
В дни войны было легче. Мы все были подготовлены к таким случайностям всей обстановкой военных лет, всем строем тогдашней жизни и быта, всем духом суровой и очень строгой к человеку эпохи. Был готов, вероятно, и Сергей Громов, которого я сменил сейчас в этой комнате. Но готов ли я? На какое-то мгновение мне стало холодно и – боюсь признаться – страшно.
– Ви меня понимать? – спросил эсэсовец.
Я кивнул.
– Вполне.
– Тогда говорить. Вифиль зольдатен эр хат? Столбиков. Иметь в отряде? Зольдатен, партизанен. Сколько?
– Не знаю, – сказал я.
Я не солгал. Я действительно не знал численности всех партизанских соединений, находившихся под командованием Столбикова. Она все время менялась. То какие-то группы уходили в глубокую разведку и по неделям не возвращались, то отряд пополнялся за счет соединений, оперировавших на соседних участках. Кроме того, у моего Столбикова был один состав, а у Столбикова, живущего в этом пространстве – времени, мог быть другой – больше или меньше. Любопытно, если бы я рассказал обо всем, что знал, совпало ли бы это с действительностью, интересовавшей эсэсовца? Судя по знакам отличия, это был оберштурмфюрер.
– Говорить правду, – повторил он строже. – Так есть лучше. Вархейт ист бессер.
– А я и вправду не знаю.
Голубые глаза его заметно побагровели.
– Где ваш документ? Хир! – закричал он и швырнул на стол мой бумажник; я не убежден был, что это мой, но догадывался. – Мы все знать. Аллее.
– Если знаете, зачем спрашиваете? – сказал я спокойно.
Он не успел ответить – зажужжал зуммер полевого телефона у него на столе. С неожиданным для него проворством толстун схватил трубку и вытянулся. Лицо его преобразилось, запечатлев послушание и восторг. Он только поддакивал по-немецки и щелкал каблуками. Потом убрал «мой» бумажник в стол и позвонил.
– Вас уводить сейчас, – сказал он мне. – Кейне цейт. Три часа в камера.
– Он ткнул большим пальцем вниз. – Подумать, вспомнить и опять говорить. Иначе – плохо. Зер шлехт.
Меня отвели в подвал и втолкнули в сарай без окон. Я потрогал стены и пол. Сырой, липкий от плесени камень, на земляном полу жидкая грязь. Ноги меня не держали, но лечь я не рискнул, а сел к стенке на растопыренные пальцы – все-таки суше.
Предоставленная мне отсрочка позволяла надеяться на благополучный исход. Опыт может закончиться, и удачливый Гайд покинет поверженного в грязи Джекиля. Но я тут же устыдился этой мыслишки. И Галя и Кленов, не моргнув, назвали бы меня трусом. Никодимов и Заргарьян не назвали бы, но подумали. Может быть, где-то в глубине души подумала бы об этом и Ольга. Но я, к счастью, подумал раньше. О многом подумал. О том, что я отвечаю уже за двоих – за него и за себя. Как бы он поступил, я догадывался; могу даже сказать – знал. Ведь он – это я, та же частица материи в одной из форм своего существования за гранью наших трех измерений. Случай мог изменить его судьбу, но не характер, не линию поведения. Значит, все ясно: у меня не было выбора, даже права на дезертирство с помощью никодимовского волшебства. Если бы это случилось сейчас, я попросил бы Никодимова вернуть меня обратно в этот сарай.
Должно быть, я заснул здесь, несмотря на сырость и холод, потому что мной овладели сны. Его сны. Усатый Столбиков в папахе, немолодая женщина в ватнике с автоматом через плечо, кромсающая ножом рыжий каравай хлеба, голые ребятишки на берегу пруда в зеленой ряске. Я сразу узнал этот пруд и кривые сосны на берегу и тут же увидел ведущую к этому пруду дорогу меж высоких глинистых откосов. То был мой сон, издавна запомнившийся и всегда непонятный. Теперь я точно знал его происхождение.
Сны сократили мою отсрочку. Мальчишкообразный щекастый эсэсовец вновь затребовал меня к себе. На сей раз он не улыбался.
– Ну? – спросил он, как выстрелил. – Будем говорить?
– Нет, – сказал я.
– Шаде, – протянул он. – Жаль. Положить руку на стол. Пальцы так. – Он показал мне пухлую свою ладонь с растопыренными сардельками-пальцами.
Я повиновался. Не скажу, что без страха, но ведь и к зубному врачу войти порой страшно.
Толстяк вынул из-под стола деревяшку с ручкой, похожую на обыкновенную столярную киянку, и крикнул:
– Руиг!
Деревянный молоток рассчитанно саданул меня по мизинцу. Хрустнула кость, зверская боль пронизала руку до плеча. Я еле удержался, чтобы не вскрикнуть.
– Хо-ро-шо? – спросил он, с удовольствием отчеканивая слоги. – Говорить или нет?
– Нет, – повторил я.
Киянка опять взвилась, но я невольно отдернул руку.
Толстяк засмеялся.
– Рука беречь, лицо не беречь, – сказал он и тем же молотком ударил меня по лицу.
Я потерял сознание и тут же очнулся. Где-то совсем близко разговаривали Никодимов и Заргарьян.
– Нет поля.
– Совсем?
– Да.
– Попробуй другой экран.
– Тоже.
– А если я усилю?
Молчание, потом ответ Заргарьяна:
– Есть. Но очень слабая видимость. Может, он спит?
– Нет. Активизацию гипногенных систем мы зарегистрировали полчаса назад. Потом он проснулся.
– А сейчас?
– Не вижу.
– Усиливаю.
Я не мог вмешаться. Я не чувствовал своего тела. Где оно было? В лабораторном кресле или в камере пыток?
– Есть поле, – сказал Заргарьян.
Я открыл глаза, вернее, приоткрыл их, – даже слабое движение век вызывало острую, пронизывающую боль. Что-то теплое и соленое текло по губам. Руку как будто жгли на костре.








