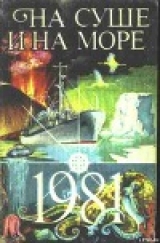
Текст книги "«На суше и на море» - 81. Фантастика"
Автор книги: Сергей Абрамов
Соавторы: Джанни Родари,Герберт В. Франке,Спартак Ахметов,Юрий Шпаков,Анджей Чеховский,Вячеслав Курдицкий
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Вячеслав Курдицкий
МИРАЖИ КАРАКУМОВ
Фантастический рассказ

Раскаты слышим, но не видим лика.
Веды, I тысячелетие до н. э.
Степь походила на огромное расписное блюдо хлебосольного великана, ждущего гостей на пиршество. Она сверкала яркой зеленью, вызывая озорное желание побежать босиком куда глаза глядят. Она дарила многоцветьем розоватого, лилового, палевого, алого, фиолетового. Кое-где поблескивали солнечные пролысинки песка. И на этом фоне особенно заметными были ярко-красные брызги ранних тюльпанов.
– Послушай, – сказал Давид, – тюльпаны только-только начинаются. Не понапрасну ли ты, парень, ноги бьешь? Мое Капище никуда не денется, а вот ты рискуешь пустой номер вытянуть.
– Это почему же? – отозвался Ашир. – Прогулка по весенней степи – разве плохо? А о тюльпанах не беспокойся. Это не простые тюльпаны. Они круглый год цветут.
– Какие же? Золотые, что ли? – иронически усмехнулся Давид.
– Наступит время – и узнаем, – спокойно отозвался Ашир. – Ради этого и идем…
– Ну, пожалуй, ты, а не я, – ворчливо восстановил статус-кво Давид, – у меня дело поважнее. – Он подстегнул хворостиной верблюда. – Шагай, шагай, брат мой голенастый! – Он прислушался к сухому костяному стуку, посмотрел по сторонам и удивленно воскликнул: – Нет, ты погляди, что они вытворяют!
На свободном от травы пятачке, как на ринге, шел черепаший бой. Противники разбегались, сшибались острыми краями панцирей, расползались в разные стороны и опять устремлялись в лобовую атаку. Все это – молча, деловито-сосредоточенно.
– Обычное дело, – заметил Ашир. – Весна. То, что каракалы песни поют в саксаульниках, тебя не удивляет. А черепаха, что, по-твоему, не живое существо?
– Камешки… камешки живые! – вдруг воскликнул Давид. – Гляди, покатились!
Ашир подошел, поднял.
– Это не камешки, а потомки наших дуэлянтов. На ладони Ашира беспокойно сновала игрушечная – с грецкий орех – черепашка. Она не очень-то стремилась прятать голову и лапы: ей хотелось, видно, поскорее очутиться опять на земле. Давид потрогал ее. Панцирь был совсем мягким, потому, наверное, черепашка и не полагалась на его защиту.
– Отпусти кроху, – попросил Давид. – Ишь мелюзга нервничает.
Ашир опустил черепашку на землю, и она вперевалку покатилась в траву – прятаться и наедаться. А верблюд тем временем забрался в сизо-голубые с желтизной заросли янтака и блаженствовал там.
Нежнейшим запахом цветущего кандыма был насыщен воздух. Степная акация развесила черно-фиолетовые соцветия на поникших ветвях – издали одинокое деревце можно было принять за бьющий из бархана причудливый гейзер, замерший на мгновение. Очень далеко, почти у самого горизонта, перемещались две точки. Ашир был убежден, что видит двух всадников – мужчину и женщину. А может, так оно и было: в Каракумах предметы как бы излучают собственный свет и глаз человека обретает способность дальновидения.
– Чудные дела творятся, – вздохнул Ашир. – Сколько ошеломляющей красоты под небом синим, а мы, как кроты, сидим в каменных мешках, радуемся, что вода из крана течет. Вроде и земли на свете нет, лишь камень и гудрон.
– Что, на травку потянуло? – ехидно осведомился Давид. – На подножный, так сказать, корм? Рекомендую отречься от сей ущербной философии.
– При чем тут ущербность? – с досадой прервал его Ашир. – Разве мы не обособились от породившей нас природы? Да что далеко ходить! Помню, мать первые ботинки купила, когда мне десять лет исполнилось: трудно было после войны. Я все норовил надеть их, а прадед сердился: «Босиком ходи, босиком! Родная земля силу свою, дух и соки человеку дает – болеть не будешь, до ста лет доживешь».
– Сам-то он до ста лет дожил?
– До ста девяти.
– Впечатляющий возраст! – кивнул Давид, подумал и добавил менторским тоном: – Все равно мы не можем ждать милостей у природы. Силой должны их взять. Человек покоряет старушку планету, поскольку он венец природы и высший ее продукт. Это, брат, аксиома, а ведь еще и бионикой занимаешься! Шел бы ты в колхозные пасечники. Вывез пчелок на волю – и любуйся себе природой.
– Сухарь ты, Дэви, – сказал Ашир. – Черствый и неинтересный человек.
– Сухарь, – наставительно изрек Давид, – вещь очень нужная, когда деликатесов под рукой нет, и вдобавок – предмет длительного хранения. Держи, кстати, галету. Жуй и молчи! Спорить вы, премудрый царь Ашур, все равно не умеете. Ваши доводы не созвучны духу времени.
– Сказал бы я тебе кое-что, да спорить неохота, – возразил Ашир. – Мергенов и то для тебя не авторитет, когда сядешь на своего конька.
Давид поморщился:
– Зря это ты. Я Мергенова крепко уважаю, он Хрусталеву не чета. Вот посадили цацу на мою шею, а? Какой из него завсектором? – Давид даже руками всплеснул. – Тоже мне, теоретик! Он же электрик, монтер. Ему бы с кусачками по телеграфным столбам лазить, а не сектором руководить!
Ашир невольно улыбнулся, до того каким-то детским было возмущение Давида, который вот уже сколько времени никак не мог ужиться со своим новым завом. При малейшей возможности норовил увильнуть от плановой работы сектора, особенно если экспедиция какая-нибудь подвертывалась. Тут он вообще все запрещенные приемы использовал. Даже если ему в ней совершенно делать было нечего, Давид доказывал обратное. Он брался за любую работу, и потому руководители экспедиций брали его охотно.
А сейчас и вовсе идет на свой страх и риск. Что ему делать в Капище плачущего младенца? Ему своей темой заниматься надо, он же чертовски способен. Ведь его реферат о кольцевом принципе «магических чисел» в сверхтяжелых ядрах вызвал настоящую сенсацию на сессии Академии наук Туркмении.
– Дай еще галету, умник, – сказал Ашир.
– Кушай, детка, кушай, – ласково отозвался Давид. – Может, и ты малость поумнеешь. Я тебе две галеты дам.
– Что ты шипишь на всех, как кобра? Вот и Хрусталев не хорош. А он вполне деловой зав: работу поставить умеет, художества твои терпит; разве мало этого?
– Ладно, маэстро, кончайте треп и прибавьте шагу. Наше жвачное животное забрело черт знает куда, а идти нам еще миль восемь с гаком, пока до твоих загадочных цветов доберемся.
– Кстати… – Голос Давида приобрел нотки заинтересованности. – Кстати, не можешь ли объяснить популярно, что заинтересовало бионику в этих тюльпанах?
– Тут найдется дело не только бионике, но и физике, – ответил Ашир, – и еще, не знаю каким, наукам.
– И ты надеешься в одиночку… – Давид как-то странно посмотрел на своего спутника. – Ну, хорошо, я, скажем, отправился в этот незаконный вояж из-за того, что поговорил с Хрусталевым очень уж крепко. Ну а ты-то почему?
Что ответить? Ашир и сам не знал, почему пришло такое неожиданное решение. Ведь экспедиция со всем необходимым оборудованием вот-вот отправится исследовать этот недавно обнаруженный загадочный феномен. Ашир и сам боялся себе признаться, что хотел стать первым, кто разгадает тайну.
И вдруг ни с того ни с сего слезы потекли по лицу Ашира, непонятная тоска сжала сердце.
А Давид вдруг озлился:
– Эй, друг, я тебя очень звал с собой, да? Я прямо на колени падал и умолял, да? Мы мирно шли своей дорогой – мой верблюд и я. Мы никого не задевали, никому ничего не обещали, просто в Капище шли. Так какого черта прицепился ты к нам со своими дурацкими тюльпанами? И соглядатай нам не нужен, понял?!
Что-то странное творилось с Давидом. Лицо его исказилось, голос то и дело срывался, пальцы скрючились. Он фыркнул, как раздраженный барханный кот, и неожиданно расхохотался. Он хохотал взахлеб, раскачивался и сгибался, хватался за голову и живот, стонал и охал по-бабьи.
Ашир глядел на Давида и чувствовал, как поднимается из глубин подсознания желание захохотать. Неудержимое, будто лавина. И он боролся с ним, сопротивлялся, сколько хватало сил.
Это походило на сон во сне. Что-то тревожное и зовущее шелестело, извивалось неподалеку; тонкой, липкой и холодной паутинкой раздвоенного змеиного язычка касалось губ, носа, подбородка; уползало в кусты эфедры, похожей на доисторический хвощ, в сизо-бирюзовую нежность янтака, к далеким застывшим черно-фиолетовым «гейзерам» сюзена. И буквально на глазах потухала, меркла неистовая светоносность пустыни. Она сменялась бесшумно колышащейся дымкой то ли муара, то ли выродившегося в черно-белые цвета северного сияния…
Они прошли немного в том направлении, куда побрел верблюд, увидели, что он остановился, спокойно пасется, и остановились тоже. Им было неловко друг перед другом за недавнее. Они словно постыдное что-то совершили, хотя ни тот, ни другой не смогли бы внятно объяснить, что, собственно, произошло. Будто на несколько минут стали они марионетками, подвластными чужой воле. Но чьей? В пустыне не было ни души.
Не сговариваясь, они стали развьючивать верблюда, спутали ему ноги, чтобы не ушел далеко. Палатку разбивать не стали. Но апрельские ночи в Каракумах свежи, и они натянули наклонный отражательный полог. Теперь тепло костра обвевало их ложе.
Наспех поев, оба разом уснули. А когда очнулись от забытья, в воздухе с мягким, вкрадчивым шелестом реяли духи ночи – большие летучие мыши. Где-то далеко-далеко повторял свою безнадежную, безответную мольбу ночной кулик-авдотка. Неуютно и зябко было от этого крика – казалось, сама ночь, сама земля взывает к человеческому милосердию.
– Чего он душу рвет, глазастик! – негромко подосадовал Давид. – Тоскует о райском блаженстве? Да и то сказать: щедры ли мы лаской к братьям нашим меньшим? Человек, сказано, царь природы – верно, царь! И отношение царское: бери, что душе угодно, а там – хоть трава не расти.
– Она и не будет расти, – отозвался Ашир. – Вчера ты говорил нечто другое. Я тогда не стал спорить, приводить факты. А сейчас скажу. Видел мертвую полосу, что мы в начале пути миновали?
– След дэва Харута, что ли?
– Страшнее. Реальнее и потому страшнее. Это буровую вышку тягачи на новое место перетаскивали, сорвали поверхностный слой почвы. А без гумуса, как известно, не могут расти ни травы, ни злаки, ни прочая зелень. А чтобы этот слой восстановить в условиях пустыни, лет триста, а то и больше нужно.
– Значит, царствуем – рубим сук, на коем сидим? – горько усмехнулся Давид.
– Я верю, – сказал Ашир, – что сук этот все-таки не срубим.
– А если я тамариска и саксаула для костра наломаю, не будет глобальной катастрофы?
Похоже, Давид обрел прежнюю форму, раз сел на любимого конька, и Ашир обрадовался этому:
– Ломай уж! – махнул он рукой. – Ломай, гунн, круши, вандал!.. Я ведь тоже мечтаю о глотке обжигающего кок-чая.
В ночи горели и мерцали «земные звезды». Они плыли над скелетиками кустов, зеленовато-голубые джейраньи глаза. Всеми переливами красок играл в саксаульнике барханный кот манул. Яркими рубинами светил геккон. А всех богаче и красивее был тарантул – обладатель восьми ярчайших изумрудов. Все это подтвердилось утром. Обнаружились аккуратные дорожки из листьев сирени – следы джейранов, растопырки барханного кота и останки скорпионов, фаланг, тарантулов: кот манул охотился за ними ночью. Нашелся и окоченелый трупик маленького геккончика, убитого свирепым тарантулом. Но это – утром. А пока стояла ночь.
– Ашир, – жалобно протянул Давид, – неужели ты меня пустишь одного к этим чудовищам?! Неужели ты сможешь сидеть спокойно и слушать, как хрустят кости твоего товарища? Нет, не верю, что в тебе не сохранилось ни грамма человечности!
– Сохранилось, не канючь, – проворчал Ашир. – Фонарик только возьми, а то ничего не увидим во мраке.
Все-таки сидеть у огонька было куда приятнее, нежели впотьмах. Выспавшись, они наслаждались чаем, светом, теплом.
Не боясь костра, ныряли к огню летучие мыши – ловили мелкую ночную живность, привороженную древними чарами огня.
– Слышишь, как пищат? – спросил Давид.
– Кто?
– Нетопыри.
– Смеешься ты, что ли? У них же ультразвук, с сорока пяти килогерц начинается. А предел человеческого слуха – чуть за двадцать.
– Это я и без тебя знаю, а мышей все равно слышу.
Грустное, тягучее кошачье мяуканье медленно проплыло над их головами. Ашир задумчиво сказал:
– В детстве я твердо верил, что это кошки по ночам летают: ловят мышей летучих. Потом уж узнал, что козодой иногда так кричит. А-а, привет, приятель!
В круге света стоял забавный ушастый еж на тонких и высоких лапках, напряженно шевелил блестящим, как антрацит, рыльцем, принюхивался. Мимо пробежала не боящаяся никого на свете свирепая жужелица-скарит. Но еж проглотил ее и пошел дальше, принюхиваясь.
– Добрая собака, – сказал Ашир.
– Где? – не понял Давид.
– Еж! По древним поверьям огнепоклонников, он к добрым собакам относится.
– Есть и злые?
– Как же без злых? Это наши давешние панцирные бойцы.
– Черепахи?
– Они самые. По преданию, творение злого бога Аримана. Но я слышал и более поэтичную легенду. О красавице Зохре, которая за любовь к дэву Харуту и за недоброе сердце была превращена аллахом в черепаху.

– Да-а-а, – потянул Давид после паузы. – Может, сообразим по рюмочке чайку?
Давид повозился среди вьючной поклажи, чертыхнулся пару раз и вылез с бутылкой коньяка и пластмассовыми неаппетитными стаканчиками.
– Рюмочки-то подкачали, – посетовал он, наливая.
– Ничего, – бодро сказал Ашир и, поперхнувшись, долго кашлял.
От коньяка приятные, теплые волны расходились по телу, и Ашира охватила раскованность, эдакое блаженное сознание собственной значимости. Он первый заглянет внутрь чудесного цветка, и его имя будет навсегда связано с раскрытием жгучей загадки.
Нетопыри перестали летать, зато к костру сползлись разнокалиберные насекомые пустыни. Мелькали мохнатые бражники, толстые и красивые; чернотелки уткнулись головами в песок, словно молились огню; изящно покачивались богомолы, прижимая к груди шипастые хватательные конечности. Даже верблюд подошел и время от времени шумно сопел.
– Вали отсюда, – желчно сказал ему Давид и швырнул маленькой, но каменно тяжелой саксаулиной. – Сопит тут, ну прямо как Хрусталев.
Верблюд обиделся и ушел переваривать жвачку. В освещенном пространстве бесшумно, как призрак, возник тушканчик, испуганно подпрыгнул без малого на метр, поймал маленькими ладошками бражника и растворился во тьме.
Проснулись они рано, как только стало розоветь на востоке. И звезда путеводная там сияла – Венера. А по-местному – Зохре. Та самая, которую аллах в черепаху превратил. Давид пошел ловить верблюда, ускакавшего на спутанных ногах в колючки. Ашир принялся готовить завтрак.
После завтрака они достали карту-трехверстку, сверили с ней кроки и решили, что уклонились от азимута. Ошибка была поправимой: прибавлялись два-три лишних километра.
Сперва все шло как надо. Ашир посматривал по сторонам и радовался хорошему утру. Давид временами бросал взгляд на компас.
– Ходил кто-нибудь этим маршрутом? – осведомился Ашир.
– А кроки господь бог составлял? – вопросом на вопрос ответил Давид.
– Главная экспедиция Мергенова этой дорогой пойдет? – не унимался Ашир.
– Нет, путь Мергенова более долгий и кружной. А наш маршрут напрямую, вроде самолетной трассы.
– А как кроки от Мергенова попали к нам?
Давид этот вопрос не удостоил ответом. Но ответа и не требовалось. Ашир и сам знал, что кроки добыты незаконно, чтобы спокойно день-два повозиться в Капище. Одно дело в одиночку исследовать, совсем другое, когда в одном месте человек двадцать локтями толкаются.
Между тем зловредный верблюд опять сбился с пути истинного. Его постоянно тянуло севернее. Они помчались вдогонку. Верблюд заметил опасность и пустился неторопливой иноходью, сразу увеличив расстояние между собой и преследователями. Все это было весьма некстати. К счастью, строптивый «корабль пустыни», описав широкую дугу, остановился, привлеченный видом цветущего янтака. Тут он и был изловлен, нещадно отруган, и после необходимой передышки экспедиция возобновилась.
Дорогу им пересекла неуклюжая черепаха. Придавленная широкой верблюжьей ступней, она замерла, а через несколько секунд как ни в чем не бывало поползла дальше.
– Поразительная неуязвимость! – восхитился Давид.
– У нее есть инстинкт, есть и немалый опыт, – снисходительно пояснил Ашир. – Видишь, как избит ее панцирь? Она достаточно стара.
Черепаха свалилась с камня, куда карабкалась с упорством, достойным лучшего применения, и теперь лежала на спине, беспомощно размахивая лапами. Ашир помог ей перевернуться.
– Да, – сказал он глубокомысленно. – Опыт, конечно, увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости.
– Это твое собственное изречение? – недоверчиво спросил Давид.
– Нет, что ты. А разве важно, кто сказал? Суть в том, что сказано.
– Может, ты и прав, – задумчиво покивал Давид. – Вот и пифагорейцы, скажем… Прикрываясь авторитетом Аристотеля, они утверждали мистическую первопричину чисел, «музыку сфер» и прочее. Ты же не станешь повторять подобную нелепость?
– Почему же не стану? – пожал плечами Ашир. – Конечно, не слова Аристотеля о том, что жираф – это плод «незаконной любви» пантеры и верблюда… Видишь ли, ортодоксальной науке свойственны крайности. Мы всегда торопимся предавать анафеме, а потом канонизировать. Вспомни хотя бы Винера, Менделя, Джинса.
– Одно лишь досадно: многие истины переходят в разряд азбучных крайне небезболезненно, – оживился Давид.
Верблюд категорически отказывался идти дальше. Ашир тянул его за недоуздок, а Давид играл роль толкача, но ничего не помогало. Верблюд задирал морду, тихо рычал, скалился, скрипел зубами, перемалывал обильную желто-зеленую пену, и пятился. В его больших печальных глазах, опушенных изумительной красоты ресницами, тлели недоумение и ужас.
– Трогай, саврасушка, – льстивым голосом уговаривал Давид. – Трогай, милый… кормилец горбатый. У-у, паразит несознательный!
– Погоди, – сказал наконец Ашир. – Мне кажется, он здорово напуган чем-то. Но чего ему бояться?
– Спроси, – посоветовал Давид, утирая пот со лба.
Ашир осторожно пошел вперед, посматривая по сторонам и под ноги. Вдруг острая волна омерзительно неприятного ощущения возникла в желудке, толчками поднялась к горлу, мутя рассудок. Он поспешно отступил, с трудом приходя в себя.
– Слушай, Дэв! Какой-то недотепа поставил здесь без отметки импульсный многопрограммный эмиттер!
Все стало ясно и просто; вчерашнее состояние получало реальное объяснение. Эмиттер – вот где собака зарыта!
– Да, да, мы нарвались на низкочастотные излучатели. Потому и верблюд кругаля давал, вместо того чтобы прямо идти. Но почему здесь поставили эмиттеры, и без обязательных маяков? Похоже, они оконтуривают нечто скрытое от наших глаз, а? Ты понимаешь что-нибудь, Дэв?
– Кажется, да, – не сразу ответил Давид. – Теперь понятно, почему Мергенов окольный путь для экспедиции избрал. А я, как распоследний тупица, напрямик попер. Перехитрил, называется! Вот же виднеется урочище Геокдженгель. Там и стоит зиккурат, то бишь Капище плачущего младенца. Посторонним тут делать нечего. Потому и эмиттеры установили.
– Угу… – пробормотал Ашир. – Благодарю за объяснение. Что будем делать? Назад возвращаться? Неспроста ты Ваньку поминал.
– Какого еще Ваньку?
– Ну, парня. Который понапрасну ноги бьет.
– А-а… это да. Было.
– Коли было, так ищи выход.
– Может, попытаться нейтрализовать излучение? – нерешительно спросил Давид.
– Что же, идея, – сказал Ашир. – Но где взять экранирующую металлическую сетку?
– Кабы знать, – посетовал Давид, – прихватил бы. А если выключить эмиттер?
– Чем? Пальцем или магическим заклинанием?
– Заклинанием. Должен же существовать код для дистанционного управления.
– Должен. Но где генератор для подачи сигнала? Заклятием «Сезам, отворись!» тут не обойдешься.
– Придется ждать прихода экспедиции, – покорно сказал Давид. И вдруг радостно воскликнул:– Есть выход! Эврика! Эмиттер-то импульсный – излучает дискретно!
– Давай дальше, – поощрил его Ашир.
– Период излучения известен?
– Молодец, – сказал Ашир. – Варит котелок. Предлагаешь в паузу проскочить?
– Точно!
– А если она короткая? Мы же тип эмиттера не знаем.
– На верблюде проскочим! Он, дьявол, быстро бегает, только разогнать его надо.
– Прямо на вьюки сядем? – усомнился Ашир. – Тяжеленько.
– Зачем же? У меня есть километра два капронового шнура. Расчленим вьюк и потом частями спокойненько перетащим. Лепесток излучения, полагаю, не слишком велик?
– Голова у тебя, однако… – протянул Ашир. – Остается определить начало и конец периодов.
– Это просто: бери секундомер и засекай.
– Секундомер без подопытного кролика не поможет.
– Я буду кроликом, – бодро заверил его Давид. – Во всяком случае, это справедливо: не ты, а я заварил кашу.
В урочище было влажно и тепло, как в оранжерее. И растительность – богатейшая! Все видовое разнообразие цветущих Каракумов и субтропиков Туркмении. Местность эта по праву носила название Геокдженгель – Зеленые заросли. Здесь обитал даже селин, хотя каждому ботанику известно, что сей парадоксальный злак в процессе эволюции обособился до предела – требовал, чтобы его обязательно время от времени заносили подвижные пески. То, что для других ксерофитов стало необходимым, было гибельно для него.
Тюльпаны они разыскали не сразу.
Конечно, Ашир знал все, что можно было узнать о странном растении. Знал, что цветок представляет собой точный параболоид. Однако, когда увидел все изящество математически строгих линий тюльпана, долго стоял зачарованный. «Для чего природе понадобилась такая форма кристалла? – пытался понять Ашир. – Каков смысл и место кристалла в мире растений?…»
Чашечки цветов были точно ориентированы на солнце и совмещались с его суточным движением как прецезионный часовой механизм, невольно заставляя думать о вещах и явлениях, никакого отношения к миру растений не имеющих. Внутри некоторых чашечек накопились холмики странной пыли. Ашир вытрясал ее в конвертики, осторожно наклоняя тюльпаны. Из одной вдруг выпало какое-то погибшее насекомое. Значит, это не пыль, а скорее пепел?
Подумав немного, Ашир достал термометр – самый большой, на пятьсот градусов – и стал медленно ощупывать его серебряным клювиком пространство внутри тюльпанной чашечки. Сперва ничего интересного не произошло. Расхождение в несколько градусов было закономерным, поскольку гелиотропизм присущ многим растениям, например полубородатому дельфиниуму, растущему в Средней Азии издавна. Потом серебряная линия на шкале метнулась вверх, сухо треснуло стекло. Тяжелая дымящаяся капля ртути упала в живую чашечку цветка, мгновенно прожгла ее и со свистящим звуком, похожим на предупреждающее шипение гюрзы, закружилась на влажной земле.
Да, шутить с этим цветком не приходилось. Но зачем концентрируется в исчезающе малом объеме тюльпанного параболоида такая сумасшедшая температура? Если у обычных гелиотропитов разница температур внешней среды и полости цветка не превышает восьми – десяти градусов, необходимых для создания микроклимата плодику, то здесь – сколько же? Сколько нужно, чтобы ртуть вскипела мгновенно?
Потрясенный Давид шумно дышал за спиной Ашира, лез помогать, подавал реплики. Когда из недр тюльпана был извлечен настоящий кристалл (не фигуральный!) и со всем тщанием изучен под бинокулярной лупой, он сказал Аширу:
– В полевых условиях эту штуку на зуб не попробуешь. Нужна более солидная аппаратура. В Ашхабаде разберемся.
Тот кивнул, спрятал кристаллик в часовой кармашек и зашпилил булавкой.
…В Капище им повезло меньше. Вероятно, в давние времена зиккурат стоял на поверхности, гордо возвышаясь среди прочих культовых сооружений. Тысячелетия, пронесшиеся над Каракумами, изменили ландшафт, и зиккурат утонул в толще песка. Вход в него находился в самом центре ложбины. Они полезли туда, вооружившись сильным аккумуляторным фонарем и на всякий случай корявой крепкой саксаулиной. Арочный зал был велик, как рыночная площадь. Посередине они увидели бассейн, а на противоположной от входа стороне – галерею.
Свет фонаря терялся в высоте, не достигая потолка. Они вошли в галерею, не гася фонаря и отмечая схему поворотов.
– У тебя нет ощущения, что мы шагаем в обратную сторону? – внезапно спросил Давид.
– Нет, конечно, – с удивлением ответил Ашир. – Я все время схему рисую, это не то, что твои кроки.
– Мои кроки свое дело сделали, – возразил Давид. – Но я готов голову дать на отсечение, что здесь мы уже проходили!
– Гляди, Фома неверующий! Вот мы пошли прямо на восток, потом свернули под углом в тридцать три градуса. Отклонились в обратную сторону на семь градусов. Смотри, смотри сюда, не отклоняй фонарь! Вот спустились на тринадцать ступенек. Еще отклонились на двадцать один градус и опять идем на восток.
– Ладно, – сказал Давид. – Запутался я, старик, в твоих градусах. Да и картограф из тебя неважный.
– Вон свет брезжит впереди, – сказал Ашир. – Сейчас все прояснится, и ты будешь на коленях просить прощения, скептик.
Но прав оказался Давид: они вышли в зал из той же галереи.
– Мистика какая-то, – смущенно пробормотал Ашир.
– Или, по-научному, сеанс массового гипноза.
Они сделали еще несколько попыток обойти все галереи, но неизменно возвращались в арочный зал, к бассейну. Они оставили Капище и вернулись к тюльпанам с датчиками переносного электронного пульта.
– Подойди сюда! – позвал Ашир.
Давид приблизился, держа банку мясных консервов и нож: была его очередь готовить.
Ашир протянул ему крохотную капсулу-наушник:
– Слушай.
В капсуле потрескивало, шуршало, попискивало, бормотали странные голоса. И вдруг возникли звуки, похожие одновременно и на шум моря, и на шелест листвы, и на одинокий плач ветра в барханах, и на быстрый бессвязный шепот, словно молился кто-то, задыхаясь и торопясь, ибо истекало отпущенное ему время. Это была мелодия тревоги и зова, безнадежной тоски и просветленной надежды, мелодия страха и радости. Она, удалившись, затихла, и снова в наушнике забормотали маленькие деревянные язычки.
– Что это? – спросил Давид, нервно сжимая консервную банку.
– Музыка сфер, – ответил Ашир, извлекая из уха капсулу. – Музыка сфер – вот что это.
Весело светило весеннее солнце Каракумов. Ящерка лазала по коленчатым деревянистым кустам кандыма, прыгала с ветки на ветку, как воробей. За ней внимательно следил богомол-эмпуза, и зеркальце на его лбу сверкало, как капелька воды. Вспархивал удод, похожий на большую желто-черную бабочку-махаона, присаживался, суетливо тыкал кривым клювом в землю, глухо, как из-под земли, тутукал, нервно поигрывал раздвоенным хохолком, то раскрывая его, то складывая. Надсадно и стремительно, в темпе проносящихся пожарных машин, гудели в воздухе жуки-бронзовки; суслики свистели у своих нор, как милиционеры на городских перекрестках. Саксаульник напоминал издали застывшие голубоватые клубы дыма, его желтые цветки казались частыми искорками веселого скрытого дымом пламени.
– Что это? – настойчиво повторил Давид.
– Тюльпан поет, – сказал Ашир.
– Сам собой? – Давид выпустил, наконец, банку, и она, упав рядом с ножом на землю, откатилась на несколько шагов.
– Не знаю. Может быть, он – направленная параболическая антенна.
– Значит, мы слышали голос солнца?
– Посмотри, куда направлен параболоид цветка! На эту точку небесной сферы проецируется не солнце, а Альфа Эридана.
– И ты думаешь… – Давид умолк, выжидательно глядя на Ашира.
Тот пожал плечами.
– Ладно, – решился Давид, – тогда и я скажу кое-что. Ты ночью ничего не слышал?
– А что я должен был услышать?… Жаба нежно свистела. Кричал сыч. Звонил в колокольчик сверчок. Еще что?
– Ну, что-нибудь не совсем обычное.
– Вроде бы нет, а ты?
– В Капище ночью плакали.
– Слуховая галлюцинация?
– Вроде бы нет, – сказал Давид нерешительно. – Отчетливо так было слышно. А ну, пойдем-ка…
Возле входа в зиккурат он ткнул пальцем:
– Смотри!
На влажном песке четко отпечаталась детская ступня – маленькая круглая пяточка, круглые выбоинки пальцев. Цепочка следов вела из пещеры в заросли эремурусов, и оба они невольно посмотрели туда, будто ожидали увидеть заплутавшего ребенка. Потом переглянулись.
– Прямо шарады какие-то, – досадливо сказал Давид. – Ну откуда здесь ребенку взяться, скажи на милость? Почему у него только четыре пальца, а не пять? Почему в тюльпане музыка играет, как в «Спидоле»?
– Погоди, погоди, – встрепенулся Ашир. – Четыре пальца, говоришь?
Он быстро присел, рассмотрел следы, выпрямился и негромко рассмеялся:
– Да это же след дикобраза. Ди-ко-бра-за!
И он снисходительно потрепал Давида по плечу.
– Ладно, брось! – Давид был явно смущен таким поворотом «шарады». – Какой дикобраз, если дитя плакало?!
Тьма была непроницаемой, какой-то первозданной, изначальной. И в этой кромешной тьме плакал ребенок. Совсем маленький и совсем беспомощный. Его оставили – и ушли. Пусть его плачет! Пусть детские пальчики хватают пустоту. Но что-то неуловимое, способное быть и добрым, и жестоким находилось рядом, осторожным дуновением-ощупыванием изредка касалось лица, шеи, рук.
А реальность отсутствовала. Загнанная в подсознание, она билась, как муха в паутине, в этом вязком непроницаемом мраке. Но самой определенной реальностью был детский плач! Плач негромкий и унылый, не оставляющий места для надежд, ибо там, за стеной тьмы, за гранью сущего, устали плакать тысячи и тысячи лет… Конечно же, глупее глупого было воспринимать эти звуки в их элементарной модификации. Но так уж устроен человек, что его рассудочность уступает место импульсивности, когда раздается крик о помощи.
– Аши-и-ир!.. – пробился к его сознанию голос Давида, и тьма стала медленно, неохотно отступать. – Где ты, Аши-ир? Отзовись!
Он обрел способность шевелить языком и закричал неистово:
– Здесь я!.. Здесь, Давид, в Капище я-а-а!
И опять совсем рядом заплакал младенец.
– Дави-и-и-ид! – теряя самообладание., закричал Ашир и бросился в темноту.
…Очнулся он на траве, увидел озабоченное лицо Давида. И солнце. Он улыбнулся.
И вдруг он опять вспомнил это ощущение падения в ничто, падение в глухой тишине без начала и конца, когда не знаешь, куда падаешь, вверх или вниз.
– Давид… что это было… там… в Капище?…
– Э-э, дружище, ты свалился в глубокий колодец в лабиринте галерей зиккурата. И если бы не пыль веков на дне его… В общем, считай, что тебе повезло.
Ашир содрогнулся, пошевелил руками, ногами, ощупал себя.
– Цел, цел, – засмеялся Давид, – врач тебя уже осматривал.
– Какой врач?
– Наш, экспедиционный, – Канабаев. Ведь все наши уже здесь – и Мергенов, и Самарин, и Хрусталев, и Майка, и Дурсун… Если б не они, мне бы нипочем тебя не найти…
– Ну и что Мергенов?
– Настроен сурово. Сказал: «Пусть в себя придет, тогда и разговаривать будем с вами обоими». – Давид помрачнел, задумался.
Ашир приподнялся, сел, обхватил колени руками. Поодаль белели палатки, возле них кипела обычная экспедиционная жизнь.








