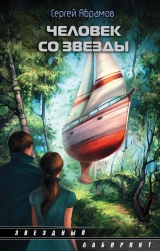
Текст книги "Человек со звезды (сборник)"
Автор книги: Сергей Абрамов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
15
Из соседней комнаты низкая, в половину человеческого роста, дверь вела на черную лестницу. Дядя Матвей чуть задержался, пропуская Пеликана и Игоря, и уже было слышно, как кто-то ломился в парадную дверь, грохотал железом по железу.
– Колька уйдет? – спросил, как ругнулся, Пеликан.
– Колька шустрый… А Сома они не углядят…
Промчались по темному коридорчику, выскочили в большой подвал, заваленный углем.
– На улицу! – крикнул Пеликан, вытаскивая из кармана наган.
И только увидев его в огромной лапище Пеликана, в доли секунды заметив игрушечную малость оружия, даже потертость какую-то, будто им гвозди забивали, Игорь внезапно осознал, что все происходит в действительности, что опасность реальна, что сейчас Пеликан станет стрелять, и дядя Матвей тоже сжимает пистолет – системы Игорь не знал, – понял все это, ожидая привычного за последние дни чувства страха, мерзкого холодка в животе и… не почувствовал ничего. Ничего, кроме ясной и четкой мысли: Лида! И сказал растерянно:
– Лида!
– А-а, черт! – Пеликан остановился, как налетел на какую-то преграду, выругался матерно. Дядя Матвей положил ему руку на плечо:
– Не пори горячку… – Прижав правую руку с пистолетом к груди, неловко как-то он подкрался к двери, чуть приоткрыл ее, приблизил лицо к щели. – Пусто!
Рванул дверь, выскочил наружу, притиснулся спиной к стене. Махнул рукой: давай, мол…
Пеликан вышел следом, встал, не скрываясь.
– Дядя Матвей, Игорь, шпарьте задами. Двор, куда они вышли, узкий тоннель, задавленный с одной стороны глухой кирпичной стеной какого-то здания, а с другой – деревянным, тоже глухим, доска к доске, забором, тянулся метров на тридцать, упираясь опять-таки в стену дома, в деревянную декорацию. Игорь намеренно подумал: «Декорация». В окнах, выходящих с двух этажей в двор-туннель, никого не было, никто не заинтересовался ни шумом, ни топотом, ни даже звероватого вида мужиком с наганом. Лишь в распахнутом окошке на втором этаже полоскалась под ветром ситцевая, в синий горох занавеска да цвел фиолетовым цветом незнакомый Игорю куст в горшке.
Если бежать, так именно через этот дом, в дверь, открытую настежь, в черную пустоту за ней.
– А ты? – Дядя Матвей смотрел на Пеликана и – этого Игорь понять не мог, в голове не укладывалось! – улыбался!
– Девка-дура, ехали бояре!..
Дядя Матвей торопливо сказал Игорю:
– Беги, пацан, бегом беги. Помни: пакет у тебя. Ничего сейчас нет важнее… – И повторил как заклинание: – Беги, беги…
Игорь, поминутно оглядываясь, побежал к дверям деревянного домишки, но на пороге остановился. Что-то держало его, не позволяло так просто взять и помчаться куда глаза глядят, подальше от опасности, от перестрелки, от погони, от всех традиционных атрибутов приключенческого фильма, в который его опрометчиво завела чужая лихая память. Ничего ему, к примеру, не стоило отключиться от нее, оказаться в привычном мирном времени, в своем времени, оставить здесь все как есть – без финала, не решая, каким ему быть.
Своя рука – владыка… Ничего не стоило? В том-то и дело, что цены за такой поступок Игорь не поднял бы, как говорится, не вытянул. И бежать – даже спасая пакет! – он тоже не мог.
Дядя Матвей вслед за Пеликаном тоже одолел забор. Игорь пощупал рубаху: на месте пакет. Поглубже запихнул ее в брюки, расправил складки. Чего ждать?..
Рванул к забору, подтянулся и оказался в переулочке, который, видимо, отходил притоком от Кадашевской улицы. Тихо здесь было, патриархально, трава росла, цветочки у забора – лютики или как их там… Идиллия!
И в это время – впервые! – раздались выстрелы. Уж на что Игорь штатский человек, а смог понять: из разного оружия стреляют. Один оружейный голосок потоньше, позвончее, а второй – грубее, басовитее.
С Кадашевской улицы в переулок на полном ходу свернула извозчичья пролетка. Игорь видел высоко задранную морду коня, пену на губах и выпученный безумный глаз его. На передке во весь рост стоял белоголовый парень в желтой рубахе навыпуск, свободно держал вожжи, размахивал над головой то ли кнутом, то ли просто веревкой. А в самой пролетке, согнувшись, сидел дядя Матвей, своим телом прижимая кого-то к сиденью. Кого?.. Они промчались мимо, не обратив внимания на прижавшегося к забору Игоря. Дядя Матвей приподнял голову – только седая макушка показалась над откинутым кожаным верхом пролетки, – положил на него руку с пистолетом и дважды выстрелил назад. С гиканьем, под выстрелы, влетели в переулок трое конных с шашками наголо, проскакали мимо, чуть не задев Игоря, обдав его горячим ветром погони. Вестерн!..
Но ведь кто-то лежал в пролетке – раненый или убитый? Кто? Лида?..
В вестерне герои не умирают. Они в итоге женятся, получают наследство и танцуют на свадьбе веселую мазурку или кадриль. А здесь стреляли настоящими пулями, и они убивали или ранили, и кровь текла настоящая, красная, горячая…
Игорь, невесть зачем пригибаясь, добежал до Кадашевки и выглянул из-за угла на улицу. То, что он увидел, было неправдоподобным, невероятным, этого просто не могло быть… Он хотел шагнуть, но ноги не слушались. Они стали ватными и неподвижными, вернее, их просто не было. Пришлось ухватиться за холодную шершавую стену дома, чтоб не упасть…
Прямо на мостовой, у подъезда, в который недавно вошел Игорь, лежал, раскинув руки, уткнувшись лицом в булыжник, Пеликан, лежал неподвижно, и черная лужица крови застыла у его головы. А рядом все в том же нелепом брезентовом балахоне, сжимая в кулачке обшарпанный наган Пеликана, стоял старик Леднев. Он стоял, будто вросший в мостовую, над телом Пеликана и смотрел на трех офицериков, на трех новеньких, с иголочки, офицериков, на смеющихся мальчиков из интеллигентных семей, которые, в свою очередь, смотрели на профессора, на этакое брезентовое патлатое чудище и весело смеялись, И вовсю светило солнце, и небо было чистым и высоким, и сверкали на узких офицерских плечиках странные витые серебряные погоны.
Они все еще смеялись, им было весело – остроумным парням, таким же, по сути, как и те, в дальнем-предальнем будущем, в темном дворе у магазинных ящиков. Они не перестали смеяться даже тогда, когда Леднев медленно вытянул руку, удлиненную тонким наганным стволом, когда, прищурившись, нажал спусковой крючок. И громыхнуло в руке, вспыхнуло короткое пламя, и оборвал смех один из серебряных орлов, нелепо, будто сдаваясь, вскинул к небу руки и опрокинулся на спину.
И второй раз громыхнул наган, почти сразу же, без перерыва, и вторая пуля достала второго парня.
Старик Леднев не обманывал. Он отлично стрелял, необидчивый дуэлянт, меткий истребитель адъютантских аксельбантов. У него была твердая рука, как принято писать, и точный глаз. Но молодость оказалась чуть быстрее. И третий офицерик, уже не улыбаясь, но оскалив в беззвучном крике рот, выхватив из кобуры вороненый браунинг, опередил третий выстрел профессора. Он стрелял еще и еще раз, расстрелял всю обойму. Даже мертвый старик Леднев казался страшным ему.
Игорь, бессильный что-либо сделать, судорожно вздохнул и почувствовал, что не может дышать, как тогда, на Кутузовке, после удара в солнечное сплетение. Он присел на корточки – тоже, как тогда, – пытался вдохнуть, втиснуть в себя горячий и твердый воздух и не мог, не мог, и слезы текли по щекам, оставляя на них грязные сероватые дорожки. И тогда он бежал из прошлого.
16
Он бежал из прошлого, потому что оно окончилось для него вместе с гибелью Пеликана и профессора. Особенно – профессора, к которому привык, притерся. Полюбил. Больше ничто не связывало его со временем, которое он сам для себя выбрал, сам придумал, сам выстроил – по событию, как по кирпичику.
Прошлое, в которое путешествовал Игорь, было до мельчайших подробностей похоже на реальное, случившееся, возможно, в действительности в начале осени восемнадцатого года. Но, рожденное чужой памятью, оно было откорректировано воображением. А воображения Игорю хватало. Знаний, правда, маловато, книжные все больше, да уж какие есть…
Но странная вещь! Оно, это прошлое, само себя корректировало, выходило из повиновения, жило по своим законам – законам времени, а значит, и было реальным, как ни крути. Парадокс! Нереальное реально, а реальное нереально…
Что было, что придумано – какая, к черту, разница, если на брусчатой мостовой прилизанной барской улочки остались лежать два близких Игорю человека, которых его воображение хотело видеть живыми! Чья это, скажите, прихоть, что они погибли? И прихоть ли? А может, это и есть жизнь, которую не подправить никаким воображением?..
Короче, кончилось для Игоря прошлое, и точка…
Воскресенье на дворе. Воскресенье – день веселья, как в песне поется. А другой поэт, напротив, заявил: для веселья планета наша мало оборудована. Кому верить?..
И хотя сейчас Игорю больше всего хотелось лечь в постель, накрыться с головой одеялом, не видеть никого, не слышать, не спать – просто лежать в душной пододеяльной темноте, как в детстве, и ни о чем не думать, он все-таки снял телефонную – тяжелую, как гиря, – трубку и набрал Настин номер.
Она откликнулась сразу, с первого звонка, будто ждала у своего алого аппарата, руку над трубкой держала.
– А не пойти ли нам погулять? – спросил Игорь тем фальшиво-бодрым тоном, каким говорят с больными, убеждая их в том, что здоровы они, здоровее быть не может.
Кого он в том убеждал? Себя, что ли?.. И Настя, умная маленькая женщинка, заметила это, несмотря на километры проводов, их разделяющих.
– Что-нибудь случилось, Игорь?
Как ответить?..
– Не знаю, Настя, наверно, случилось. И вдруг ясно понял, что не может больше держать в себе свою боль, что должен поделиться ею с кем-то, кто воспримет ее, эту боль – ну, пусть не как собственную, но как близкую, почти ощутимую. И этим «кем-то» станет Настя, только она – еще совсем незнакомая, дальняя, никакая, но странно притягивающая. А, собственно, почему «странно»? Ничего тут странного нет. Игорь, во всяком случае, не видел…
– Приезжай, – сказала она.
Что он мог рассказать ей? Как уходил в другую жизнь и пытался жить ею? Как шел мимо этой жизни – любопытный пришелец, только летающей тарелочки не хватало? Как нагло влез в чужое прошлое, в чужую память, попытавшись оборотить ее своей? Странник…
Во всяком случае, ничего не скрыл. Все рассказал, не упуская подробностей.
Поверила ли Настя ему? Игорь ставил себя на ее место и усмехался: он бы ни за что не поверил, счел бы рассказчика психом ненормальным, вызвал бы дюжих санитаров из психбольницы – пусть-ка они послушают… А Настя поверила?..
Да наплевать ему было на то с высокой колокольни! Поверила – не поверила… Ему душу вывернуть требовалось, повесить для просушки – не для всеобщего обозрения, но лишь для нее одной, для Насти. Главное, он ей верил…
Но вот забавно: она кресло в испуге не отодвигала, на дверь не косилась, к телефону не рвалась – звонить в психбольницу. Слушала внимательно, даже, казалось Игорю, сочувственно, а когда про гибель Леднева говорил – почудилось или нет? – но, похоже, глаза ее на мокром месте были.
Закончил. Помолчали. Игорь в окно глядел, погода портилась, небо облаками затянуто, вот-вот дождь пойдет.
Настя спросила тихонько, как через силу:
– Чужая память… А чья, чья?..
– Я тебе говорил; деда. Это он в восемнадцатом году шел из Ростова в Москву, я не врал прошлый раз.
– И профессор у него был?
– И профессор и Пеликан.
– И тоже погибли?
– Не знаю. Его записи обрываются как раз на том месте, где они в город пришли, в дом к Софье.
– Он не дописал?
– Отец говорил; дописал. Но то ли потерялось остальное, то ли дед сам уничтожил, но нет конца, и все тут.
– А отец ничего не рассказывал?
– Отцу что… Он технарь, кроме своих гаек-винтиков, ничего не признает.
– Как же тогда вышло, что они погибли? Ведь не было этого, не было! Чужая память молчит…
– А моя? – тихо спросил Игорь. И это, пожалуй, было ответом. На спрошенное и неспрошенное. На все.
– Ты сейчас так говоришь… – Настя подошла к нему совсем близко, ее дыхание касалось его лица. – Ты сам не веришь в то, что говоришь. Странник… – Она словно подслушала мысль Игоря. – Ты не сможешь не вернуться туда… – И приподнявшись на цыпочки, легко-легко поцеловала в губы.
А волосы ее почему-то пахли дымом.
Как мало надо человеку! Ничего, по сути, не было сказано Настей, ни-че-го… А ощущение – будто тебя поняли и приняли. Говоря казенным языком, встали на твою позицию.
Какова она, твоя позиция? Стороннего наблюдателя?..
Поздно засиделся, дотемна, опять родители волноваться станут, позвонить им из автомата…
А навстречу – из темноты:
– Вот и дождались тебя, Игорек. Теперь ты без помощников обойдешься?
То ли далекий – метрах в двадцати – тусклый фонарь качнулся под ветром, то ли окно на третьем этаже загорелось, но почудилось Игорю, словно на куртках вежливых улыбчивых мальчиков что-то серебряное сверкнуло.
– Обойдусь, – сказал он и, нагнувшись, поднял с асфальта тяжелый обломок кирпича.
17
У него впереди была долгая, долгая дорога. Пыльными трактами, лесными тропинками, горькими холодными деревнями – путем своей памяти.
Чужой не было. Дед, легендарный в семье человек, знакомый Игорю только по фотографиям, – где он бравый и молодой, с боевым орденом на груди, дед-летописец, так и не дописал своей истории. Не захотел. Или, как сказано, уничтожил написанное. Почему? Память ему мешала?..
Выпало Игорю дописать, досказать, дойти. Довообразить то, чего не было.
Не было? Было?
Трется за пазухой, царапает сургучом кожу на животе перевязанный суровой ниткой пакет.
Сидит Пеликан в подполе, пряники жует…
Долгая, долгая дорога впереди.
Стена
Дом был огромный, кирпичный, многоэтажный, многоподъездный, дом-бастион, дом-крепость, с грязно-серыми стенами, с не слишком большими окнами и уж совсем крохотными балконами, на которых не то чтоб чаю попить летним вечерком – повернуться-то затруднительно. Его возвели в конце сороковых на месте старого кладбища, прямо на костях возвели, на бесхозных останках неизвестных гражданок и граждан, давным-давно забытых беспечной родней. Впрочем, о кладбище ведали ныне лишь старожилы дома, а их оставалось все меньше и меньше, разлетались они по новым районам столицы, разъезжались, съезжались, а то и сами тихонько отходили в иной мир, где всем все равно: стоит над тобой деревянный крест, глыба гранитная с золотой надписью либо означенный автором дом.
К слову, автор провел в том доме не вполне безоблачное детство и теперь легко припоминает: никого из жильцов ни разу не беспокоили всякие там мертвые души, всякие там тени, загробные потусторонние голоса. Пустое все это, вздорная мистика, вечерние сказки для детей младшего дошкольного возраста. Да и то сказано: жить живым…
Крепостным фасадом своим дом выходил на вольготный проспект, на барский проспект, по которому носились как оглашенные вместительные казенные легковушки, в чьих блестящих черных капотах дрожало муштрованное московское солнце. Ноблес оближ, говорят вольноопытные французы, положение, значит, обязывает… Зато во дворе дома солнце ничуть не робело, гуляло вовсю, больно жгло спины мальчишек, дотемна игравших в футбол, в пристеночек, в доску, в «третий лишний», в «чижика», в лапту и еще в десяток хороших игр, исчезнувших, красиво выражаясь, в бездне времен. Мальчишки загорали во дворе посреди Москвы ничуть не хуже, чем в деревне, на даче или даже на «знойном юге», мальчишки до куриной кожи купались в холодной Москве-реке, куда с риском для рук и ног спускались по крутому, заросшему репейником и лебедой обрыву; а летними ночами обрыв этот использовали для своих невинных забав молодые влюбленные, забредавшие сюда с далекой Пресни и близкой Дорогомиловки. Короче, чопорный и мрачно-парадный с фасада, с тыла дом был бедовым расхристанным шалопаем, да и жили в нем не большие начальники, а люди – разночинные, кто побогаче жил, кто победнее, кого-то, как пословица гласит, щи жидкие огорчали, а кого-то – жемчуг мелкий, разные были заботы, разные хлопоты, а если и было что общее, так только двор.
Здесь автору хочется перефразировать известное спортивное выражение и громко воскликнуть: о, двор, ты – мир! Автор рискует остаться непонятым, поскольку нынешнее, вчерашнее и даже позавчерашнее поколения мальчишек и девчонок выросли в аккуратно спланированных, доступных всем ветрам, архитектурно-элегантных кварталах, где само понятие «двор» больно режет слух, а миром стал закрытый каток для фигурных экзерсисов, или теплый бассейн, или светский теннисный корт, или, на худой конец, тесная хоккейная коробка, зажатая между английской и математической спецшколами. Может, так оно и лучше, полезнее, продуктивней. А все-таки жаль, жаль…
А собственно, чего жаль? Прав поэт-современник, категорически заявивший: «Рубите вишневый сад, рубите! Он исторически обречен!»
Позже, в пятидесятых, в исторически обреченном дворе построили типовое здание школы, разбили газоны, посадили цветы и деревья, понаставили песочниц и досок-качелей, а репейную набережную Москвы-реки залили асфальтом и устроили там стоянку для личных автомобилей. Цивилизация!
В описываемое время – исход восьмидесятых годов века НТР, май, будний день, десять утра – во двор вошел молодой человек лет эдак двадцати, блондинистый, коротко стриженный, невесть где по весне загорелый, естественно – в джинсах, естественно – в кроссовках, естественно – в свободной курточке, в этаком белом куртеце со множеством кармашков, заклепочек и застежек-«молний». Тысячи таких парнишек бродят по московским дневным улицам и по московским вечерним улицам, и мы не замечаем их, не обращаем на них своего занятого внимания: Привыкли.
Молодой человек вошел во двор с проспекта через длинную и холодную арку-тоннель, вошел тихо в тихий двор с шумного проспекта и остановился, оглядываясь, не исключено – пораженный как раз непривычной для столицы тишиной. Но кому было шуметь в эти рабочие часы? Некому, некому. Вон молодая мама коляску с младенчиком катит, спешит на набережную – речного озона перехватить. Вон бабулька в булочную порулила, в молочную, в бакалейную, полиэтиленовый пакет у нее в руке, а на пакете слова иностранные, бабульке непонятные. Вон из школьных ворот вышел пай-мальчик с нотной папкой под мышкой, Брамса торопится мучить или самого Людвига Ван Бетховена, отпустили пай-мальчика с ненужной ему физкультуры. Сейчас, сейчас они разойдутся, покинут двор, и он снова станет пустым и словно бы не настоящим, нежилым – до поры…
– Эт-то хорошо, – загадочно сказал молодой человек и сам себе улыбнулся.
Вот тут-то мы его и оставим – на время.
В таком могучем доме и жильцов, сами понимаете, – легион, никто никого толком не знает. В лучшем случае: «Здрасьте-здрасьте!», – и разошлись по норкам. Это раньше, когда дом только-только построили, тогдашние новоселы старались поближе друг с другом познакомиться: добрый дух коммунальных квартир настойчиво пробовал прижиться и в отдельных. Но всякий дух – субстанция непрочная, эфемерная, и этот, коммунальный – не исключение, выветрился он, испарился, уплыл легким туманом по индустриальной Москве-реке. Не исключено – в Оку, не исключено – в Волгу, где в прибрежных маленьких городах, как пишут в газетах, все еще остро стоят квартирные проблемы. А в нашем доме сегодня лишь отдельные общительные граждане прилично знакомы были, ну и, конечно, пресловутые старожилы, могикане, вымирающее племя.
Старик из седьмого подъезда жил в доме с сорок девятого года, въехал сюда крепким и сильным мужичком – с женой, понятно, и с сыном-школьником, до того – войну протрубил, потом – шоферил, до начальника автоколонны дослужился, с этой важной должности и на пенсию отправился. Сын вырос, стал строителем, инженером, в данный конкретный момент обретался в жаркой Африке, в дружественной стране, вовсю помогал слаборазвитым товарищам чего-то там возводить – железобетонное. Жена старика умерла лет пять назад, хоронили на Донском, в старом крематории, старушки соседки на похороны не пошли: страшно было, сегодня – она, а завтра кто из них?..
Короче, жил старик один, жил в однокомнатной – в какую сорок лет назад въехали – квартире, сам в магазины ходил, сам себе готовил, сам стирал, сам пылесосом орудовал. Стар был.
Судя по краткому описанию, старика следует немедленно пожалеть, уронить скупую слезу на типографский текст. Однако автор панически боится мелодрамы, слез не терпит и просит воспринимать печальные факты стариковской жизни философски и не без здорового юмора. В самом деле, никто ни от чего не застрахован и, как не без иронии утверждает народная мудрость, все там будем…
Он лежал в темном алькове на узкой железной кровати с продавленной панцирной сеткой, укрытый до подбородка толстым ватным одеялом китайского производства. Старику было знобко этим майским утром, старику хотелось горячего крепкого чаю, но подниматься с кровати, шаркать протертыми тапками в кухню, греть чайник – сама мысль о том казалось старику вздорной и пугающей, прямо-таки инопланетной.
У кровати на тумбочке, заваленный дорогостоящими импортными лекарствами, стоял телефонный аппарат, пошедший вулканическими трещинами: бывало, ронял его старик по ночам, отыскивая в куче лекарств какой-нибудь сустак или адельфан. Можно было, конечно, снять трубку, накрутить номер… Чей?.. Э-э, скажем, замечательной фирмы «Заря», откуда за доступную плату пришлют деловую дамочку, студентку-заочницу – вскипятить, купить, сварить, постирать, одна нога здесь, другая – там: «Что еще нужно, дедушка?» Но старик не терпел ничьей милости, даже оплаченной по прейскуранту, старик знал, что вылежит еще десять минут, ну, еще полчасика, ну, еще час, а потом встанет, прошаркает, вскипятит, даже побриться сил хватит, медленно побриться вечным золингеновским лезвием, медленно одеться и выйти во двор, благо – лифт работает. Но все это – потом, позже, обождать, обождать…
Старик прикрыл глаза и, похоже, уснул, потому что сразу провалился в какую-то черную бездонную пустоту и во сне испугался этой пустоты, космической ее бездонности испугался – даже сердце прижало. С усилием, с натугой вырвался на свет божий и – уж не маразм ли настиг? – увидел перед собой, перед кроватью странно нерезкого человека, вроде бы в белом, вроде бы молодого, вроде бы улыбающегося.
– Кто здесь? – хрипло, чужим голосом спросил старик.
Пустота еще рядом была – не оступиться бы, не усвистеть черт-те куда – с концами.
– Вор, – сказал нерезкий, – домушник натуральный… Что ж ты, дед, квартиру не запираешь? Или коммунизм настал, а я проворонил?
Пустота отпустила, спряталась в кокон, затаилась, подлая. Комната вновь обрела привычные очертания, а нерезкий оказался молодым парнем в белой куртке. Он и впрямь улыбался, щерился в сто зубов – своих небось, не пластмассовых! – двигал «молнию» на куртке: вниз – вверх, вниз – вверх. Звук этот – зудящий, шмелиный – почему-то обозлил старика.
– Пошел вон, – грозно прикрикнул старик.
Так ему показалось, что грозно. И что прикрикнул.
– Сейчас, – хамски заявил парень, – только шнурки поглажу… – Никуда он вроде и не собирался уходить. – Болен, что ли, аксакал?
– Тебе-то что? – старик с усилием сел, натянул на худые плечи китайское одеяло.
Он уже не хотел, чтобы парень исчезал, он уже пожалел о нечаянном «Пошел вон», он уже изготовился к мимолетному разговору с нежданным пришельцем: пусть вор, пусть домушник, а все ж живой человек. Со-бе-сед-ник! Да и что он тут хапнет, вор-то? Разве пенсию? Нужна она ему, на раз выпить хватит…
– Грубый ты, дед, – с сожалением сказал парень, сбросил куртку на стул и остался в синей майке-безрукавке. – Я к тебе по-человечески, а ты с ходу в морду. Нехорошо.
– Нехорошо, – легко согласился старик. Славный разговорчик завязывался, обстоятельный и поучительный, вкусный такой. – Но я же тебя не звал?
– Как сказать, как поглядеть… – таинственно заметил парень. – Слушающий да услышит… – замолчал, принялся планомерно оглядывать квартиру, изучать обстановку.
Обстановка была – горе налетчикам. Два книжных шкафа с зачитанными, затертыми до потери названий томами – это старик когда-то собирал, читал, перечитывал, мусолил. Облезлый сервант с кое-какой пристойной посудой – от жены-покойницы осталась. Телевизор «Рекорд», черно-белый, исправный. Шкаф с мутноватым зеркалом, а в нем, в шкафу – старик знал, – всерьез поживиться вряд ли чем можно. Ну, стол, конечно, стулья венские, диван-кровать, на стене – фотки в рамках: сам старик, молодой еще, жена – тоже молодая, круглолицая, веселая, сын-школьник, сын-студент, сын-инженер – в пробковом шлеме, в шортах, сзади – пальма… Ага, вот: магнитофон с приемником японской марки «Шарп-700», вещь дорогая, в Москве редкая, сыном и привезенная – сердечный сувенир из Африки. На тыщу небось потянет…
– Своруешь? – спросил старик.
Глаза его – когда-то голубые, а теперь выцветшие, блеклые, стеклянные – застыли выжидающе. Ничего в них не было: ни тоски, ни жадности, ни злости. Так, одно детское любопытство.
– Ты, дед, и впрямь со сна спятил, – парень вдруг взмахнул рукой перед лицом старика, тот от неожиданности моргнул, и из уголка глаза легко выкатилась жидкая слеза. – Не плачь, не вор я, не трону твое добро. Мы здесь по другой части… – и без перехода спросил: – Есть хочешь?
– Хочу, – сказал старик.
– Тогда вставай, нашел время валяться, одиннадцатый час на дворе. Или не можешь? Обветшал?
– Почему не могу? – обиделся старик. – Могу. Он спустил ноги с кровати, нашаркал тапочки, поднялся, держась за стену.
– Орел, – сказал парень. – Смотри не улети… Сам оденешься или помочь?
– Что я тебе, инвалид? – ворчал старик и целенаправленно двигался к стулу, где с вечера оставил одежду.
– Ты мне не инвалид, – согласился парень. – Ты мне для одного дела нужен. Я к тебе первому пришел, с тебя начал, тобой и закончу. Понял?
Старик был занят снайперской работой: целился ногой в брючину, боялся промазать. Поэтому парня он слушал вполуха и ничего не понял. Так и сообщил:
– Не понял я ничего.
– И не надо, – почему-то обрадовался парень. – Не для того говорено…
Старик наконец справился с брюками, одолел рубаху, теперь вольно ему было отвлечься от сложного процесса утреннего одевания, затаенная доселе мысль вырвалась на свободу:
– Слушай, парень, раз ты не вор, то кто? Может, слесарь?
– Если не вор, то слесарь. Логично, – одобрил мысль парень, но от прямого ответа уклонился: – А ты что, заявку в домоуправление давал? Унитаз барахлит? Краны подтекают? Это мы враз…
И немедля умчался в ванную, любезно совмещенную с сортиром, и уже гремел там чем-то, пускал воду, чмокал в раковине резиновой прочищалкой, которая, по всей вероятности, имеет определенное название, но автор его не знает. В чем кается.
Старик, малость ошарашенный космическими скоростями гостя, постоял в раздумьях, стронулся с места, добрался до ванны, а парень-то все закончил, краны завернул, «чмокалку» под ванну закинул.
– Шабаш контора, – сказал.
– Погоди, шальной, – старик не поспевал за действиями парня, а уж за мышлением его – тем более, и от того начинал чуток злиться: торопыга, мол, стрекозел сопливый, не дослушает толком, мчит, сломя голову, а куда мчит, зачем? – Я тебе о кранах слово сказал? Не сказал. В порядке у меня краны, зря крутил. У меня вон приемник барахлить начал, шумы какие-то на коротковолновом диапазоне, отстроиться никак не могу. Сумеешь, слесарь?
– На коротковолновом? Это нам семечки! – победно хохотнул парень и тут же слинял из ванной, будто и не было его. В одной фантастической книжке – старик помнил – подобный эффект назывался нуль-транспортировкой. Да и как иначе обозвать сей факт, если старик только на дверь глянул, а из комнаты уже доносился ернический говорок парня: – А ты, отец, жох, жох, короткие волны ему подавай… Небось вражеские голоса ловишь, а, старый? А ты «Маячок», «Маячок», он на длинных фурычит, и представь – без никакой отстройки…
– Дурак ты! – легонько ругнулся старик. – Балаболка дешевая… – опять тронулся догонять парня, даже о чае забыл – так ему гость голову заморочил. Шел по стеночке – по утрам ноги плохо слушались, слабость в них какая-то жила, будто не кровь текла по жилам, а воздух. – Вражеские голоса я слушаю, как же… Я против них, гадов, четыре года, от звонка до звонка, ста километров до Берлина не дошел… Буду я их слушать, щас, разбежался… Делать мне больше нечего…
– Извини, отец, глупо пошутил, – парень стоял у тумбочки, а на ней, на связанной женой-покойницей кружевной салфетке, чистым стереоголосом орал подарок из Африки, бодрым стереоголосом певца-лауреата сообщал о его любви к созидательному труду. – А хочешь – так, – парень чуть тронул ручку настройки, и лауреата сменил целый зарубежный ансамбль, и тоже – безо всяких шумов, без хрипа с сипом. – Или так, – и радостная дикторша, обнадежила: «Сегодня в столице будет теплая погода без осадков, температура днем восемнадцать – двадцать градусов».
– Неужто починил? – изумился старик.
– Фирма веников не вяжет, – сказал парень и выключил приемник. – Еще претензии имеются?
– Вроде нет…
– А раз нет, сядем. Разговор будет, – парень уселся на венский стул верхом, как на коня, из заднего кармана джинсов достал сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его. Листок – заметил старик – весь исписан был.
– Сядь, сядь, нет правды в ногах, нет ее и выше. Слушай сюда… Твоя фамилия Коновалов, так?
Точно, слесарь, подумал старик, усаживаясь на диван, иначе откуда ему фамилию знать?
– Ну, – подтвердил.
– Павел Сергеевич?
– И тут попал.
– Я тебе, Пал Сергеич, буду фамилии называть, а ты отвечай: слышал о таких или не слышал. Первая: супруги Стеценко.
– Это какие же Стеценко? – призадумался старик. – Из второго подъезда, что ли? «Жигуль» у них синий, да… Этих знаю. Сам-то он где-то по торговой части, товаровед, кажется, из начальников, а жена – учительница, химию в нашей школе преподает. Моя Соня-покойница поговорить с ней любила.
– Про химию?
– Почему про химию? Про жизнь.
– Хорошие люди?
– Обыкновенные. Живут, другие не мешают… Соня как-то деньги дома забыла, а в овощном помидоры давали, так химичка ей трешку одолжила.
– Вернули?
– Трешку-то? А как же! В тот же день. Соня и сходила.
– Значит, говоришь, другим не мешают?
– Не мешают. А чего? Вон, трешку одолжили…
– Большое дело, – то ли всерьез, то ли с издевкой сказал парень и что-то пометил на листке шариковым карандашиком. – Подавший вовремя подает вдвое… Ладно, поехали дальше. Пахомов Семен, пятьдесят седьмого года рождения, Пахомова Ирина, шестьдесят первого.
Старик оживился:
– Сеньку знаю. Сеньку все знают. Я еще мать его помню, Анну Петровну, святая тетка была. Муж у нее по пьяному делу под машину попал – ну, насмерть. В шестьдесят первом вроде?.. Ага, тогда Сеньке как раз четыре стукнуло… Анна его тянула-тянула, на трех работах работала, уборщицей. А что? Тяжко, конечно, а ведь под две сотни в месяц выходило. Это теперь двести целковых – тьфу, а тогда – ба-альшие деньги. Сенька не хуже других одевался, ел, пил…







