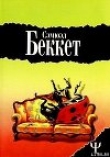Текст книги "Мерсье и Камье"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Сэмюэль Беккет
Мерсье и Камье
От переводчика
Роман «Мерсье и Камье» в творческой биографии Сэмюэла Беккета располагается точно на линии раздела между двумя этапами прозаического творчества писателя: ранней англоязычной прозы «More Pricks Than Kiсks», «Мерфи», «Уотта», и франкоязычной, которую сам Беккет называл зрелой – это прежде всего знаменитая Трилогия: романы «Моллой», «Мэллон умирает» и «Неназываемый». Без сомнения, в «Мерсье и Камье» Беккет разрабатывает некоторые приемы ведения драматического диалога, которые использует впоследствии в «Годо». «Мерсье и Камье» – первая франкоязычная вещь Беккета, а также первая, написанная им после Второй мировой войны. Война не осталась Беккетом незамеченной. К политике Беккет был совершенно индифферентен, но облик фашизма, видимо, вызывал у него такое физиологическое омерзение, что писатель вступил даже в ряды французского Сопротивления. Правда, никакими особенными подвигами на этом поприще не отметился – а когда несколько членов группы, в которую он входил, были арестованы гестапо, успел бежать из Парижа и жил до освобождения Франции в глубинке под чужим именем. Надо полагать, находивший поводы внутренне надломиться и встать лицом к лицу с черным ужасом человеческой доли и в менее трагичные времена, в военные годы Беккет шанса наверняка не упустил. И при желании мы вправе считать «Мерсье и Камье» отзвуком именно «военного» Беккетовского надлома, хотя я не думаю, что это сколько-нибудь важно.
Роман был закончен в 1946 году. В 1947-м рукопись была принята в издательство, однако Беккет ее оттуда забрал до публикации. Причины точно неизвестны, но можно попытаться их реконструировать. Скорее всего, дело в том, что персонажи «Мерсье и Камье», уже будучи вполне потусторонними и преобразуя героев «зрелой» прозы писателя, существуют в более-менее натуралистическом антураже. И Беккету, уже замыслившему «Моллоя», виделась определенная художественная непоследовательность, недоразвитие мысли. Недаром, упорно отказываясь в течение двадцати четырех лет публиковать роман, он повторял, что видит в нем лишь черновик или пробную попытку разработать новую технику повествования (любопытно, что у этой «пробной попытки» имеется еще и своя «пробная попытка» – рукопись под названием «Les Bosquets de Bondy», эдакий предварительный заход на «Мерсье и Камье»; о ней знают Беккетоведы, но я не уверен, издавалась ли она). Как известно, ни в коем случае нельзя слушать, что о своих сочинениях говорят сами писатели – на мой взгляд, именно эта мнимая непоследовательность помогает выявиться в «Мерсье и Камье» совершенно особенному беккетовскому лиризму – не покидавшему его, в сущности, никогда, – и «через голову» «Годо» и романов Трилогии перекликается с «Последней лентой Крэппа» или «Золой».
Не соглашаясь публиковать роман, Беккет вместе с тем довольно щедро предоставлял в пользование исследователям своего творчества фотокопии рукописи – из которых те цитировали в своих статьях порой большие отрывки. Впоследствии некоторые из этих копий попали в университетские коллекции, и по рукам пошли уже копии с копий – настоящий самиздат. В такой ситуации издатели Беккета сумели убедить его, что было бы глупо и далее откладывать публикацию.
Французская редакция появилась в 1970 году. Работа по авторскому переводу текста оказалась для Беккета довольно тяжелым трудом – что для меня подтверждает правомерность предпринятого мною «перевода с перевода». Английский текст «Мерсье и Камье», как, надеюсь, мне удалось проиллюстрировать в комментарии, настолько связан с «материей», «кирпичиками» языка, что его взаимоотношение с первоначальным французским текстом может быть двух родов: либо Беккет скрупулезнейшим образом подбирал общую для французского и английского языков идиоматику и нашел сверхизощренные способы передачи грамматических структур, позволяющие не терять каламбурности – и тогда авторский перевод архиточен, что представляется маловероятным; либо английский и французский варианты романа – две существенно различающиеся книги, а стало быть имеют равное право на существование и даже необходимы русские переводы с обоих языков.
Свой авторский перевод Беккет завершил и издал в 1947 году. А в 1990-м мой самарский друг Дима Мастюков, с которым мы подолгу жили в Москве в одной квартире, поехал по частному приглашению в Германию. Людей моего поколения, пересекавших границы соцлагеря, тогда еще считали по пальцам. И о них ходили легенды, поскольку то было время подлинных путешественников– камикадзе: провожали их все равно что на тот свет, мало надеясь когда-нибудь увидеть снова. Что и немудрено, если вспомнить, к примеру, двух моих знакомых, отправлявшихся в Бразилию авиарейсом через Перу с неоплаченным не то что возвращением, а даже вторым этапом перелета: из Лимы до Рио-де-Жанейро, а вместо денег имевших на двоих одну советского производства электрическую дрель. Но даже и возвратившись, человек, казалось, окажется на каком-то ином и недоступном нам, остававшимся, уровне бытия, и связь с ним уже вряд ли будет возможна.
Но с Димой никаких таких оптических трансформаций не приключилось. Первоначально у него была месячная германская виза, а разъезжал он из страны в страну добрых полгода – так все поступали, оказавшись в Европе, благо русские вызывали тогда доброжелательное к себе любопытство даже в консульских отделах посольств. Он посидел в английской тюрьме – что-то ему подсунули во время облавы в ночлежке. Но ничего, обошлось, разобрались. Под конец мирно собирал экологически чистые яблоки на ферме молодого и прогрессивного голландского миллионера, с которым они сделались други. На прощание миллионер подарил ему автомобиль «Ситроен», лет эдак пятнадцать простоявший под яблоней: но поскольку, как известно, гниют автомобили исключительно в России, оставался «Ситроен» в замечательном состоянии. Он стал одним из четырех предметов, вывезенных Димой с Запада: наряду с кассетой Брайана Ино, английской книжкой «Мерсье и Камье» и сияющим, ограненным на множество шестиугольных граней, хрустальным шариком с перепелиное яйцо величиной, в красивой фирменной коробочке – из магазина эзотерических товаров.
Машина стоила того, чтобы рассказать о ней подробнее. Эту модель «Ситроена» можно увидеть во французских фильмах шестидесятых годов. Узкая, с откидным брезентовым верхом, с плоским лобовым стеклом, прямоугольными дверями, навесными фарами, направленность которых настраивалась из кабины посредством червяка, машина напоминала разом детскую коляску, карету и броневик времен Первой мировой. Колеса у нее были со спицами, на узкой, почти мотоциклетной, резине – и выкрашены, как у паровоза, в великолепный, беспримесно-красный цвет. Модель предназначалась, вроде нашей «Оки», для студентов, домохозяек и такого рода небогатой экономящей публики. Если не хватало места на маневр при парковке, можно было ткнуть машину носом в подходящий угол, потом вылезти и вдвоем занести корму на руках. Думаю, человек шесть смогли бы затащить «Ситроен» и в квартиру – там, где лестница позволит развернуться и двери пропустят
Дважды Дима меня на нем катал. В первую поездку нам зачем-то понадобилось развернуться через осевую посреди Тверской улицы. Но едва колеса двойную линию пересекли, машина заглохла – и заводиться заново никак не желала. Было шесть часов вечера, будний день. Мы перекрывали движение по левым полосам в обоих направлениях. Подбегал гаишник с истеричным свистком – но шаг от шага ярость в нем зримо вытеснялась любопытством. Он самолично помогал нам откатить «Ситроен» к обочине, задавал дотошные технические вопросы и заинтересованно погружал голову под капот, покуда Дима возвращал двигатель к жизни. Оштрафовать нас он в конце концов просто забыл.
А в другой раз, поздно вечером, ближе к полуночи, мы все, четверо более-менее постоянных обитателей однокомнатной квартиры в Сокольниках, отправились на «Ситроене» повидать знакомых девиц в Кунцево. Стромынка, Садовое кольцо, Кутузовский проспект; таксисты и их пассажиры, водители грузовиков и автобусов, прогуливающие собак пешеходы, нарождающиеся проститутки – не было головы, чтобы не повернулась нам вслед. Возможно даже – как мог бы сказать Мерсье Камье или Камье Мерсье – мы стали причиной нескольких аварий. А если не стали – так исключительно в силу напряженного поля удачи, неускользающего благоприятного случая, в котором существовали тогда сами и которое, нам казалось, щедро распространяли вокруг.
Затем Дима отправился на машине домой, в Самару, и больше мы «Ситроен» не видели – с тем, чего не сумела совершить над ним трасса Е30 от Амстердама до Москвы, без труда, в считанные сотни километров, справилась трасса М5 – от Москвы к Юго-Востоку. Разрушение «Ситроена» никого особо не удивило. Он выглядел птицей забавной и, без сомнения, райской – то есть, не жильцом в России. Дима теперь по-прежнему приезжал в Москву поездом. Кассету Брайана Ино безнадежно кто-то заиграл, а хрустальный шарик выклянчили кунцеские девицы. Но книгу мы оставили себе. И ее неспешное фрагментарное чтение, порой вслух, порой с фантастическими вариантами перевода, служило поводом шуткам, подъелдыкиваниям, скупым выражениям суровой мужской солидарности и общего понимания бессмысленной, палаческой жестокости устройства жизни, и долгим спорам, у кого из нас тоньше, измученнее душа. Мы научились также подкарауливать в себе особенный тип речи – она вроде бы предметно начиналась, однако некая внутренняя, трудно уловимая ее логика независимо от наших намерений за три-четыре реплики сводили ее к простым и очень общим констататциям, благодаря чему достигался абсурд. Так и называлось у нас подобное говорение: «Мерсье и Камье».
Из тех читателей и пассажиров феерического красноколесого «Ситроена» один ныне лежит в гробу, другой живет в Ганновере, играет на бирже, третий стал довольно известным – в Европе более, чем в России – театральным режиссером. А я здесь дожидаюсь, пока наступит полная темнота. Но все прошедшие десять лет я чувствовал – и даже почти не выдумывал себе – как будто обязательство перед этим романом. Теперь пора его исполнять.
Переводчик благодарит Вл. Новикова, Л. Сумм, Х. Уомэк и А. Фрумкину за помощь в работе.
Переводчик предупреждает читателей, что в тексте встречается ненормативная лексика (не очень много), а также рассматриваются материи, знакомство с которыми для детей и незамужних барышень может оказаться преждевременным.
I
Путешествие Мерсье и Камье[1]1
Принято считать, что фамилии персонажей Беккета – особенно Беккета до «Годо» – чаще всего значащие, и что это важно для правильного понимания его сочинений. Так что придется каждую проверять. Относительно Мерсье и Камье результаты таковы: Camier по-английски в точности не значит ничего, а отсылать может разве что к широчайше употребительному глаголу to come во всем спектре значений от тривиального «приходить» до тех, что связаны с эякуляцией и оргазмом. Mercier может корреспондировать с английским Mercy – милосердие, по-французски-же Mercier – продавец галантереи, и герой поговорки a petit mercier petit panier, близкой по смыслу к русской «по одежке протягивай ножки». Если существует еще и «низовое» французское значение, то, по логике вещей, оно должно быть связано с подглядыванием за переодевающимися женщинами, фетишизмом – но тут уже домыслы переводчика. Как бы там ни было, никакой добавочной краски последующему повествованию «нагруженность» имен двух главных персонажей не придает. И посему, вместо того, чтобы предлагать читателю удерживать в голове какую-нибудь монструозную, и притом весьма сомнительную, конструкцию типа «Галантерейщик и Спускалкин», волевым решением объявим эти две фамилии не намекающими ни на что. Другое дело, что их крепко соединяет друг с другом созвучие, явно характерное именно для комической пары, и тут аналогию искать недолго: Пат и Паташон, тем более что и комплекция у наших героев соответствующая. Но мне почему-то на ум приходят Горбунов и Горчаков из Бродского, только без наших длиннот и согласного косноязычия. Мерсье и Камье, Мерсье и Камье…
Кстати, два романа спустя Неназываемый-Червь-Махуд определит Мерсье и Камье как «псевдопару».
«"Ненасытная тоска по губным звукам", – произносит пресмыкающийся персонаж, речь которого звучит со страниц „Как это?“ (роман Беккетта, опубликован по-французски в 1961-м, по-английски в 1964 году – М.Б.). Тоска, которую Моллой и он на секунду унимают, лупя губами слово „мама“ и как бы опять сося материнскую грудь. Вот почему от Моллоя можно услышать слова: „Я отправился к маме. Время от времени я звал маму, просто чтобы приободриться“, – и вот почему упомянутый слизняк ничтоже сумняшеся поясняет, что выслеживает в своей речи любое соединение губных, только бы спепить губы, „миг, когда я, всегда лишенный такой возможности, сумею произнести слово „мама“, „мамуля“, услышать эти звуки, обмануть свою ненасытную тоску по губным, начав с них, с этих самых слов“. Именно с них его слово – лепет, двугубое чмоканье – и начинается. Ими же, последней буквой в именах его аватар, оно и заканчивается. "Бем Пем единственный слог "м" на конце остальное неважно".
Вот из-за этого односложного слова, этого двугубого и в первую – как и в последнюю – очередь различимого звука мы и спрашиваем себя, не акронимы ли большинство фамилий и имен беккетовских персонажей: все эти его Мерфи, Мерсье, Моллой, Маг (мать Моллоя), Моран, Малон, Макман, Махуд, Мэдди (Руни), а также Сэм, Хэмм, Пим, Бем, Бом, а также – если считать W как перевернутое M, требующее, соответственно, и обратного движения губ, – Уотт, Уорм, Уилли, Уинни. M – отправная и конечная точка любого устного сообщения. Пим, Бем, Бом, Сэм, Хэмм даже могли бы легко навести на мысль, что этот короткий вскрик – возвращенное во всей точности эхо имени самого писателя и что последний вывел себя в виде персонажей, которые мучаются здесь в благодарность за полученное фетишистское сходство. Эхо, допустим, не случайность, но при чем тут начальные M, которые вместо того, чтобы запечатать кричащий рот, напротив, приоткрывают его в жесте сосунка, когда губы как бы ласкают друг друга, тем более что и в случае М, и в случае W все имя целиком звучит как сама нежность, сама музыка? Анекдотическая легкость: трудно удержаться от соблазна, к которому подталкивает сам писатель, и не увидеть в этом M зрительную передачу начальной буквы его подписи – S в его имени до того повалилось на строку, что на первый взгляд его можно спутать с M.» (Людовик Жанвье, «Ключевые слова"», пер. Б.Дубина)
Et cetera, et cetera. Беккет – автор культовый. В литературном смысле этого слова. То есть предоставляет почву, на которой пасется армия комментаторствующих рыцарей пера, плодя тексты и тексты. Некоторые из них задевают. Но настоящий отрывок я привел скорее как типический образец. – Здесь и далее комментарии переводчика.
[Закрыть] – вот о чем я могу говорить, если захочу, потому что я все время был с ними.
Физически это было довольно легкое путешествие, без морей и границ, которые пришлось бы пересекать, и по местности в целом не мучительной, хотя частично и запустелой. Им более-менее успешно удавалось не сталкиваться с чужими дорогами, языками, законами, небесами и пищей в условиях, не схожих с теми, к каким приучали их сперва детство, потом юность, потом зрелость. Погода, пускай и ненастная временами (ну, да они знавали ничуть не лучше), ни разу не вышла за рамки умеренности, иначе говоря, за те рамки, в которых ее мог еще выносить без вреда, если не без дискомфорта, средний местный житель, подходящим образом одетый и обутый. Что до денег, пусть на первый класс в транспорте или на гранд-отель и не хватало, все же их было достаточно, чтобы иметь возможность перемещаться туда-сюда, не клянча милостыню. Мы вправе, следовательно, сказать, что в какой-то мере они и в этом отношении были удачливы. Им приходилось бороться с трудностями, однако меньше, чем многим, меньше, возможно, чем большинству тех, кто осмеливается тронуться в путь, ведомый побуждениями ясными или смутными.
Они все подробно обсудили друг с другом, прежде чем пуститься в это путешествие, постановив себе совершенно хладнокровно взвесить, какую пользу они могут надеяться из него извлечь, каких бед могут опасаться, сохраняя очередность темной и светлой сторон. Единственное убеждение, которое они вынесли из своих дебатов – нелегко отправиться в неизвестное.
Камье первым прибыл в назначенное место. В том смысле, что к его прибытию Мерсье там не было. Хотя вообще-то Мерсье упредил его на добрых десять минут. Он протерпел пять минут, отслеживая разные направления, откуда мог появиться его друг, потом решил пойти еще ровно пятнадцать минут погулять. Тем временем Камье, пять минут не видя и не слыша Мерсье, удалился в свой черед на небольшую прогулку. Когда пятнадцать минут спустя он возвратился, то напрасно глазел по сторонам, и понятно почему. Ибо Мерсье, прождав у моря погоды новые пять минут, отлучился снова, чтобы, как он изволил это назвать, немного размяться. Камье проболтался там еще пять минут, затем вновь отбыл, сказав себе: может быть, мы с ним столкнемся на улице. Именно в этот момент Мерсье, запыхавшийся после своей небольшой разминки, которая на сей раз как нарочно уложилась в десять минут, мельком заметил растворяющиеся в утренней мгле очертания, напоминающие очертания Камье – и это действительно был никто иной. К несчастью, фигура исчезла, будто провалилась сквозь булыжник, предоставив Мерсье бдеть дальше. Однако по истечении того, что начинает уже выглядеть как регулярная пятиминутка, он это дело бросил, ощутив необходимость в небольшом моционе. И радость их, таким образом, была одно мгновение безмерна, радость Мерсье и радость Камье, когда после соответственно пяти и десяти минут тревожного рыскания они одновременно дебушировали на площадь и очутились лицом к лицу впервые со вчерашнего вечера. Было девять пятьдесят утра[2]2
В двух предшествующих абзацах Беккет использовал пять синонимов (слов и идиом) для глагола «прибывать», пять – для «пребывать, ожидая» (причем само слово «ждать» – wait – так и не возникало), семь – для «отправляться, уходить», и пять для существительного «прогулка». Причем текст не срывается в неестественную вычурность и натянутую акробатику. Вот характерный пример «плотности» беккеттова письма – там, где автор ее хочет. Плюс хорошая иллюстрация вообще разницы лексической «массивности» английского и русского языков.
[Закрыть].
Иными словами:
| Мерсье | 9.05 | 9.10 | 9.25 | 9.30 | 9.40 | 9.45 | 9.50 |
| Камье | 9.15 | 9.20 | 9.35 | 9.40 | 9.50 |
От чего разит ненатуральностью.
Они все еще держали друг друга в объятиях, когда с тихой ориентальной внезапностью стал падать дождь. Они бросились поэтому со всех ног в укрытие, имевшее форму пагоды и возведенное здесь для защиты от дождя и прочих напастей, от дурной, одним словом, погоды. В тот же самый миг, что наши герои, в убежище кинулась собака, вскоре за ней последовала и другая. Мерсье и Камье в нерешительности обменялись взглядами. Они хотя и не вдоволь наобнимались, все же находили неудобным начинать заново. А собаки со своей стороны уже вовсю копулировали, с величайшей естественностью.
Место, где они очутились, о котором не без труда договорились, что здесь им следует встретиться, было, строго говоря, и не сквером, а, скорее, маленьким общественным садом в средостении запутанного клубка улиц и переулков. Сад являл взору все, что положено: кусты, клумбы, прудики, фонтаны, статуи, лужайки и скамейки в удушающем изобилии. В нем было что-то от лабиринта: гулять утомительно, выйти, для того, кто не посвящен в его секреты, сложно. Вход, разумеется, был простейшей на свете вещью. Приблизительно в центре высился огромный блестящий медный бук, посаженный несколькими веками ранее согласно табличке, грубо приколоченной к стволу, фельдмаршалом Франции с мирной фамилией Сен-Руф. И едва он с этим управился, гласила надпись, как был сражен насмерть пушечным ядром, оставшись до конца верным все тому же безнадежному делу, на поле битвы, имевшем мало общего, с точки зрения ландшафта, с теми, где он добывал себе славу, сперва бригадир, потом лейтенант, если это правильный порядок, в каком добывается слава на поле битвы. Именно дереву был, без сомнения, сад обязан своим существованием. Результат, который вряд ли мог прийти на ум фельдмаршалу, когда в тот далекий день, совершенно свободный от квиконсов[3]3
Квиконс – здесь: астрологический термин, аспект в 150 градусов. Значение аспекта: повторяющиеся ситуации, связанные с кармой и подобными делами. Астрологическую тему и терминологию Беккет уже эксплуатировал в романе «Мерфи». Из иных значений слова может создавать дополнительные аллюзии следующее: расположение по углам квадрата с пятым элементом посередине, – у католиков эта фигура символизирует, повторяет, расположение ран Иисуса при распятии (руки, ноги, грудь). Через это последнее значение «квиконсы» открывают длинный в «Мерсье и Камье» предметный ряд, общий у Беккета и Джойса. В рассказе «Grace», «Милость Божия» из «Дублинцев», у Джойса возникает квиконс. Иногда создается впечатление, будто Беккетт, сочиняя «Мерсье и Камье», читает Джойса насквозь и дерет у старшего товарища все, что ложится в строку – при полной несхожести характера текстов и с не всегда понятными целями.
А кстати, что это за французский фельдмаршал, сажающий дерево в Ирландии? Отечественные энциклопедии никакого Сен-Руфа, конечно, не знают. (Зато дают замечательный срез совершеннейшей деградации справочных изданий в советскую эпоху. Если первая пост-брокгазовская БСЭ, где главным редактором сперва был Бухарин, чье имя впоследствии в библиотеках с титулов аккуратным прямоугольничком вырезали, а затем О. Ю. Шмидт, предоставляет еще достаточно связный, хотя и не без засилия пролетариата, очерк истории Ирландии, то в последней, брежневской, энциклопедии на ту же тему уже ничего, кроме маниакального бормотания – классовый-колонизаторский-контрреволюционный-мелкобуржуазный… – толком почерпнуть не удается.) Молчит и «Британника». Интернет выкидывает на запросы массу занимательных вещей: от «Гибралтарской энциклопедии прогрессивного рока» до полного перечня придорожных закусочных Нью-Йорка. Франция издавна поддерживала ирландское патриотическое движение – с целью, понятно, навредить Англии. Например, в 1798 году высаживалась в Ирландии французская военная экспедиция под командованием некоего Эмбера – и быстро была разбита. Но командовать такого рода экспедицией мог генерал – никак не фельдмаршал.
Если же и тут проверить имя «на значимость» – можно много чего накопать. В католических святцах два Руфа – Фивский, апостол от 70-ти, и Мецский (ум. ок. 400) (в православных – Руфов пятнадцать). Кроме того, Ruth – это и библейская Руфь. Английское архаически-поэтическое ruth – милосердие, сострадание, жалость, раскаяние, горе, печаль. Английское слэнговое и, скорее, американизм ruth – женский туалет. И наконец, совсем уже американизм ruth – блевать. Вот такое плодотворное исследование. С результатами на любой вкус.
Поищем покуда еще.
[Закрыть], во главе элегантных и сытых помощников, он поддерживал хрупкий росток в наполненной росою лунке. Но довольно об этом дереве, и больше не услышим о нем, от которого сад получил тот легкий шарм, коим все еще обладал, не говоря уже о своем названии. Дни задушенного гиганта были сочтены, впредь ему предстояло все чахнуть и гнить, и так, постепенно, исчезнуть. Тогда какое-то время в сем загадочно поименованном саду людям дышалось бы свободнее.
Мерсье и Камье места этого прежде не знали. Отсюда, несомненно, и выбор его для встречи. Определенные вещи не следует никогда знать точно.
Сквозь оранжевые стекла дождь казался им золотым и будил воспоминания, связанные с предпринятыми на свой страх и риск экскурсиями, у одного в Рим, у другого в Неаполь, обоюдно замалчиваемые и сопровождаемые переживанием, похожим на стыд. Им полагалось бы почувствовать себя чуть бодрее в память пыла тех далеких дней, когда они были молодыми и горячими, и любили искусство, и высмеивали супружество, и не знали друг друга. Но они ничуть не чувствовали себя бодрее.
– Пошли домой, – сказал Камье[4]4
Беккетт крайне скуп на знаки препинания. По большей части он обходится лишь точкой, запятой и вопросительным знаком. Редки восклицательные знаки и некое подобие отточия – в оборванных фразах, причем двух разных типов. Кавычек и двоеточий не существует. Реплики диалога оформляются красной строкой и запятыми. Пунктуация в английском языке в целом беднее и менее значима, нежели в русском, однако подход Беккета минималистичен и по этим меркам. Придерживаться такой же скупости в русском тексте вряд ли целесообразно. Однако и полностью приводить текст к благообразному в пунктуационном отношении виду тоже не стоит – дух пропадает.
[Закрыть].
– Почему? – сказал Мерсье.
– Весь день будет лить, – сказал Камье.
– Долгий, короткий, это всего лишь дождь, – сказал Мерсье.
– Я не могу стоять тут и ничего не делать, – сказал Камье.
– Тогда давай сядем, – сказал Мерсье.
– Еще хуже, – сказал Камье.
– Ну тогда давай будем прохаживаться вперед-назад, – сказал Мерсье, – правильно, рука в руке, будем ходить туда, сюда. Здесь не очень много места, однако могло бы быть и еще меньше. Клади, вот сюда, наш зонт, помоги мне убрать с дороги наш сак, вот так, благодарю, и – марш.
Камье подчинился.
Время от времени небо светлело, а ливень слабел. Тогда они, по-видимому, останавливались в дверях. Что служило небу сигналом опять потемнеть, а дождю подбавить ярости.
– Не смотри, – сказал Мерсье.
– Достаточно звука, – сказал Камье.
– Это правда, – сказал Мерсье.
Помолчав немного, Мерсье сказал:
– Тебя собаки не беспокоят?
– Почему он не вынимает? – сказал Камье.
– Не может, – сказал Мерсье.
– Почему? – сказал Камье.
– Одно из маленьких технических приспособлений природы, – сказал Мерсье. – Позволяет быть вдвойне уверенным, что осеменение состоялось.
– Они начинают верхом, – сказал Камье, – а кончают задом-наперед.
– А ты бы чего хотел? – сказал Мерсье. – Экстаз миновал, они жаждут разъединиться, пойти и пописать напротив почты или съесть кусочек дерьма. Но не могут. Вот и трутся задницами друг о друга. Ты на их месте делал бы так же.
– Деликатность удержала бы меня, – сказал Камье.
– И что бы ты делал? – сказал Мерсье.
– Изображал бы сожаление, – сказал Камье, – что не в состоянии незамедлительно возобновить столь сладостные непристойности.
– Помолчав немного, Камье сказал:
– Давай усадимся. Я себя чувствую совсем высосанным.
– Ты имеешь в виду, усядемся, – сказал Мерсье.
– Я имею в виду, усадимся, – сказал Камье.
– Ладно, – сказал Мерсье, – давай усадимся.
Трудяги принялись опять за свое, воздух наполнился криками удовольствия и боли, и более изысканными звуками тех, для кого жизнь исчерпала свои сюрпризы как с положительной, так и с отрицательной стороны. И дело шло все серьезнее. Дождь напрасно поливал изо всех сил, довольно было бы с него просто начинаться и начинаться, с пылом всего лишь не меньшим, чем если б небо оставалось голубым и безоблачным[5]5
Моя подруга, знающая по-русски англичанка, когда я, подозревая, что чего-то в этом абзаце не раскусил, попросил ее разъяснить мне его смысл, минут пять разглядывала буквы, потом покрутила в воздухе пятерней: «Ну это такой… вселенский траханий».
[Закрыть].
– Ты заставил меня ждать, – сказал Мерсье.
– Наоборот, – сказал Камье.
– Я пришел в девять ноль пять, – сказал Мерсье.
– А я в девять пятнадцать, – сказал Камье.
– Вот видишь, – сказал Мерсье.
– Ждать, – сказал Камье, – и заставлять ждать может иметь место только относительно предустановленного момента.
– И на сколько же мы с тобой, по-твоему, договаривались? – сказал Мерсье.
– Девять пятнадцать, – сказал Камье.
– Прискорбное заблуждение, – сказал Мерсье.
– В смысле? – сказал Камье.
– Ты не перестаешь меня удивлять, – сказал Мерсье.
– Объяснись, – сказал Камье.
– Я закрываю глаза и снова переживаю это, – сказал Мерсье, – твоя рука в моей, слезы наворачиваются мне на глаза, и звук моего дрожащего голоса. Да будет так, завтра в девять. Мимо проходит пьяная женщина, поет похабную песню и задирает юбку.
– Она вскружила тебе голову, – сказал Камье. Он достал из кармана блокнот, перелистал и прочел: – Понедельник 15, С. – Макариус, 9.15, С. – Руф[6]6
На самой подробной карте Дублина, какую только могла предоставить Библиотека иностранной литературы, нет таких мест: ни Сен– (или Сент-) Макариуса, ни Сен-Руфа. Соответственно историческая достоверность фельдмаршала Сен-Руфа начинает вызывать все большие сомнения. Они еще усиливаются, если принять во внимание, что во Франции воинского звания фельдмаршала никогда не существовало. Там были только маршалы. Фельдмаршал – чисто британский персонаж. Беккет, конечно, несмотря на свою общеизвестную эрудицию, с такими тонкостями мог и опростоволоситься – человек не обязан знать все на свете. Однако вот в романе «Моллой» встречается упоминание о нежной подруге героя, которая «была известна под мирным именем Руфь» – и никакого следа фельдмаршала. Совершенный образчик постмодернистской ситуации: приходится прочесть два-три толстых тома, и перекачать добрый гигабайт информации через Интернет, чтобы выяснить, что искал ты – чистый пшик, пустое место.
[Закрыть], забрать зонт в «У Хелен».
– И что это доказывает? – сказал Мерсье.
– Мою добросовестность, – сказал Камье.
– Правда, – сказал Мерсье.
– Мы никогда не узнаем, – сказал Камье, – во сколько мы договорились сегодня встретиться, так что давай оставим этот предмет.
– Только одно несомненно во всей этой неразберихе, – сказал Мерсье, – что мы встретились без десяти десять, в тот же миг, что и стрелки на часах, или, точнее, мгновением позже.
– Тут есть за что быть благодарным, – сказал Камье.
– Дождь еще не начинался, – сказал Мерсье.
– Утреннее рвение еще не остыло, – сказал Камье.
– Не потеряй, это перечень наших планов, – сказал Мерсье.
В это мгновение внезапно явился из ниоткуда первый представитель длинного ряда вредоносных существ. Тошнотворного зеленого цвета форма, вся в героических эмблемах и значках, подходила ему как нельзя лучше. Вдохновленный примером великого Сарсфилда[7]7
Патрик Сарсфилд (ум. 1693) – один из наиболее популярных ирландских героев. В Ирландии приветствовали восхождение на английский трон короля Якова II в 1685 году. Яков был католик, и с этим обстоятельством связывали большие надежды. Однако в 1688 англичане свергли Якова и предложили трон Вильгельму Оранскому, голландскому принцу. Яков бежал во Францию, но уже в следующем году высадился в Ирландии с французскими войсками, надеясь, что католики поддержат его и помогут ему вернуть трон. Протестанты заявили о своей лояльности Вильгельму и укрепили несколько городов.
В 1690 Вильгельм высадился в Карикфергесе, в графстве Антрим, с большой армией. Война была быстрой и решительной. Яков был разбит на реке Бойн и вернулся во Францию. Ирландцы и их французские союзники продолжали бороться. Но они снова были разбиты, при Огриме, и отступили в Лимерик. Граф Лукана Патрик Сарсфилд защищал город, но когда французская помощь не подошла, он сдался.
Всем ирландским солдатам, которые хотели этого, было позволено оставить страну, и несколько тысяч их отправились вместе с Сарсфилдом во Францию. Многие из них впоследствии завоевали славу на полях сражений в Европе.
Фамилия предводителя французских отрядов, участвовавших в этих войнах, была – Лозен (это все по поводу идентификации фельдмаршала – последние судороги).
[Закрыть], он безуспешно рисковал своей жизнью, защищая территорию, которая и как таковая оставляла его равнодушным, и в качестве символа вряд ли могла особенно волновать. У него была трость, одновременно элегантная и массивная, и порой он на нее даже опирался. Его мучили приступы в боку, боль отдавала в ягодицы и вверх, вдоль прямой кишки, глубоко во внутренности, так далеко на север, что достигала пилорического клапана, кульминируя, как и следовало ожидать, мочеточно-мошеночными спазмами с квазинепрерывным стремлением к мочеиспусканию. Уволенный по инвалидности с жалкой пенсией, отчего кислые взгляды чуть не всех тех, мужчин и женщин, с кем его ежедневно сводили обязанности и остатки доброжелательности, он порой чувствовал, что с его стороны было бы мудрее во времена великих потрясений посвятить себя домашним стычкам, гэльскому языку[8]8
Возрождение, в Ирландии, в противовес английскому, кельтского языка, сохранившегося к началу XX века лишь в нескольких отдаленных, в основном западных, районах страны – было одним из лозунгов, одной из программ ирландского националистического, патриотического движения, – движения почти такого же убогого, глупого и местечково-провинциального, как и современный русский патриотизм, но также обуревавшего все без исключения социальные слои Ирландии. Националистическая тема важна для Джойса – для Беккета все темы одинаково не– важны, кроме одной.
Любопытно, что вместе с тем в Ирландии, по крайней мере в отдельных местах, сохранялся и консервировался английский язык – так что порой становился диковинным, и в чем-то образцовым для самих англичан. У Джойса в «Портрете художника в юности» Стивен Дедал обсуждает со священником-иезуитом английское слово tundish, обозначающее всего лишь воронку для наливания жидкостей, и совершенно иезуиту-англичанину – как и англичанину современному – неизвестное. Надо полагать, не случайное совпадение, что тот же самый лексический раритет мелькнет чуть позже и в тексте «Мерсье и Камье».
[Закрыть], укреплению своей веры и сокровищам фольклора – вне всякого сравнения. И вреда здоровью было бы поменьше, и выгоды поопределеннее. Однако, насладившись сполна горечью таких мыслей, он гнал их прочь как недостойные. Его усы, некогда придававшие ему бравый вид, больше не справлялись со своей задачей. Время от времени, когда вспоминал, он начинал поминутно расправлять их, испуская струю вонючего дыхания, смешанного со слюной. Застыв на ступенях пагоды, с разинутым капюшоном, он метал туда-сюда взоры – то на Мерсье и Камье, то на собак. То на собак, то на Мерсье и Камье.
– Чейный там велосипед? – сказал он[9]9
Общее место мировой Беккетианы – акцент на том, что Беккет от произведения к произведению движется как бы путем последовательных отказов. Мы находим в его текстах все меньше конкретных предметов, все меньше движения и пространства, все меньше не связанных с речью особенных черт персонажей, – и, наконец, как известно, останется один-единственный рот на сцене, выговаривающий слова. Но интересно, что и первичный набор вещей и ситуаций, от которых Беккет будет далее последовательно избавляться, очень ограничен и легко поддается исчислению. Велосипед, инвалидное кресло на колесах (в нашем романе, правда, его нет), зонт, встреча с полицейским, никогда не оканчивающаяся арестом, сбивший человека автомобиль, смотрение за воду – это все кочует по пьесам и романам Беккета будто бы намерено для того, чтобы поактивнее истираться, тускнеть, быстрее развоплотиться.
«"Мерсье и Камье" – книга о добровольном изгнании, почти таком же, какое избрал для себя и сам Беккет. В то же время роман может быть прочитан как одиссея Беккета и других молодых ирландцев, которые уезжали в тридцатые годы в Париж (неожиданный новый выход на Сарсфилда – М. Б.), надеясь добиться такого же успеха, как их старший соотечественник Джеймс Джойс. Можно здесь усмотреть также изображение двух аспектов личности Беккета. До того, как Беккетт покинул Дублин, его легко можно было узнать на городских улицах по бесформенному, грязному плащу, на много размеров большему, чем необходимо. Ему досаждала возобновляющаяся идиосинкразическая киста (? – М. Б.). После того, как он разбил свою собственную машину, у него были постоянные проблемы с велосипедом. Как-то, будучи пьяным, он потерял свою любимую шляпу, которую долго потом оплакивал.» (Дейрдре Бэр. «Пока ожидается Годо»)
Кстати, велосипеды – практически действующие лица в весьма резонирующем с беккетовскими текстами романе другого ирландца (и такого же оптимиста) Флэнна О'Брайена «Третий полицейский».
[Закрыть].
– Можно было бы обойтись и без этого, – сказал Камье.
– Убрать, – сказал смотритель.
– Это может оказаться забавным, – сказал Мерсье.
– Чейные это собаки? – сказал смотритель.
– Не вижу, как мы можем оставаться, – сказал Камье.
– Интересно, не тот ли это щелчок, который нам необходим, чтобы тронуться, наконец, в дорогу? – сказал Мерсье.
Смотритель взошел по ступеням укрытия и столбом стал в дверном проеме. Воздух тотчас потемнел и сделался еще более желтым.
– По-моему, он собирается нас атаковать, – сказал Камье.
– За тобой яйца, как обычно, – сказал Мерсье.
– Дорогой сержант, – сказал Камье, – что именно мы можем для вас сделать?
– Велосипед видите? – сказал смотритель.
– Я не вижу ничего, – сказал Камье. – Мерсье, ты видишь велосипед?
– Ваш? – сказал смотритель.
– Что-то, чего мы не видим, – сказал Камье, – существование чего утверждают только ваши слова, как мы можем говорить, наше это или чье-нибудь еще?
– С чего ему быть нашим? – сказал Мерсье. – Разве эти собаки наши? Мы видим их сегодня в первый раз. А вы еще будете настаивать, что велосипед, если предположить, что он существует, наш? Но собаки не наши.
– Накласть на собак, – сказал смотритель.
Но, словно сам себя опровергая, он накинулся на них и с проклятиями выгнал, палкой и пинками, из пагоды. Отступление их, все еще связанных узами пост-коитуса, было делом нелегким. Ибо равные усилия, которые они совершали, чтобы убежать, прилагались в противоположных направлениях и не могли не компенсировать друг друга. Должно быть, они очень страдали.
– Вот он и наклал на собак, – сказал Мерсье.
– Из укрытия-то он их выгнал, – сказал Камье, – нельзя отрицать, но отнюдь не из сада.
– Дождь скоро размоет их, – сказал Мерсье. – Не будь они такими зашоренными, они бы додумались до этого сами.
– Фактически он оказал им услугу, – сказал Камье.
– Давай будем к нему подобрее, – сказал Мерсье. – Он герой великой войны. Мы тут, на безопасной обочине истории, в полный рост себе онанировали и могли не бояться, что нам кто-нибудь помешает, а он ползал во фландрской грязи и гадил себе в портянки.
Чтобы не делать никаких выводов из этих пустых слов, Мерсье и Камье были ребята тертые.
– Хорошая мысль, – сказал Камье.
– Обрати внимание на звон медалей, – сказал Мерсье. – Представляешь, сколько за этим галлонов поноса?
– Смутно, – сказал Камье. – Насколько способен страдающий запором.
– Предположим, этот утверждаемый велосипед наш, – сказал Мерсье. – Что тут плохого?
– Довольно притворяться, – сказал Камье. – Он наш.
– Убирайте его отсюда, – сказал смотритель.
– Наконец занялся день, – сказал Камье, – после стольких лет ни то ни се, нерешительности и колебаний, когда мы должны идти, неведомо куда, чтобы, возможно, никогда уже не вернуться… живыми. Он занялся, а теперь мы просто ждем, чтобы еще и развиднелось немного, а там уж полным ходом вперед. Попробуйте понять.
– К тому же, – сказал Мерсье, – еще есть одна вещь, которую, пока не поздно, надо обдумать.
– Вещь обдумать? – сказал Камье.
– Именно так, – сказал Мерсье.
– Я думал, все вещи уже обдуманы, – сказал Камье, – и все в порядке.
– Не все, – сказал Мерсье.
– Будете убирать или нет? – сказал смотритель.
– Вы корыстны? – сказал Мерсье. – Если уж вы глухи к голосу разума.
Молчание.
– От вас можно откупиться? – сказал Мерсье.
– Определенно, – сказал смотритель.
– Дай ему шиллинг, – сказал Мерсье. – Подумать только, первая же наша трата должна стать уступкой взяточничеству и вымогательству.
Смотритель с проклятиями исчез.
– Какие они все одинаковые, – сказал Мерсье.
– Теперь он будет рыскать вокруг, – сказал Камье.
– Какое это может иметь для нас значение? – сказал Мерсье.
– Мне не нравится быть обрыскиваемым, – сказал Камье.
Мерсье возразил против такого оборота. Камье стоял на своем. Эта маленькая игра быстро надоела. Было, должно быть, около полудня.
– А теперь, – сказал Мерсье, – пришло время и для нас.
– Для нас? – сказал Камье.
– Точно, – сказал Мерсье, – для нас, для серьезных дел.
– Как насчет того, чтобы перекусить? – сказал Камье.
– Сперва мысли, – сказал Мерсье, – потом пища.
Последовали долгие дебаты, прерывавшиеся долгим молчанием, во время которого имели место мысли. В подобные моменты они достигали, бывало, то Мерсье, то Камье, таких медитативных глубин, что голос одного, возобновляющий медленное свое течение, бессилен был вернуть обратно другого, или оставался вовсе неуслышанным. Или, бывало, они приходили одновременно к выводам зачастую противоположным, и одновременно начинали на них настаивать. Нередко случалось одному впасть в задумчивость еще до того, как другой сделает выводы из своего экспозе. И были моменты, когда они подолгу смотрели друг на друга, не в состоянии вымолвить ни слова, два темных, пустых сознания. После одного из этих оцепенений они решили до поры отказаться от своих изысканий. Время порядком продвинулось, дождь все еще продолжался, короткий зимний день волочился к концу.
– Провизия у тебя, – сказал Мерсье.
– Наоборот, – сказал Камье.
– Действительно, – сказал Мерсье.
– У меня голод прошел, – сказал Камье.
– Нужно есть, – сказал Мерсье.
– Не вижу смысла, – сказал Камье.
– У нас впереди еще долгий и тяжелый путь, – сказал Мерсье.
– Чем скорее наступит конец, тем лучше, – сказал Камье[10]10
Столь существенная для Беккета «запрограммированность» его героев на неудачу, провал, гибель – любых начинаний, всей жизни, – в середине семидесятых годов двадцатого века станет характернейшей чертой новой, сперва субкультурной, эстетики. Посему мерещится такой заголовок статьи где-нибудь в «Литературном обозрении Supernova»: «Сэмюэл Беккет – последний модернист или первый панк?».
[Закрыть].
– Действительно, – сказал Мерсье.
Голова смотрителя возникла в дверях. Хотите верьте, хотите нет, видна была только его голова. И она хотела сообщить, в присущей ему затейливой манере, что за пол-кроны они вольны остаться на ночь.
– Теперь вещь обдумана? – сказал Камье. – И все в порядке?
– Нет, – сказал Мерсье.
– А когда-нибудь будет? – сказал Камье.
– Хотелось бы верить, – сказал Мерсье. – Да, я верю, не твердо, нет, но я верю, да, день придет, когда все будет в порядке наконец.
– Это будет восхитительно, – сказал Камье.
– Будем надеяться, – сказал Мерсье.
Долгим взглядом посмотрели они друг на друга. Камье сказал себе: «Даже его я не могу выносить». Такая же мысль волновала и его визави.
Два пункта представлялись все же установленными в результате их совещания:
1. Мерсье отправляется один, на колесах, в плаще. Где бы он ни остановился на ночлег, в первом же подходящем месте, он все подготовит к прибытию Камье. У Камье остается зонт. Сак не упоминается.
2. Вышло так, что Мерсье до сих пор проявлял себя живым и энергичным, Камье – мертвым грузом. Следовало ожидать, что в любой момент положение может перемениться. Так на менее слабого пусть обопрется слабейший, чтобы путь продолжать. Вместе они, возможно, сумеют быть доблестны. Во что верится, конечно, с трудом. Или же великая слабость может овладеть ими одновременно. Да не поддадутся они в таком случае отчаянию, но будут с верою ждать, покуда минет тяжелое время. Несмотря на туманность этих выражений, они друг друга поняли, более или менее.
– Не зная, что и думать, – сказал Камье, – гляжу я вдаль.
– Вроде бы рассеивается, – сказал Мерсье.
– Солнце появилось наконец, – сказал Камье, – чтобы мы могли полюбоваться, как оно опускается за горизонт.
– Этот долгий миг яркости, – сказал Камье, – с его тысячью оттенков, всегда трогает мое сердце.
– Закончен изнурительный дневной труд, – сказал Камье, – что-то вроде чернил поднимается на востоке и заливает небо.
Объявляя конец рабочего времени, прозвонил колокол.
– Мне видятся неясные, расплывчатые фигуры, – сказал Камье, – они появляются и проходят с приглушенными возгласами.
– У меня тоже есть чувство, – сказал Мерсье, – что с самого утра мы не оставались без наблюдения.
– А сейчас мы, случаем, не одни? – сказал Камье.
– Я никого не вижу, – сказал Мерсье.
– Тогда пошли вместе, – сказал Камье.
– Они вышли из укрытия.
– Сак, – сказал Мерсье.
– Зонт, – сказал Камье.
– Плащ, – сказал Мерсье.
– У меня, – сказал Камье.
– Больше ничего? – сказал Мерсье.
– Я больше ничего не вижу, – сказал Камье.
– Я все возьму, – сказал Мерсье, – а ты позаботься о велосипеде.
Это был женский велосипед, и, к сожалению, без свободного хода. Чтобы затормозить, крутили педали в обратную сторону. Смотритель, связка ключей в руке, следил, как они удаляются. Мерсье держался за руль, Камье за седло. Педали поднимались и опускались.
Он послал проклятия им вслед.