Поэтические поиски и произведения последних лет
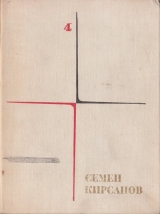
Текст книги "Поэтические поиски и произведения последних лет"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
ПРИЗНАНИЯ (1969–1972)
«Я ищу прозрачности…»БЕССТРАШЬЕ
Я ищу прозрачности,
а не призрачности,
я ищу признательности,
а не признанности.
«ВЕЧНОСТЬ»
Бессмертья нет —
и пусть!
На кой оно – «бессмертье»?
Короткий
жизни спуск
с задачей соразмерьте.
Призна́ем,
поумнев:
ветшает и железо!
Бесстрашье —
вот что мне
потребно до зареза.
Из всех известных чувств
сегодня,
ставши старше,
я главного хочу:
полнейшего
бесстрашья —
перед пустой доской
неведомого
завтра,
перед слепой тоской
внезапного
инфаркта;
перед тупым судьей,
который
лжи поверит,
и перед злой статьей
разносного,
и перед
фонтаном артогня,
громилою
с кастетом
и мчащим на меня
грузовиком
без света!
Встречать,
не задрожав,
как спуск аэроплана —
сниженье
тиража
и высадку из плана.
Пусть рык
подымут львы!
Пусть под ногами пропасть
(Но – в области
любви
я допускаю робость.)
Бессмертье —
мертвецам!
Им – медяки на веки.
Пусть прахом
без конца
блаженствуют вовеки.
О, жизнь,
светись, шути,
играй в граненых призмах,
забудь,
что на пути
возникнет некий призрак!
Кто сталкивался с ним
лицом к лицу,
тот знает:
бесстрашие
живым
бессмертье заменяет.
ХОЧУ РОДИТЬСЯ
Недолговечна вечность.
Во имя человечности
мы молим: —
Не увечь нас,
недолговечность вечности!
Мы молим —
длиться дольше
мгновение блаженное.
О, стиль «нуова дольче»,
о, всплеск воображения!
Продлиться,
ах, продлиться! —
все жаждет, все хлопочет:
жучки,
медузы,
листья,
и человек,
и общество.
И статуи,
и мумии,
и завещаний вещность —
все просит,
молит,
думает:
как влезть вот в эту вечность?
Завидуем —
что выжило?
Шекспир! Его не видно ли!
А «вечность» —
неподвижна, —
ее мы сами выдумали.
ПРОЗРЕНИЕ
Хочу родиться дважды,
а если можно —
трижды,
но жить
не в стаде жвачных,
такой не мыслю жизни.
Но кстати —
если в стаде,
то в табуне степном,
где ржанье,
топот,
стати
и пыль под скакуном.
Кабы такие б лица,
где из ноздрей —
огонь!
Где бой за кобылицу —
в смерть загоню —
не тронь!
Хочу родиться дважды,
чтоб пена на боках,
но ни за что —
в упряжке
на скачках и бегах.
МОЙ ПРЕДОК
Я не хочу
быть дервишем,
что пляшет
перед фетишем
с веригами
под вретищем
и препоясан
вервищем.
Ни – с облака
сошедшим,
дабы глаголом
жечь,
ни – древним
сумасшедшим
провидцем
из предтеч.
Хочу я только
трезвости
отточенных
остро́,
по-медицински
режущих,
как в анатомке,
строк.
И зренья,
только зренья —
в глубинный
жизни слой.
При этом всем —
прозрение
придет
само собой.
ХУДОЖНИК
Мой предок пещерный!
Ты – я.
Я факт твоего бытия.
Мы признаки сходства несем
в иероглифах
хромосом,
где запрограммировал
ты
бесчисленных внуков черты.
И если я ныне живу —
то значит:
ты был наяву;
ты бился,
ты подлинно был,
ты шкуру у волка добыл;
ты камень калил докрасна
у первого в мире
костра,
чтоб я
не замерз, не продрог,
чтоб выжить и вырасти мог
и как воплощенье твое —
свое
ощутил
бытие!
И пусть,
когда няням вручат
твоих пра-пра-пра-правнучат, —
я буду, как соль, растворен
в бегущих
из разных сторон
в мальчишках
и в девочках всех
и вкраплен в их игры и смех.
Я буду присутствовать в них
мильярдом
твоих составных
частиц,
составлявших меня
до вздоха последнего дня.
И дней твоей жизни
не счесть,
пока человечество есть!
ФОКУСНИК
Художник —
этакий чудак,
но явно
с дарованьем,
снимает нежилой чердак
в домишке деревянном.
Стропила ветхи и черны
в отрепьях паутины,
а поздней ночью
у стены
шуршат его картины.
Картины странного письма
шуршат,
не затихая:
– Ты кто такая?
– Я сама
не знаю, кто такая…
Меня и даром не продашь,
как «Поле на рассвете».
Я не портрет,
я не пейзаж,
но я живу на свете.
Другая застонала:
– Нет,
ты все же чем-то «Поле»,
а я абстрактна,
я портрет
неутолимой боли…
А третья:
– Это все одно,
портреты или виды.
Вот я – пятно,
но я пятно
на сердце, от обиды.
Четвертая:
– Пусть обо мне
твердят, что безыдейна.
Но я пейзаж
души во сне,
во сне без сновиденья.
И пятая:
– Кто любит сны,
меня же тянет к спектру,
и я —
любовь голубизны
к оранжевому цвету.
Шестая:
– Вряд ли мы поймем,
что из-под кисти выйдет,
зато меня
в себе самом
всю ночь художник видит.
Я в нем живу,
я в нем свечусь,
мне то легко,
то трудно
от красками плывущих чувств,
хотя я холст без грунта.
Его задумчивых минут
ничем я не нарушу, —
пусть он сидит,
глазами внутрь
в свою цветную душу.
ВОЛШЕБНИК
Я бродячий фокусник,
я вошел во двор,
расстелил я
с ловкостью
редкостный ковер.
Инвалиды,
школьники,
чем вас удивить?
Вот червонцы новенькие
начал я ловить.
Дворничихи в фартуках,
гляньте из око́н:
вот я
прямо с факела
стал глотать огонь.
Вот обвился лентами
всех семи цветов,
вот у ног
по-летнему
вырос сад цветов.
Видите ли, видите ли —
сдернул с головы…
Из цилиндра вылетели
голуби —
лови!
Я взмахнул похожим на
веер голубой
и поднос
с пирожными
поднял над собой.
А богат я сказочно,
разодет,
как шах…
Но это только кажется, —
у меня в руках
никакого голубя,
никаких монет —
только пальцы
голые,
между ними – нет
ни ковра,
ни веера,
ни глотков огня…
Только мысль,
чтоб верила
публика – в меня!
СЕРДЦЕ
Остыл мой детский пыл,
заброшены учебники, —
я фокусником был
и поступил
в волшебники.
Волшебнику – трудней!
Теперь уже не детство ведь.
Он без воскресных дней
обязан
чудодействовать.
В созвездиях до пят
он должен —
делать нечего! —
как врач-гомеопат
буквально все излечивать.
Он должен превращать
простую глину
в золото,
он должен возвращать
согбенным старцам
молодость.
Чтоб с духами стихий
устраивать свидания,
должны мои стихи
звучать,
как заклинания.
Но раз я взял себе
волшебную обязанность, —
я должен,
чтоб и бес
вдруг возникал под занавес.
И чтобы сатана
с пером
над красной шляпою
в хромых своих штанах
пел арию Шаляпина.
Свет адского огня
дымится, пляшет, искрится!..
Но Гретхен
на меня
не смотрит даже искоса.
ОЧКИ
На яблоне
сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко
сквозной червоточиной
высверленное!..
Но может случиться немыслимое:
раскинется
райская ярмарка
с продажею всякого яркого.
В лотках —
плодородье бесчисленное.
Все яблоки —
с детскими ямками!
И вдруг ты заметишь
на ярмарке
мое – ни одной червоточины,
румянец,
не тронутый порчею…
И гладишь рукою утонченной.
И нет —
не отбросила прочь его,
но яблоко в радужных капельках
на ветке, увешанной листьями,
мое —
выбираешь из прочего.
Но это же
чудо немыслимое!
Окончилась райская ярмарка.
На яблоне
сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко…
ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Сновиденье
явилось извне,
заложило
две линзы в ресницы.
Но к чему
эти призраки мне?
И могло ли
такое присниться:
Будто вышел
на улицу я,
оказался
в потоке прохожих.
Мимо двигалась
лиц толчея,
лиц,
одно на другое похожих.
Чем? —
Я понял.
Исчезли зрачки.
Ни единого взор
а и взгляда.
Лишь очки,
и очки,
и очки…
Но зачем
и кому это надо?
У одних —
непрозрачно блестя,
нечто черное
было надето.
Им —
игравшее мило дитя
представлялось
досадным предметом.
Им казалось —
все лица грязны,
и на мрачные
их низколобья
чистый снег
молодой белизны
опускал
мутно-черные хлопья.
У других —
эти стекла могли
все показывать
в розовом свете.
Даже окон подвальных
углы
красовались,
как розы в расцвете.
Их носивший
был всем умилен,
как немедленно
после получки.
Ящик с мусором
и утилем
превращался
в «Привет из Алушты».
Некто шел
и на каждом из лиц
останавливал
строгое зренье:
вроде камеры
сдвоенных линз
он носил
два стекла подозренья.
А другой —
на тревожных глазах,
чтоб никто
не заглядывал в душу, —
в два овала
оправленный страх
перед каждым
навстречу идущим.
Шел один,
никакой не злодей,
и очки не казались
зловещи,
но он ими не видел
людей, —
только вещи,
витринные вещи!
Я потрогал свои —
и нашел
вместо яблок
в орбитах скользящих
нечто вроде
оптических шор,
искажающий зрение
ящик.
Я же знаю,
что вижу и лгу
сам себе
и что все непохоже!
А вот шоры
сорвать не могу, —
так срослись
с моей собственной кожей.
О, товарищи,
люди,
друзья,
поскорей
свои очи протрите,
отворите,
разденьте глаза
и без стекол
на мир посмотрите!
Этот мир
не лишен красоты,
иллюзорны испуг
и угрозы, —
может быть,
мы добры и просты,
и под стеклами
теплятся слезы?!
«ЛЮБЕЗНОСТЬ»
В ночь,
бессонницей обезглавленную,
перед казнью
моей любви
я к тебе простираю
главную
заповедь:
«Не убий!»
Не убий
ни словом,
ни взглядом!
Ни вдали,
ни когда мы рядом.
Беатриче,
Лаура,
Лючия, —
адом Данте
и всем, что мучило,
и дуэлью
среди снегов,
и шинелью,
снятой с него
секундантами
на опушке,
на могиле, —
Наталия Пушкина,
заклинаю,
ступни обвив:
не убий,
не убий любви!
Ни открыто,
ни мысленно
не убий!
Ни безжалостию,
ни милостыней
не убий!
Лаура моя,
дорогая моя,
целуемая
и ругаемая,
но под солнцем и звездами
лучшая,
Беатриче,
Наталия,
Лючия,
милосердная
и жестокая,
аще столько я
претерпел
в сей День седьмый,
умоляю тя:
не убий!
Не сбивавшего
цвет с растения,
не замешанного
в растлениях
и в терзавших
Спасителя
терниях,
не виновного —
не убий!
Умоляю тя:
пощади
во мне
дитя!
Не казни
своего дитяти —
сердца
в люльке моей души,
не круши его,
не убей,
как нельзя казнить
голубей.
Не должна
подлежать петле
белка,
дремлющая в дупле,
и стучащий о древо
дятел,
и катающийся у ног
щенок,
кенгуренок,
залегший в чрево,
и скользящий травою
уж,
и дельфин,
мореходец быстрый,
и червяк дождевой
у луж
не должны
подлежать убийству, —
пусть живут,
пусть летят,
плывут…
А любовь —
ведь твое дитя, —
не казни,
умоляю тя!
В смертной камере
одиночества
и стеная
наедине —
при бессоннице,
среди ночи встав,
я хожу
от стены к стене,
на тюремном полу
в персти
простираю к тебе
персты…
Ни одной обиды
не помнящий,
ожидающий
скорой помощи,
если я позову —
«приди»,
ты приди
и коснись груди,
где любовь лепечет —
«жива еще»,
и скажи: —
Человек, гряди!
Я гряду,
почти умирающий,
подымая,
как веки Вий,
руки слабые,
умоляющие:
– Не убий любви,
не убий!..
КЛЕТКА
Любезность —
не любовь.
А ну ее, «любезность»!
Живут,
не хмуря лбов,
любезные – и бе́з нас.
Лобзать
и не любить?
И лебезить при этом?
Я не любитель
быть
объятий их объектом.
Спасающая нас
любовь —
не резонерство,
и в самый тяжкий час
любезность
резанет вас.
Любезность —
лишь под цвет
любовей настоящих, —
вбегающих
чуть свет
и для тебя не спящих;
не смеющих
тебя
в опасный час покинуть,
готовых
хоть с себя
жизнь,
как рубашку, скинуть
Таких —
в нужде,
в войне —
хочу я видеть снова,
не говорящих
мне
любезного – ни слова!
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Щеглы попали в клетку.
Ко мне привел их путь.
Но я задумал —
к лету
свободу им вернуть.
Грустят в тюремном быте
с приятелем щегол.
Я тоже не любитель
задвижек и щеколд.
И птицам нет расчета.
Неволя —
не житье.
Решетка есть решетка,
хоть золоти ее.
Уже весной запахло,
ручьи по мостовой,
снежинка стала каплей,
и стужа теплотой.
Окно раскрыл я настежь,
и клетку я раскрыл.
Стою и жду.
Так нате ж, —
не расправляют крыл!
Свобода, братцы!
Солнце!
Природа так щедра!
Я взял
и за оконце
подбросил вверх щегла.
Летите,
мчитесь вместе
к друзьям своим лесным!
Смотрю —
один на месте,
смотрю —
второй за ним,
и ну, к кормушке —
пичкать
зерном свои зобы.
…Привычка
есть привычка
к превратностям судьбы.
СЛУЧАЙ
А ведь момент
действительно течет,
а не мелькает.
Медленно и долго
течет момент,
как маленькая Волга,
и в вечность
все явления влечет…
Его частиц
непознаваем счет,
и может в нем теряться,
как иголка,
частица счастья,
и крупица долга,
и боль,
что сердце надвое сечет.
Чушь!
Не течет момент.
И течь не должен.
Ни с места он
и вечно недвижим,
как лед,
который лыжами заскольжен.
Не убавляем он,
не растяжим,
не начат никогда
и не продолжен.
А это мы —
скользим,
течем,
бежим…
НАД КОРДИЛЬЕРАМИ
Садился старичок в такси,
держа пирог
в авоське,
и, улыбнувшись сквозь усы,
сказал: —
До Пироговской.
Он как бы смаковал
приезд
и теплил умиленье,
что внучка
пирога поест
и сядет на колени…
Три рослых парня
у такси
рванули настежь дверцу
и стали
старичка тащить
за отворот у сердца.
За борт
авоську с пирогом
и старичка туда же,
и с трехэтажным матюгом!
– Жми, друг,
куда покажем!
Стоял свидетель
у столба,
как очередь живая,
он что-то буркнул
про себя,
сей факт переживая.
Прошло
прохожих штуки три
в трех метрах от машины,
но что в них делалось
внутри —
как знать? —
они спешили.
Ждала их служба
или флирт? —
гадать считаю лишним,
а может, в них
бурлил конфликт
общественного с личным?
Про этот случай
рассказал
мне продавец киоска;
он видел,
как старик упал
и с пирогом авоська.
Он возмущался
громко, вслух,
горел, как сердце Данко,
но не вмешался,
так как лук
отвешивал гражданкам.
Затем явился
некий чин,
пост на углу несущий,
и молвил:
– Стыдно, гражданин
уже старик, а пьющий.
ВАЛЬПАРАИСО
Водопадствуя,
водопад
низвергается,
как низверженный,
и потоки его
вопят —
почему они
не задержаны!
Темный хаос
земных пород
в глубочайших рубцах и трещинах.
Самолетствуя,
самолет
прорывается в тучи встречные.
И пока
самолет орет
турбодвигателями всесильными —
распластавшись внизу,
орел
кордильерствует над вершинами.
А по каменным
их краям,
скалы бурной водой окатывая,
океанствует
океан,
опоясав себя экватором.
Горизонствует
горизонт,
паруса провожая стаями.
Гарнизон,
где жил Робинзон,
остается необитаемым.
И пока на аэропорт
по кругам
самолет снижается —
книга детства в душе поет
и, как сладкий сон,
продолжается.
Початок золота и маиса —
Вальпараисо, Вальпараисо,
спиною к Андам,
лицом к воде —
тебя я видел,
но где, но где?
Вальпараисо, Вальпараисо!
А может быть,
я и здесь родился?
где пахнет устрица,
рыба,
краб,
где многотонный стоит корабль?
А может быть,
я родился дважды,
у Черноморья (как знает каждый
и также здесь,
у бегущих вниз
домов – карнизами на карниз?
Вальпараисо, Вальпараисо,
ты переулками вниз струишься,
за крышей крыша,
к морской воде,
тебя я видел
и помню – где.
Тюк подымает
десница крана —
Одесса Тихого океана.
Взбегает грузчик,
лицо в муке,
моряк за стойкою в кабаке.
Все так привычно,
все так знакомо,
а может, я не вдали,
а дома?
Пора рыбачить,
пора нырять,
и находить
и опять терять…
Но на таинственный
остров Пасхи
глядят покрытые медью маски,
и странно смотрит
сквозь океан
носатый каменный истукан.
И черноморский скалистый берег,
и побережия
двух Америк,
и берег Беринговый нагой —
все продолжают
один другой.
Вальпараисо, Вальпараисо!
О, пряность мидий
в тарелке риса,
о, рыб чешуйчатые бока,
о, танец
с девушкой рыбака!
И в загорелых руках гитара,
и общий танец
Земного шара,
и андалузско-индейский взор
в едином танце
морей и гор!








