Поэтические поиски и произведения последних лет
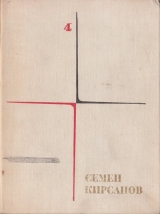
Текст книги "Поэтические поиски и произведения последних лет"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
НАБРОСОК
Я слов таких
не изрекал, —
могу и ямбом
двинуть шибко
тебе,
любовный мадригал,
о, ундервудная машинка!
Мое перо,
старинный друг,
слети,
воробушком чирикнув,
с моих
невыпачканных рук
чернил
рембрандтовой черникой.
И мне милей,
чем лучший стих
(поэзия
нудна, как пролежнь!),
порядок звуков
Й I У К Е Н Г Ш Щ З Х,
порядок звуков
Ф Ы В А П Р О Л Ы Д Ж.
Я осторожно
в клавиш бью,
сижу не чванно,
не спесиво,
и говорит мне,
как «спасибо»,
моя машинка:
Я Ч С М И Т Ь Б Ю.
Чернильный образ жизни
стар.
Живем
ЦАГИ и Автодором.
И если я —
поэт-кустарь,
то все-таки
кустарь с мотором!
ОХОТА НА ТЮЛЕНЯ
Под кирпичного стеною
сплю я ночью ветряною
(тут и гордость,
тут и риск!).
Что мне надо спозаранок?
Пара чая, да баранок,
да конфетка —
«барбарис».
Каждый утренний трактир
хрупким сахаром кряхтит,
в каждой чайной
(обычайно!)
чайка чайника летит…
Это зрелость? Или это
только первая примета?
Обхожу я скверики,
подхожу к Москве-реке —
по замерзшей по реке
я гуляю, распеваю
на одесском языке!..
Это юность? Или это
свойство каждого поэта?
Все, что было, – за плечом,
все, что было, – молния!
Нет! Не вспомню ни о чем,
на губах – безмолвие…
Я родился, как и вы,
был веселым мальчиком,
у садовой у травы
забавлялся мячиком…
Это детство? Или это
промелькнувшая комета?
Так живи, живи, поя,
в сердце звон выковывая,
дорогая жизнь моя,
дудочка ольховая!
(Из Р. Киплинга)
БАЛЛАДА С АККОМПАНЕМЕНТОМ
За нами игольчатый стынет день,
и инеем стянут мех.
Мы пришли, и с нами – тюлень, тюлень,
оттуда, где лед и снег.
«Ауджана! Агуа! Ага! Га́ук!»[1]1
Посыл погонщика собак.
[Закрыть]
И воющих псов ошалелый бег,
взлетает хлыст, и свист, и гавк —
туда, где лед и снег.
До проруби мы проползли за ним,
за ним, протирая мех;
мы поставили знак и его стерегли,
пока он не выполз на снег.
Он выполз дышать, мы метнули копье,
и был его вой, как смех…
Забаве конец! Он убит, – и лег
брюхом на лед и снег.
Сияние льдин слепит глаза,
и снег навис у век,
и мы возвращаемся к женам назад,
оттуда, где лед и снег.
«Ауджана! Агуа! Ага! Га́ук!»
И псов ошалелый бег,
и женщинам слышен собачий гавк —
оттуда, где лед и снег.
ПОЛОНЕЗ
Черной тучей вечер крыт,
стынет ночь – гора.
Ждет мило́го Маргарита,
ри,
та-ри,
та-ра.
Он высок, румян и прям,
он алей зари,
он соперничал с утрами,
трам,
та-ра,
та-ри.
Не придет он, не придет
(слышен скрип пера), —
спят тюремные ворота,
ро,
та-ро,
та-ра.
Темной ночью зол и хмур:
«Казни ночь – пора!» —
приказал король Готура,
ту,
ру-ру,
та-ра.
Сотни зорь алей рубах,
блеск от топора,
не сдержать бровей от страха:
трах!..
Ти-ри,
та-ра.
…Звезды в круг. Свеча горит.
В двери стук. Пора!
(Плохо спалось Маргарите.)
Ри,
ти-ри,
та-ра.
(Музыкальный ящик с марионетками)
МОРСКАЯ-СЕВЕРНАЯ
Панна Юля,
панна Юля,
Юля, Юля Пшевская!
Двадцать пятого
июля
день рожденья чествуя, —
цокнут шпоры,
очи глянут,
сабля крикнет:
«Звяк!» —
Подойду
да про́шу панну
на тур
краковьяк!
Дзанг
да зизи́, —
гремит музыка
па-па, —
хрипит
труба.
По паркету
ножка-зыбка
вензелем
выписывает па!..
Вот вкруговую скрутились танцы
левою ножкой
в такт.
И у диванов – случайных станций —
вдруг поцелуй
не в такт.
И в промежутках любовные стансы, —
Юля направо,
так?
– Юля, в беседке, в десять, останься! —
Словно пожатье:
– Так!
Бьют куранты десять часов.
– Юля, открой засов!
Полнится звоном плафона склон:
лунь
всклянь.
Лень,
клюнь
клен…
Вот расступились усадьбы колонны,
парк забелелся, луной обеленный.
Вот расступились деревья-драгуны,
ты в содроганье – страх перед другими.
Вот расступились деревья-уланы
(«Где мой любимый, где мой желанный?»).
То побледнеет, то вдруг зардеется,
вот расступились деревья-гвардейцы.
Месяц блистает шитьем эполета,
Юлька-полячка встречает поэта.
Плащ, как воскрылье воронье,
шпагу сквозь пальцы струит;
справа – с бичами Ирония,
Лирика слева стоит.
– Здравствуй, коханый! —
Взглянула в лицо:
– Цо?
Цо не снимает
черный жупан
пан?
С Юлею коханому не грустно ли?
Пальчики сухариками хрустнули.
За́ руки
коханую,
за руки,
за талию,
сердце-часы
звон перекрути!
За руки,
за талию
милую,
хватай ее,
шелковые груди
к суконной груди!
Выгнув пружинный затылок,
я на груди разрываю
рук, словно винных бутылок
цепкость, – огнем назреваю.
Руки, плечи, губы…
Ярость коня —
астма и стенанье
в пластах тел…
– Пан версификатор,
оставьте меня,
я вас ненавижу!
Оставь-те!..
– Юлька, Юлия, что же вы чудите?
Сами же, сами же по шелковой груди и
дальше моею рукою, как учитель
чистописания, – водили, водили…
Вам бы, касатка, касаться да кусаться,
всамделе, подумаешь? Чем удивили!
Взглядом, целомудрием? Может показаться,
будто это в фарсе, будто в водевиле,
будто это в плохеньком пустом кинематографе,
будто опереточный танцор да балерина,
руку раскусили, посмотрите, до крови,
спрячьте лиф за платье, вот вам пелерина!..
Встала, пошатнулась.
Пошла, пошатнулась.
Растрепанные волосы,
надорванный голос и
у самого крылечка
странная сутулость…
– Кралечка, Юлечка,
дай мне колечко,
может, мы еще раз
перейдем крылечко,
может быть, все-таки
в этой вот беседке,
если не любовники,
то просто, как соседки
встречаются на рынке —
как старые знакомые,
по чести, по старинке!
Тихо повертела на пальце кольцо,
подняла носок, но обратно отставила.
Трудно, как заклятое, перейти крыльцо,
трудно, как от сладкого, отойти от старого?
Трудно, как от… Краля! Белая, растрепанная,
что же ты придумала? Кинулась и плюхнулась
на шею, до слез растроганная:
– Любишь? Неужели! – Милая! Люблю!..
Беседка наклоняется ниже, ниже,
темнота и шепот в беседковой нише.
А из дому куранты склянками в склон:
лунь
всклянь.
Плен,
склеп,
клен…
БУКВА М
К морю Белому, к морю бурному,
к полуострову, к порту Мурману
Двиной Северной, рекой пасмурной,
братьев – семеро, плыть опасно вам.
Рыбакам, кам-кам,
наплывала сельдь,
наплывал вал-вал
голубой,
по бортам, там-там,
распластали сеть,
нам висеть, сеть-сеть,
над водой.
Молодым, дым-дым,
хорошо, скользя
на челнах, ах-ах,
в глубину, —
я синей, ей-ей,
загляну в глаза,
на волну, льну-льну,
ледяну.
Ты не морщь, морж-морж,
золотых бровей,
подползи, лзи-лзи,
к кораблю.
Эти льды-льды-льды
широко проверь,
где тюлень, лень-лень,
белобрюх.
Гуды, охните, птицы, каркните-ка:
это Арктика, наша Арктика.
Небо веером, пышут полосы:
мы на полюсе, нашем полюсе!
Отошел шелк-шелк
ледяных пород
и на лед лег-лег,
поалев,
возведем дом-дом
и пойдем вперед,
где флажок жег-жег
параллель.
Надо влезть, «есть, есть!» —
закричать шумней
и за ним дым-дым
потянуть,
отплывет флот от
голубых камней,
чтоб дымок мог-мог
утонуть…
МОЯ ВОЛНА
Малиновое М —
мое метро,
метро Москвы.
Май, музыка, много молодых москвичек,
метростроевцев,
мечутся, мнутся:
– Мало местов?
– Милые, масса места,
мягко, мух мало!
Можете! Мерси… —
Мрамор, морской малахит, молочная мозаика —
мечта!
Михаил Максимыч молвит механику:
– Магарыч! Магарыч! —
Мотнулся мизинец манометра.
Минута молчания…
Метро мощно мычит
мотором.
Мелькает, мелькает, мелькает
магнием, метеорами, молнией.
Мать моя мамочка!
Мирово́!
Мурлычет мотор – могучая музыка машины.
Моховая!
Митя моргнул мечтательной Марусе!
– Марь Михална, метро мы мастерили!
– Молодцы, мастерски! —
Мелькает, мелькает, мелькает…
Махонький мальчик маму молит:
– Мама, ма, можно мне, ма?.. —
Минута молчания…
Мучаюсь. Мысли мну…
Слов не хватает на букву эту…
(Музыка… Муха… Мечта… Между тем…)
Мелочи механизма!
Внимайте поэту —
я заставлю
слова
начинаться
на букву эМ:
МЕТИ МОЕЗД МЕТРО МОД МОСТИНИЦЕЙ
МОССОВЕТА
МИМО МОЗДВИЖЕНКИ
К МОГОЛЕВСКОМУ МУЛЬВАРУ!
МОЖАЛУЙСТА!
ОСАДА АТОМА
Нет, я совсем не из рода раковин,
вбирающих моря гул,
скорей приемником четырехламповым
назвать я себя могу.
Краснеет нить кенотрона хрупкого,
и волны плывут вокруг,
слегка просвечивает катушка Румкорфа
в зеленых жилах рук.
Но я не помню, чтоб нежно динькало,
тут слон в поединке с львом!
Зверинцем рева и свиста дикого
встречаются толпы волн.
Они грызутся, вбегают юркие,
китайской струной ноют,
и женским плачем, слепым мяуканьем
приходит волне каюк.
Но где-то между, в щели узенькой
средь визга и тру-ля-ля —
в пустотах
ёмких
сияет
музыка,
грань горного хрусталя.
Но не поймать ее, не настроиться,
не вынести на плече…
Она забита плаксивой стройностью
посредственных скрипачей.
Когда бы можно мне ограничиться
надеждой одной, мечтой —
и вынуть вилку и размагнититься!
Но ни за что!
Ты будешь поймана, антенна соткана!
Одну тебя люблю.
Тебя, далекая, волна короткая,
ловлю, ловлю!
ПОИСК
Как долго раздробляют атом!
Конца нет!
Как медлят с атомным распадом!
Как тянут!
Что вспыхнет? Вырвется. Коснется
глаз, стекол,
как динамит! как взрыв! как солнце!
Как? Сколько?
О, ядрышко мое земное,
соль жизни,
какою силою взрывною
ты брызнешь?
Быть может, это соль земного, —
вблизь губы, —
меня опять любовью новой
в жизнь влюбит!
ДОРОГА ПО РАДУГЕ
Я, в сущности,
старый старатель,
искательский
жадный характер!
Тебя
я разглядывал пылко,
земли
потайная копилка!
Я вышел
на поиск богатства,
но буду
его домогаться
не в копях,
разрытых однажды,
а в жилах
желанья и жажды.
Я выйду на поиск
и стану
искателем
ваших мечтаний,
я буду заглядывать
в души
к товарищам,
мимо идущим.
В глазах ваших,
карих и серых,
есть Новой Желандии
берег,
вы всходите
поступью скорой
на Вообразильские
горы.
Вот изморозь
тает на розах,
вот низменность
в бархатных лозах,
вот
будущим нашим
запахло,
как первой
апрельскою каплей.
И мне эта капля
дороже
алмазной
дробящейся дрожи.
Коснитесь ее,
понесите,
в стихах
ее всем объясните!
Какие там,
к черту, дукаты?
Мы очень,
мы страшно богаты!
Мы ставим
дождинки
на кольца,
из гроз
добываем духи,
а золото —
взгляд комсомольца,
что смотрится
в наши стихи.
РАСТЕНИЕ В ПОЛЕТЕ
По шоссе,
мимо скал,
шла дорога моря поверх.
Лил ливень,
ливень лил,
был бурливым пад вод.
Был извилистым путь,
и шофер машину повер−
нул (нул-повер)
и ныр-нул в поворот.
Ехали мы по́ Крыму
мокрому.
Грел обвалом на бегу
гром.
Проступал икрою гуд−
рон.
Завивался путь в дугу,
вбок.
Два рефлектора и гу−
док.
Дождь был кос.
Дождь бил вкось.
Дождь проходил
через плащ
в кость.
Шагал
на огромных ходулях
дождь,
высок
и в ниточку тощ.
А между ходулями
шло авто.
И в то
авто
я вто−
птан меж
двух дам
цвета беж.
Капли мельче.
Лучей веера
махнули,
и вдруг от Чаира до Аира
в нагорье уперлась
такая ра…
такая!
такая!
такая
радуга дугатая! —
как шоссе,
покатая!
Скала перед радугой
торчит, загораживая.
Уже в лихорадке
авто и шофер.
Газу подбавил
и вымчал на оранжевое —
гладкая дорожка
по радуге вверх!
Лети,
забирай
на спектры!
Просвечивает
Ай−
Петри!
Синим едем,
желтым едем,
белым едем,
красным едем.
По дуге покатой едем,
да не нравится соседям, —
недовольны
дамы беж:
– Наш маршрут
не по дуге ж!
Радуга,
но все ж
еду
на грязи я.
Куда ты
везешь?
Это
безобразие.
Это
непорядки,
везите
не по радуге!
Но и я на всем пути
молчу на эти речи:
с той радуги сойти —
не может быть и речи!
ГЛЯДЯ В НЕБО
Схожее внешне с цаплею,
с листьями сухими —
летит растение теплое,
свойственное Сухуми.
В Арктику из субтропиков
везет растение летчик,
бережно, в крошке пробковой,
чтоб не помять колючек.
Скоро и Харьков скроется,
тучи уйдут к Батуми,
но винт не уступит в скорости
самому самуму.
Он донесется вскорости
к сетке широт паучьей,
где – на советском полюсе —
мы вырастим сад плавучий.
Лед порастет цветами,
снег заблестит теплицами,
все небылицы станут
светлыми да-былицами!
Я вижу уже заранее
под пальмой тушу тюленью.
Мы едем с мыса Желания
в долину Осуществленья.
РАБОТА В САДУ
Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежабль,
плыл корабль
среди капель
и на север курс держабль.
Гелий – легкая душа,
ты большая туча либо
сталь-пластинчатая рыба,
дирижабрами дыша.
Серый жесткий дирижабль,
где синица?
где журавль?
Он плывет в большом дыму
разных зарев перержавленных,
кричит Золушка ему:
– Диризяблик! Дирижаворонок!
Он, забравшись в небовысь,
дирижяблоком повис.
ПТИЧИЙ КЛИН
Речь – зимостойкая семья.
Я, в сущности, мичуринец.
Над стебельками слов – моя
упорная прищуренность.
Другим – подарки сентября,
грибарий леса осени;
а мне – гербарий словаря,
лес говора разрозненный.
То стужа ветку серебрит,
то душит слякоть дряблая.
Дичок привит, и вот – гибрид!
Моягода, мояблоня!
Сто га словами поросло,
и после года первого —
уже несет плодыни слов
счасливовое дерево.
ДВОЙНОЕ ЭХО
Когда на мартовских полях
лежала толща белая,
сидел я с книгой,
на полях
свои пометки делая.
И в миг, когда мое перо
касалось
граф тетрадочных,
вдруг журавлиное перо
с небес упало радужных.
И я его вписал в разряд
явлений атомистики,
как электрический разряд,
как божий дар
без мистики.
А в облаках летел журавль
и не один, а стаями,
крича скрипуче,
как журавль,
в колодец опускаемый.
На север мчался птичий клин
и ставил птички в графике,
обыкновенный
город Клин
предпочитая Африке.
Журавль был южный,
но зато
он в гости к нам пожаловал!
Благодарю его
за то,
что мне перо пожаловал.
Я ставлю сущность
выше слов,
но верьте мне на сло́во:
смысл
не в буквальном смысле слов,
а в превращеньях слова.
ЛЕСНОЙ ПЕРЕВЕРТЕНЬ
Между льдами ледяными
есть земля
еще земней!
Деревянные деревья
среди каменных
камней.
Это северней,
чем Север,
и таежней,
чем тайга,
там олени по-оленьи
смотрят в снежные снега.
И нерыбы
точно рыбы
там на лежбищах лежат,
в глыбы
слившиеся глыбы
строго море сторожат.
Еле солнечное
солнце
сновидением во сне
входит
в сумеречный сумрак,
тонет
в белой белизне.
Люди там
живут как люди
с доброй детскостью детей,
горя горького
не зная
в мире сетчатых сетей.
Под сияющим сияньем —
домовитые
дома,
где сплетают кружевницы
кружевные
кружева.
Это – именно вот это!
И со дна
морского дна
эхолот приносит эхо:
глубока ли
глубина?
И желает вниз вонзиться
острие
на остроге,
и кричат по-птичьи птицы:
– Далеко ли
вдалеке?
О, отдаляться
в отдаленье,
где эхо внемлет эху,
о, удивляться
удивленью,
о, улыбаться смеху!
РОЗЫ
Летя, дятел,
ищи пищи.
Ищи, пищи!
Веред дерев
ища, тащи
и чуть стучи
носом о сон.
Буди дуб,
ешь еще.
Не сук вкусен:
червь – в речь,
тебе – щебет.
Жук уж
не зело полезен.
Личинок кончил?
Ты – сыт?
Тепло ль петь?
Ешь еще
и дуди
о лесе весело.
Хорошо. Шорох.
Утро во рту,
и клей елки
течет.
Я начал
разбираться в розах,
в их настроениях,
в их позах.
Еще зимою,
в спальне темной
шепчась,
они вздыхают томно.
Им представляется
все лето
как ателье
для туалетов,
где шелк
наброшен на прилавок
в сезон
примерок и булавок,
где розовеют
плечи, груди,
откуда их
вывозят в люди —
на выставки
и на смотрины,
на клумбы,
в вазы,
на витрины.
Перед прибытием
портнихи
куст полон
трепетной шумихи;
никто не вспомнит
о лопате, —
идет примерка
бальных платьев
невестам,
девственницам,
шлюхам,
восточным неженкам,
толстухам,
здоровьем пышущим
матронам
и лебединым
примадоннам…
О, выход роз,
одетых к балу,
к театру,
к свадьбе,
к карнавалу!
Идут,
шаля и бедокуря,
блестя шипами
маникюра,
Гертруды,
Нелли,
Бетти,
Клары…
Сад им раскрыл
все кулуары.
Духи, помада,
шелест платья,
в беседках
тайные объятья;
им кажется,
что будет вечно —
банкетно,
бально,
подвенечно…
Но только ночь
пройдет одна лишь,
куст наклонившийся
отвалишь,
и где вчера
головкой Грёза
романс
выслушивала роза, —
осенний день
тоскливо гаснет,
деревья
в рубище ненастья,
и роза —
бедная старуха —
стоит,
лишившаяся слуха,
перед раскинутым
у гроба
былым богатством
гардероба,
стоит
над мерзлою травою,
тряся
червивой головою.
О, шелк!
О, нежные муары!..
Одна утеха —
мемуары.








