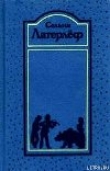Текст книги "Сага о Йёсте Берлинге (другой перевод)"
Автор книги: Сельма Оттилия Ловиса Лагерлеф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
– Можешь успокоить отца, это совсем не тот, кого я люблю! Это была просто игра. Неужели он думает, что я хочу выйти за йёсту?
– Пойди, Марианна, к реттару[17]17.
Реттар – выборное должностное лицо.
[Закрыть] и попросись переночевать! Отец пьян. Он ничего не хочет слышать. Он запер меня наверху. Я тайком пробралась сюда, потому что он, кажется, заснул. Он убьет тебя, если ты войдешь.
– Мама, мама, неужели же я должна идти к чужим людям, когда у меня есть свой дом? Неужели ты, мама, такая же жестокая, как и отец? Как можешь ты терпеть, чтобы я оставалась за дверью? Если ты не впустишь меня, я лягу в сугроб.
Тогда мать Марианны положила руку на ручку двери, чтобы отпереть ее, но в то же мгновение по лестнице раздались тяжелые шаги и грубый окрик остановил ее.
Марианна прислушалась: ее мать поспешно отошла от двери, послышалась грубая ругань, а затем...
Марианна услыхала нечто ужасное. В затихшем доме ей был слышен каждый звук.
До нее донеслись не то удары палкой, не то пощечины, затем слабый шум и опять удары.
Этот ужасный человек бил ее мать! Этот верзила Мельхиор Синклер бил свою жену!
В диком ужасе Марианна бросилась на колени перед дверью. Она плакала, а слезы ее превращались в лед на пороге родного дома.
Пощадите, сжальтесь! Откройте же двери, чтобы она смогла подставить под удары свою собственную спину! О, он смеет бить ее мать, бить за то, что она не хотела увидеть свою дочь замерзшей в сугробе, за то, что она хотела утешить свое дитя!
Этой ночью Марианна пережила глубокое унижение. Она возомнила, что она королева, и вот теперь лежала здесь, как рабыня, которую высекли.
Она поднялась в холодном озлоблении и, в последний раз ударив окровавленной рукой в двери, крикнула:
– Послушай, что я тебе скажу, тебе, который смеет бить мою мать! Ты еще поплачешь, Мельхиор Синклер, ты еще поплачешь!
После этого прекрасная Марианна отошла от дверей и легла в сугроб. Она сбросила с себя шубу и осталась в одном черном бархатном платье, резко выделяясь на белом снегу. Она лежала и думала, что назавтра ее отец выйдет рано утром и найдет ее здесь. Она желала лишь одного, чтобы он первый нашел ее.
О смерть, мой бледный друг! Неужели это так же верно, как и утешительно, что и мне не избегнуть встречи с тобой? Неужели ты придешь и ко мне, ленивейшей из тружениц на свете, чтобы снять с меня грубую одежду и изношенные башмаки, чтобы избавить мои руки от работы? Заботливо уложишь ты меня на кружевное ложе, нарядив в шелка и тонкое белье. Ногам моим не будут нужны башмаки, а на руки мои, которые никогда уже не будет пачкать работа, наденут белоснежные перчатки. С твоим благословением на сладостный отдых я буду спать вечным сном. О избавительница! Я, ленивейшая из тружениц на свете, с радостным трепетом мечтаю о том миге, когда меня примут в твое царство.
Мой бледный друг, без труда ты испытаешь надо мной свою силу, но знай: борьба с женщинами минувших времен была для тебя потруднее. В их гибких телах таилась огромная сила жизни, и никакой мороз не мог охладить их горячую кровь.
О смерть, ты уложила прекрасную Марианну на свое ложе, ты сидела с ней рядом, как старая няня у колыбели. Хорошо знает старая преданная нянька, что надо для блага дитяти; и как же ей не сердиться, когда приходят другие дети, которые шумом и гамом будят уснувшее дитя! И как же ей не сердиться, когда кавалеры подняли прекрасную Марианну с ее ложа и когда один из них прижал ее к своей груди и его горячие слезы упали на ее лицо!
В большом доме в Экебю давно были погашены огни, и гости давно разъехались по домам. Но кавалеры не спали; они собрались в кавалерском флигеле вокруг последней полуопорожненной чаши.
Йёста постучал о край чаши и произнес тост в вашу честь, женщины минувших времен. Говорить о вас – все равно что говорить о небесах! Вы сама красота, вы свет дня. Вечно юны, вечно прекрасны вы, и нежный взгляд ваш словно взгляд матери, которая глядит на свое дитя. Подобно ласковым белочкам обвивали вы шеи мужчин. Никогда голос ваш не дрожал от гнева, никогда чело ваше не бороздили морщины, ваши нежные руки никогда не становились шершавыми и грубыми. О нежные создания, как святыню чтили вас в храме домашнего очага. Мужчины лежали у ваших ног, курили вам фимиам и возносили молитвы. Любовь к вам вершила чудеса, а вокруг чела вашего поэты создавали сияющий золотой ореол.
Кавалеры вскочили, в голове у них шумело от вина, а от слов йёсты кровь закипела радостно и бурно. Даже старый дядюшка Эберхард и ленивый кузен Кристоффер были захвачены общим настроением. Кавалеры бросились запрягать коней, и несколько саней вскоре помчались в морозную ночь, чтобы еще раз воздать вам, женщинам минувших времен, дань своего восхищения, чтобы пропеть серенаду каждой из вас, всем вам, обладательницам румяных щек и ясных глаз, совсем недавно сиявших в просторных залах Экебю.
О женщины минувших времен, как, должно быть, приятно, когда вас будят от сладкого сна серенадой, которую исполняют преданнейшие из рыцарей! Это, наверное, так же приятно, как приятно усопшей душе пробуждаться на небесах от сладостной райской музыки.
Но кавалерам не суждено было исполнить свои благие намеренья, потому что, доехав до Бьёрне, они нашли прекрасную Марианну в сугробе у самых дверей ее дома.
При виде Марианны их охватило негодование. Это было все равно что найти святыню, ограбленную и поруганную, у входа в храм.
Йёста погрозил кулаком темному дому.
– Вы исчадия зла, – воскликнул он, – вы ливень с градом, вы зимняя вьюга, вы грабители божьего сада!
Бейренкройц зажег свой фонарь и осветил им посиневшее лицо девушки. Кавалеры увидели окровавленные руки Марианны и слезы, замерзшие на ее ресницах, и их охватила глубокая печаль, ибо Марианна была для них не только святыней, но и прекраснейшей женщиной, радовавшей их престарелые сердца.
Йёста Берлинг бросился перед ней на колени.
– Вот она, моя невеста, – сказал он. – Несколько часов назад она подарила мне свой поцелуй, а ее отец обещал мне свое благословение. Она покоится здесь и ждет, чтобы я пришел и разделил с ней ее белое ложе.
И Йёста поднял безжизненное тело своими сильными руками.
– Домой в Экебю! – воскликнул он. – Теперь она моя. Я нашел ее в сугробе, и никто не отнимет ее у меня. Мы не станем никого будить в этом доме. Что ей делать там, за этими дверями, о которые она поранила свои руки!
С этими словами он положил Марианну на головные сани и сел рядом с ней. Бейренкройц встал сзади и взял в руки вожжи.
– Возьми снега, Йёста, и три ее хорошенько! – сказал он.
Мороз успел сковать ее члены, но взволнованное сердце еще продолжало биться. Она даже не лишилась сознания, она понимала все, что происходит вокруг нее, она знала, что ее нашли кавалеры, но не могла шевельнуться. Так и лежала она, неподвижная и окоченевшая, в санях, пока Йёста Берлинг растирал ее снегом, плакал и целовал; и у нее вдруг родилось непреодолимое желание поднять хоть немного руку, чтобы ответить на его ласку.
Она сознавала все. Она лежала неподвижная и окоченевшая, но мысли проносились у нее в голове так ясно, как никогда раньше. Влюблена ли она в Йёсту Берлинга? Да, конечно. Но, может быть, это всего лишь мимолетное увлечение на один вечер? Нет, это началось давно, много лет назад.
Она сравнивала себя с ним и с другими людьми из Вермланда. Они все были непосредственны, как дети. Они поддавались любому чувству, которое овладевало ими. Они жили лишь внешней жизнью, они никогда не копались в своей душе. Она же совсем иная; такими становятся, когда слишком много бывают среди людей. Она никогда не могла безраздельно отдаться чувству. Любила ли она, да и вообще, что бы она ни делала, всегда получалось так, словно она раздваивалась, словно ее второе я смотрело на нее со стороны с холодной усмешкой на устах. Она мечтала о такой страсти, которая полностью, до самозабвения увлекла бы ее. И вот непреодолимая страсть пришла. Когда она целовала Йёсту Берлинга там, на балконе, то впервые в жизни она забыла о себе.
И вот теперь ею снова овладела страсть; сердце ее билось так сильно, что она слышала его удары. Когда же, когда же вновь обретет она власть над своим телом? Она испытывала чувство огромной радости оттого, что ее выбросили из родного дома. Теперь ничто не помешает ей принадлежать Йёсте. Как она была глупа: столько лет она старалась заглушить в себе это чувство! О, как чудесно отдаться во власть любви. Но неужели же она так и не освободится от ледяных оков? Раньше лед был внутри и пламень снаружи, теперь же наоборот – пламенная душа в оледеневшем теле.
Вдруг Йёста почувствовал, как ее руки тихо обвились вокруг его шеи в слабом, едва заметном объятии.
Он едва ощущал эту ласку, а Марианне казалось, что она дала волю всем своим затаенным чувствам и задушила Йёсту в своих объятиях.
Увидя это, Бейренкройц предоставил коню бежать по знакомой дороге, а сам стал упорно и неотрывно смотреть в небо на Большую Медведицу.
Глава седьмая
СТАРЫЕ ЭКИПАЖИ
Друзья мои, дети человеческие! Если случится так, что вам доведется читать эти строки ночью, сидя в кресле или лежа в постели, подобно тому как я пишу их сейчас в ночной тиши, то не вздыхайте пока с облегчением и не думайте, что добрым господам, кавалерам из Экебю, удалось спокойно поспать в эту ночь, после того как они привезли Марианну и уложили ее в лучшей гостиной за большим залом.
Спать они, правда, легли и даже заснули, но на этот раз им не удалось спокойно проспать до полудня, как это, возможно, сделали бы мы с вами, дорогой читатель, если бы нам пришлось лечь в четыре часа утра с ломотой во всем теле.
Не следует забывать, что в ту пору там бродила старая майорша с нищенским посохом и сумой и что ей ничего не стоило нарушить покой нескольких утомленных грешников, когда речь шла о более важном деле. В эту ночь она менее чем когда-либо способна была заботиться о чьем-то покое, ибо она приняла решение выгнать кавалеров из Экебю.
Прошли те времена, когда в блеске и великолепии она царила в Экебю и осыпала радостью землю, как бог осыпает звездами небо. И пока она, бездомная, бродила по дорогам, богатство и доброе имя огромного поместья находились в руках кавалеров, которые радели о нем не больше, чем ветер радеет о пепле или весеннее солнце о снежных сугробах.
Случалось, что кавалеры выезжали по шесть, по восемь человек на больших санях с бубенчиками. Если они при этом встречали бродившую с нищенской сумой майоршу, то глаз перед ней не опускали.
Напротив, шумная ватага грозила ей кулаками. Стремительно мчавшиеся сани заставляли ее сворачивать с дороги и идти по сугробам, а майор Фукс, гроза медведей, никогда не забывал сплюнуть трижды для того, чтобы старуха не сглазила их.
Они не чувствовали к ней сострадания. Встречая ее на дороге, они испытывали омерзение, словно видели перед собой нечистую силу. Случись с ней несчастье, они печалились бы о ней не более, чем тот, кто, случайно выстрелив в пасхальный вечер из ружья, заряженного латунными крючками, попал бы в пролетавшую мимо ведьму.
Кавалерам доставляло истинное удовольствие преследовать майоршу. Люди, которые дрожат за свою душу, часто бывают жестокими.
Случалось, кавалеры, пируя, засиживались за столом далеко за полночь, а затем, пошатываясь, подходили к окнам, чтобы полюбоваться звездным небом; при этом они нередко замечали темную тень, скользившую по двору. Они знали, что это майорша навещает свой любимый дом; в таких случаях весь кавалерский флигель сотрясался от издевательств и хохота старых грешников, и бранные слова летели из открытых окон вдогонку майорше.
И в самом деле, бесчувственность и высокомерие начинали овладевать сердцами нищих авантюристов. Синтрам вселил ненависть в их сердца. Их душам угрожала бы меньшая опасность, если бы майорша оставалась в Экебю. Ведь при бегстве с поля боя всегда погибает больше народу, чем во время самого боя.
К кавалерам майорша не испытывала особенной злобы. Будь у нее в руках власть, она бы просто высекла их, как непослушных мальчишек, а затем вернула бы им свое расположение.
Но сейчас она боялась за свое любимое поместье, о котором кавалеры заботились так же, как волки заботятся об овцах или журавли о весенних всходах на полях.
Разве мало на свете людей, которых угнетали те же мысли, что и майоршу? Не одной ей пришлось видеть, как гибнет родное гнездо, не одной ей пришлось испытать чувство боли, когда видишь, как некогда находившееся в расцвете поместье приходит в полный упадок. Отчий дом смотрит на таких изгнанников глазами раненого зверя. И они чувствуют себя злодеями, видя деревья, погибающие от лишайников, и песчаные дорожки, поросшие сорняками. Им так и хочется упасть на колени среди полей, где раньше колосились богатые урожаи, и умолять, чтобы их не корили за тот позор, который выпал на их долю. С болью в сердце отворачиваются они от несчастных старых лошадей, – пусть кто-нибудь более смелый найдет в себе силы посмотреть в глаза бедным животным! У них не хватает смелости смотреть на гонимый с пастбища скот. Нет на земле ужаснее места, чем пришедший в упадок родной дом.
О, я прошу вас, всех тех, кто ухаживает за полями, лугами и парками, за радующими взгляд цветниками, хорошенько ухаживайте за ними! Не жалейте на них ни труда, ни любви! Нехорошо, когда природа страдает от небрежности человека.
Когда я думаю о том, что пришлось испытать гордому поместью Экебю под владычеством кавалеров, мне хочется, чтобы замысел майорши увенчался успехом и чтобы ей удалось вырвать Экебю из рук кавалеров.
Майорша вовсе не хотела снова стать хозяйкой Экебю. У нее была только одна цель: избавить свой дом от этих безумцев, от этой саранчи, от этих безудержных грабителей, после которых даже трава не росла.
Бродя по дорогам с нищенской сумой и живя подаянием, она не переставала думать о своей матери, и ее постоянно преследовала одна и та же мысль: что не найти ей в жизни утешения, пока мать не снимет с ее плеч тяжесть проклятия.
Никто еще не принес ей известия о смерти старухи, поэтому она полагала, что мать ее по-прежнему живет в далеких лесах Эльвдалена. Девяностолетняя старуха работала не покладая рук, склоняясь над подойниками летом и над ямами углежогов зимой; она работала, ожидая смерти, и не страшилась того дня, когда наконец пробьет ее час.
Майорша верила, что старуха проживет еще долго и не умрет до тех пор, пока не снимет с нее проклятие. Не может умереть мать, которая накликала на голову своей дочери такую беду.
И вот майорша решила сходить к старухе, чтобы обе они обрели наконец покой. Она пойдет по темным лесам, вдоль длинной реки, туда – на север, к родному дому, где провела свое детство. Иначе не найти ей успокоения. Многие в те дни предлагали ей теплый угол и вечную дружбу, но она нигде не могла остаться. Какая-то непреодолимая сила гнала ее прочь от усадьбы к усадьбе, ибо над ней тяготело материнское проклятье.
Но прежде чем она отправится к своей матери, она должна позаботиться о своем любимом поместье. Она не может уйти, оставив его в руках беспечных гуляк и пьяниц, беззаботных расхитителей божьих даров.
Неужели она уйдет, чтобы по возвращении обнаружить, что все добро расхищено, молоты умолкли, кони истощены, а слуги разогнаны?
О нет, она должна вновь обрести власть над Экебю и выгнать кавалеров.
Она знала, что ее муж с радостью смотрел, как расхищали ее добро. Но она хорошо изучила его характер и понимала, что, разгони она эту свору, он едва ли станет заводить новую. Только бы удалось убрать кавалеров, тогда заботы об Экебю взяли бы на себя ее старый управляющий и инспектор и все пошло бы по-старому.
Вот почему ее мрачная тень уже в течение многих ночей мелькала вдоль почерневших заводских стен. Она пробиралась в дома хуторян, она шепталась с мельником и его подручными в нижнем помещении большой мельницы, она совещалась с кузнецами в темном угольном складе.
И все они поклялись помочь ей. Честь и богатство большого завода не должны были оставаться в руках беспечных кавалеров, которые пеклись о нем не более ветра, раздувающего пепел, не более волка, попавшего в овечье стадо.
И в эту ночь, когда веселые господа вдоволь натанцуются, наиграются и напьются, а затем, полумертвые от усталости, погрузятся в глубокий сон, в эту ночь их изгонят из Экебю. Она даст им сегодня натешиться вволю, этим беспечным людям. Она сидела в кузнице и мрачно ожидала окончания бала. Она долго ждала, пока кавалеры вернулись из своей ночной поездки, она сидела и терпеливо ждала, пока ей не сообщили, что погашены последние огни в окнах кавалерского флигеля и что все поместье спит. Тогда она поднялась и вышла во двор.
Майорша распорядилась, чтобы все люди с завода собрались у кавалерского флигеля, а сама пошла к своему дому. Она постучала, и ее впустили. Дочь пастора из Брубю, из которой она сделала хорошую служанку, встретила свою госпожу.
– Добро пожаловать, госпожа, – сказала служанка, целуя ей руку.
– Задуй свечи! – сказала майорша. – Уж не думаешь ли ты, что я не сумею найти здесь дорогу без света?
И она стала обходить безмолвный дом. Она обошла его от подвала до чердака, прощаясь с каждой вещью, с каждым углом. Неслышно ступая, переходила она из комнаты в комнату, и служанка следовала за ней.
Майорша была поглощена своими воспоминаниями. Служанка не вздыхала и не рыдала, но неудержимые слезы капля за каплей текли по ее лицу. Майорша велела открыть шкафы с бельем, с серебром; она нежно гладила тонкие скатерти и дорогие серебряные чаши, она провела рукой по целой горе перин в кладовой. Она перетрогала всё: и прялки, и мотальные и ткацкие станки. Она засунула руку в ларь и ощупала ряды сальных свечей, подвешенных на проволоке к крышке.
– Свечи уже сухие, – сказала она. – Их можно снять и уложить.
Внизу, в погребе, она осторожно приоткрывала бочки и ощупывала ряды винных бутылок.
Она побывала в чулане и в кухне, она все перещупала, все осмотрела. Она протягивала руку и прощалась с каждой вещью, с каждым уголком.
Под конец она обошла жилые комнаты. В столовой она погладила большой раздвижной стол.
– Многие наедались досыта за этим столом, – сказала она.
Она прошла по всем комнатам. Длинные широкие диваны оказались на своих местах. Она дотрагивалась до прохладных плит мраморных столиков с позолотой на ножках, до зеркал с фризами в виде танцующих богинь.
– Богатый дом, – сказала она. – И каким чудесным был человек, который дал мне все это.
В большом зале, где еще недавно в вихре танцев кружились пары, вдоль стен чинно стояли ряды кресел с высокими спинками.
Она подошла к клавикордам и тихонько потрогала клавиши.
– При мне здесь тоже было достаточно радости и веселья, – сказала она.
Потом майорша зашла в гостиную, находившуюся тут же за залом.
Там было совершенно темно. Шаря впотьмах рукой, майорша нечаянно прикоснулась к лицу служанки.
– Ты плачешь? – спросила она, почувствовав, что рука ее увлажнилась слезами.
Девушка разрыдалась.
– О госпожа, – причитала она. – О госпожа, они все разорят. Зачем вы уходите от нас и оставляете дом на разорение кавалерам?
Тогда майорша приоткрыла гардину и указала на двор.
– Уж не я ли выучила тебя плакать и причитать? – воскликнула она. – Смотри сюда! Двор полон народу, завтра же в Экебю не останется ни одного кавалера.
– И тогда вы вернетесь к нам, госпожа? – спросила служанка.
– Мое время еще не пришло, – сказала майорша. – Пока что дорога – мой дом, а куча соломы – моя постель. Но пока меня нет, ты должна сохранить для меня Экебю, девочка.
Они двинулись дальше. Ни та, ни другая не могли знать, что именно в этой комнате спала Марианна.
Впрочем, она не спала. Она лежала с открытыми глазами, слышала все и все поняла.
Она лежала и слагала гимн любви.
– О ты, великая, возвысившая меня над самой собой, – шептала она. – Я была низвергнута в пучину несчастья, а ты перенесла меня в рай. Мои израненные руки стучались в двери родного дома, мои слезы остались там на пороге и превратились в ледяные жемчужины. Холод гнева и ужаса пронзил своими когтями мне сердце, когда я услыхала, как бьют мою мать. Я легла в холодный сугроб, чтобы уснуть вечным сном и унести свое озлобление, но ты пришла. О любовь, дитя огня, ты пришла к той, чье тело сковал мороз. Я сравниваю свое несчастье с тем блаженством, которое обрела благодаря тебе, и оно представляется мне ничтожным. Я свободна от всех оков, у меня нет ни отца, ни матери, ни родного дома. Люди станут думать обо мне самое плохое и отвернутся от меня, но это меня не тревожит, – так было угодно тебе, о любовь, ибо я не должна стоять выше, чем мой любимый. Рука об руку с ним пройдем мы по жизни. Невеста Йёсты Берлинга также бедна. Он нашел ее в сугробе. Мы поселимся не в высоких залах, а в простой избе на опушке леса! Я буду помогать тебе жечь уголь и ставить силки, я буду варить тебе обед и чинить твою одежду. О мой любимый, я буду тосковать, ожидая тебя на опушке леса. Да, я буду тосковать, но не по богатству и роскоши, а лишь по тебе, по тебе одному стану я тосковать. О, как буду я ждать, прислушиваясь к твоим шагам по лесной тропе и к твоей веселой песне. Я буду высматривать тебя, когда ты появишься из лесу с топором за плечами. О мой любимый! Я смогла бы прождать тебя всю свою жизнь.
Так лежала она, не смыкая глаз и слагая гимны всемогущей богине сердца, когда в комнату вошла майорша.
Как только она удалилась, Марианна встала и быстро оделась. Еще раз в эту ночь пришлось ей надеть свое черное бархатное платье и тонкие бальные башмаки. Она укуталась одеялом, как шалью, и еще раз вышла на мороз в эту ужасную ночь.
Февральская ночь, звездная и морозная, все еще стояла над безмолвной землей, и казалось, что ей никогда не будет конца. Трудно было даже представить себе, что когда-нибудь исчезнут темнота и холод, что взойдет солнце и растают огромные сугробы, по которым брела прекрасная Марианна.
Марианна покинула Экебю, чтобы бежать за помощью. Она не могла допустить, чтобы изгнали тех людей, которые нашли ее в сугробе и открыли для нее и свои сердца и свой дом. Она бежала в Шё, к майору Самселиусу. Она торопилась: лишь через час она сможет вернуться обратно.
Простившись со своим домом, майорша вышла во двор, где ее ожидал народ, и осада кавалерского флигеля началась.
Майорша расставила людей вокруг высокого узкого здания, верхний этаж которого и был знаменитым пристанищем кавалеров. Там наверху, в большой комнате с оштукатуренными стенами и красными сундуками, с большим раздвижным столом, на котором карты еще плавают в пролитой водке, где широкие кровати задернуты желтым клетчатым пологом, – там спят кавалеры. О, беззаботные, беспечные люди!
А в конюшне перед полными кормушками дремлют их кони и видят во сне дни своей молодости. Им снятся былые подвиги, поездки на ярмарки, когда дни и ночи приходилось им выстаивать под открытым небом. Они вспоминают о бешеных скачках на рождество, о скачках при обмене коней, когда пьяные хозяева, туго натянув поводья и перегнувшись с козел, гнали их во весь опор, оглушая проклятьями. Приятно вспоминать об этом теперь, когда они знают, что никогда больше не придется им покинуть полные кормушки и теплые стойла конюшни в Экебю. Ах, беззаботные, беспечные кони!
В старом полуразвалившемся сарае, куда стаскивали негодные колымаги и сломанные сани, находилась удивительная коллекция старых, отживших свой век экипажей. Чего-чего только там нет! Вот выкрашенные в зеленый цвет дрожки, вот какие-то красные и желтые диковинные повозки. Вот первый в Вермланде кабриолет, военный трофей 1814 года, добытый Бейренкройцем. Всевозможные одноколки с качающимися рессорами, и таратайки, своим видом напоминающие орудия пыток, с сидением, покоящимся на деревянных рессорах. Всякие рыдваны и кареты самой немыслимой формы, воспетые еще в эпоху проселочных дорог. Нашли там покой и длинные двенадцатиместные сани, и крытая кибитка зябкого кузена Кристоффера, и старые фамильные розвальни Эрнеклу с изъеденной молью медвежьей шкурой и с полустертым гербом на спинке, а также беговые сани – бесконечное множество беговых саней.
Много кавалеров жило и умерло в Экебю. Имена их давно забыты, и они не занимают места в сердцах людей, но майорша сохранила экипажи и сани, на которых они прибыли в ее поместье. Все эти экипажи и сани собраны в старом сарае.
Они стоят там и дремлют, и пыль густым слоем покрывает их.
Гвозди и скобы уже не держатся в насквозь прогнившем дереве, целыми кусками отваливается краска, из проеденных молью подушек и сидений вылезает набивка.
«Дайте нам отдохнуть, дайте нам развалиться! – словно просят старые экипажи. – Довольно нас трясло по дорогам, довольно впитали мы в себя влаги под проливными дождями. Дайте нам отдохнуть! Давно прошли те времена, когда мы вывозили своих молодых господ на их первый бал, давно это было, когда, заново выкрашенные, выезжали мы навстречу увлекательным приключениям, давно возили мы на себе веселых героев по размокшим весенним дорогам к Тросснесу. Большинства из них уже нет в живых, они спят вечным сном и никогда более не покинут Экебю, никогда».
И вот трескается кожа на фартуках, расшатываются ободы колес, гниют оси. Старые экипажи не желают больше жить, они хотят умереть.
Словно саван, лежит на них пыль, и под ее покровом они все больше дряхлеют. В нерушимом покое стоят они и постепенно разваливаются. Никто не дотрагивается до них, и все же они рассыпаются на куски. Не чаще одного раза в год раскрываются двери сарая, чтобы принять новичка, которому, как и всем им, суждено окончить здесь свои дни; и стоит дверям сарая закрыться, как усталость, сонливость и старческая слабость овладевают и вновь прибывшим. Крысы и гниль, моль и червь одолевают экипаж, и он медленно ржавеет и разваливается, не выходя из безмятежного состояния сладостного забытья.
И вот в эту февральскую ночь майорша распорядилась открыть двери сарая.
При свете фонарей и факелов приказывает она разыскать и выкатить экипажи, принадлежащие ныне живущим в Экебю кавалерам: вот старый кабриолет Бейренкройца, вот украшенные гербом фамильные розвальни Эрнеклу, и вот наконец узкая крытая кибитка, некогда охранявшая от непогоды кузена Кристоффера.
Майоршу не заботило, сани ли это, или колесный экипаж, она следит только за тем, чтобы каждому досталось то, на чем он прибыл сюда.
А в конюшне уже будят старых кавалерских лошадей, которые стоят и дремлют перед полными кормушками.
Сны ваши осуществляются, о беззаботные кони.
Вам вновь придется изведать крутые подъемы и жевать гнилое сено в конюшнях постоялых дворов, хлыст пьяных барышников вновь обрушится на вас, и безумные скачки по гладкому льду снова станут вашим уделом.
Вот теперь, когда низкорослых северных лошадей впрягают в высокие ободранные коляски, а длинноногих костлявых верховых коней – в низкие беговые сани, эти старые экипажи обретают свой настоящий вид. Старые клячи скалят зубы и фыркают, когда в их беззубые рты вкладывают удила, старые экипажи и сани скрипят и трещат. Дышащие на ладан развалины, которым в пору доживать на покое остаток дней своих, извлекаются ко всеобщему обозрению; потерявшие гибкость суставы, хромые ноги, всевозможные лошадиные недуги – все выуживается на свет божий.
Конюхам удается наконец впрячь всех лошадей в старые экипажи, а затем они спрашивают майоршу, на чем поедет Йёста Берлинг: всем ведь известно, что он прибыл в Экебю вместе с майоршей в санях для перевозки угля.
– Запрягайте Дон-Жуана в лучшие беговые сани, – приказывает майорша, – и не забудьте постелить в них медвежью шкуру с серебряными когтями!
А когда конюх начинает роптать, она продолжает:
– Самого лучшего коня не пожалею, лишь бы избавиться от этого парня, запомните это!
Итак, все готово – экипажи и лошади, но кавалеры все еще спят.
Наступил и их черед, но вытащить их из постелей гораздо более трудное дело. Это не то, что вывести из конюшни старую клячу или выкатить из сарая полуразвалившийся экипаж. Они дерзки, сильны и опасны, эти закаленные в приключениях люди. Они будут сопротивляться, защищаясь не на жизнь, а на смерть, и не так-то легко будет поднять их среди ночи, усадить в экипажи и увезти отсюда прочь!
Тогда майорша отдает распоряжение поджечь скирду соломы, которая стоит так близко от кавалерского флигеля, что пламя должно осветить окна той комнаты, где спят кавалеры.
– Солома моя, и все Экебю мое! – кричит она.
И когда яркое пламя охватило всю скирду, она приказала:
– А теперь будите их!
Но кавалеры продолжают спать за запертыми дверями. Толпа во дворе начинает испускать страшные вопли: «Пожар, пожар!» Но кавалеры не просыпаются.
Кузнец вооружается молотом и начинает стучать им в дверь, но кавалеры не слышат.
Крепкий снежок разбивает стекло и влетает в комнату, но кавалеры спят.
Им снится, будто красивая девушка бросает им свой платок, во сне они слышат аплодисменты за опускающимся занавесом, они все еще слышат оглушительный смех и веселый шум бала.
Чтобы разбудить их, надо по меньшей мере выстрелить из пушки над самым их ухом или выплеснуть на них целое море ледяной воды.
Весь день они веселились, танцевали и пели, играли и шутили. Отяжелевшие от вина, утомленные, они спят беспробудным, глубоким сном.
И в этом мертвом сне – их спасение.
Люди во дворе начинают думать, что за этим спокойствием таится опасность. А что, если кавалеры ждут помощи? Что, если они проснулись и притаились со взведенными курками за окном или дверью, готовые сразить любого, кто отважится войти к ним?
Эти люди хитры и воинственны, их молчание что-нибудь да означает! Кто поверит, что они позволят захватить себя врасплох, подобно медведю в берлоге.
Все снова и снова раздаются крики: «Пожар, пожар!», но кавалеры не слышат.
И вот, пока остальные стоят в нерешительности, сама майорша хватает топор и взламывает входную дверь.
Она бежит вверх по лестнице и, ворвавшись в комнату кавалеров, кричит «Пожар!»
Этот громовой голос оказывает более сильное действие, чем вопли людей во дворе. Привыкнув повиноваться этому голосу, все двенадцать кавалеров, как один, мгновенно вскакивают со своих постелей и, увидев отсветы пламени, хватают свою одежду и стремглав бросаются по лестнице вниз во двор.
Но у дверей стоит здоровенный кузнец и два дюжих работника с мельницы, и большое унижение ожидает здесь кавалеров. Одного за другим их ловят, валят на пол и, связав, бросают каждого в предназначенный для него экипаж.
Никто не вырвался, всех связали и унесли: и насупленного полковника Бейренкройца, и силача капитана Кристиана Берга и философа дядюшку Эберхарда.