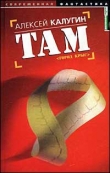Текст книги "Город Последний"
Автор книги: Савелий Лукошкин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Савелий Лукошкин
Город Последний
Глава 0
По старой деревянной кухне кружатся мотыльки. Оранжевая клеёнка на столе согрета отсветами керосиновой лампы. В углу, в креслах, сидит молодой человек: ноги в домашних тапочках вытянуты, в руках кружка. Тень сожалеющей улыбки пробегает по губам.
Дом – старый господский дом – брошен. В комнатах пусто, в узких тёмных коридорах шуршат пауки. Только в старой деревянной кухне горит керосиновая лампа, а по лицу блуждает улыбка – неуверенная и сожалеющая.
Мотыльки кружатся вокруг лампы. Вёрткие, как мотыльки, кружатся в темноте черепа мысли. Я ошибся. Я сделал всё, что мог. Неважно.
Неслышно ступая, в кухню входит кошка. Останавливается, несколько секунд глядит на молодого человека и, вспрыгнув на подоконник, уютно устраивается. Молодой человек смотрит на неё с завистью. Затем встаёт и уходит в тёмный дверной проём.
Возвращается с громоздкой пишущей машинкой в руках. Водружает её на стол и садится писать. Руки дрожат от тоски и нутряного холода.
На берегу серого, холодного моря стоит Город. Дома в нём невысокие, в четыре-пять этажей, выстроены из серого камня и потемневшего от времени кирпича, а железные крыши всегда мокрые.
По вечерам в Городе быстро темнеет, и так же быстро зажигаются жёлтым квадратные окна в домах – это приходят домой усталые люди, чтобы поужинать всей семьей, поделиться новостями и послушать радио. Зажигается и круглое чердачное окошко – высоко над всеми остальными, так высоко, что ночью его можно перепутать с луной.
Это Маленький Мик, сидя на чердаке, зажигает старую керосиновую лампу.
Перед круглым окном стоит деревянный ящик, накрытый клеёнкой в синюю и белую клеточку. На клеёнке лампа, фарфоровая чашка с чаем. Так Мик сидит у окна, глядя, как стремительно и почти одновременно зажигаются, а затем долго и поодиночке гаснут окна. Он выдумывает истории о людях за окнами: например, что за одним из окон живёт Зелёная Девочка, в старинном наряде и белом платке на голове. Хотя это глупость, конечно. Зелёная Девочка никогда не жила со счастливыми усталыми людьми (во всяком случае, так их себе представляет Маленький Мик) в квартире с квадратными окнами.
Зелёная Девочка – она как Мик. Мик даже и сам не знает, взрослый он или ребёнок. А поскольку он ни с кем не знаком, то и объяснить ему некому.
Ростом он невысок, худой и носит бархатную чёрную курточку, у которой все пуговицы разные: две позеленевшие монетки, найденные на пляже, сушёный орех, обкатанный морем кусок деревяшки и куриный бог. Лицо у него по разные стороны носа неодинаковое, а живёт он в палатке на чердаке, у круглого маленького окошка.
Зелёная Девочка живёт в картине в овальной медной раме. А картину эту Мик повесил на гвоздь прямо над палаткой, чтобы Девочка могла быстрее приходить к нему.
Когда Мик во сне попадает в плохое место или к плохим людям, тут же появляется Зелёная Девочка: в старинном платье, с очень красивым лицом и бледно-зелёной кожей. Девочка берёт Мика за руку – и стремительным рывком они поднимаются вверх: к смятому одеялу, огоньку свечи и уютной темноте чердака, где пахнет птицами. Они просыпаются, ещё держась за руки. И если Девочка не уходит сразу за овальную медную раму, в масляную вечность картины, Мик ставит кофейник на огонь. Они сидят до рассвета, вслушиваясь в ночь и болтая о местах, в которых бывали во сне.
Я сказал, что Мика никто не знает, но вообще-то это не так. Я знаю про него (иначе как бы я всё это рассказывал), и, может, раньше ещё кто-то знал. Так что если быть точным – это Мик никого не знает. Вот это будет чистая правда.
Глава 1
В серый Город у моря я приехал по работе. Я пишу про разные места, чтобы люди могли знать, куда им ехать, а куда не стоит. Только работаю я на пароходную компанию, поэтому про всё приходится писать, что там здорово и приезжайте обязательно. Так что я профессиональный врун, хоть это и грустно.
Утром я распахиваю окно, за которым серая морось, крыши и шум моря. Ставлю кофе на плитку и ухожу в душ.
Возвращаюсь – а турка пуста.
– Забыл, – думаю, но тут же вижу на столе клочок тетрадного листа в клеточку. На нём лежит красивая ракушка и две старинные монетки: очень маленькие, тонкие и позеленевшие.
На листке корявыми печатными буквами написано: «Спасибо за кофе. Ракушка волшебная». Конец надписи неудержимо загибается вверх – а я знаю, что это признак хорошего настроения.
Кто-то в хорошем настроении купил мой кофе. За волшебную ракушку и две монетки.
Я бросаюсь к открытому окну – приставной лестницы нет, канатов не свешивается. Смотрю по сторонам – ближайшая водоотводная труба далеко, от моего окна не допрыгнешь.
Очень странно.
Я снова поставил кофе и взялся за монетки. Они были почти одинаковые, только одна истёрлась побольше. Рисунков и надписей было почти не различить. На одной стороне вроде бы птица, на другой – то ли цифра семь, то ли три. Семь чего? Три чего? Я такие монеты первый раз в жизни видел.
Волшебная ракушка была на вид самая обыкновенная, только сильно пахла морем, как будто её только что выловили. Я послушал её, понюхал и загадал желание – но ничего не случилось. Так что в чём волшебство и что она делает – пока непонятно.
Кофе сварился.
Я сел за печатную машинку и застучал по клавишам, выбивая очередной панегирик Городу.
«…Здесь понравится нумизматам и антикварам – по смешным ценам (пара чашек кофе в недорогом кафе) можно приобрести старинные монеты…»
Закончив текст, я собрал отпечатанные листы в большой конверт и сунул в карман пиджака.
Подумав, написал на тетрадном листке: «Ты переплатил» и нарисовал улыбающуюся рожицу. Листок я оставил мокнуть на подоконнике, а сверху положил одну монетку.
Натянул шляпу, пальто и вышел.
В Городе опять моросило. Миллионы капель шуршали по стенам и крышам домов, по асфальту. Сквозь морось радужно светилось высоко в небе маленькое солнце. Каштаны на бульваре были мокрые и ярко-зелёные. Очень красиво и пустынно – людей почти нет. По дороге я встретил только троих человек, и все они прятали лица под одинаковыми чёрными зонтами.
На почте посетителей тоже не было. В тишине, неожиданной после шума дождя, тикали часы. По стеклу дверей и окон стекали капли, а внутри было сухо и светло.
– Мне нужно отправить это в Гамбург, в пароходную компанию, – протягиваю конверт.
Девушка за стеклом вздыхает.
– Сейчас непогода. Последний почтовый самолёт вернулся в Город. Не смог пробиться через облачный фронт.
– А кораблём?
Она смотрит на меня как на дурачка.
– Я из Сибири, – объясняю я. – У нас моря нет.
– Кораблём тем более не получится.
– Ясно, – говорю я, хотя ничего мне не ясно. Что за облачный фронт и что за шторм? Над Городом всё было спокойно.
– А когда погода наладится?
Она пожимает плечами.
– Когда-нибудь наладится. Возьмите марки.
Я расплачиваюсь, наклеиваю марки на конверт – одна с белоснежным самолётом на голубом небе, другая с портретом бородатого грустного человека.
Значит, придётся задержаться в Городе. Мне нельзя уезжать, пока в Гамбурге не одобрят написанное.
Дождь тем временем усилился. Капли тяжелели на глазах, падали быстрее и чаще, сливаясь в сплошной прозрачно-серый поток. Из-за стекла слышен был приглушённый, но сильный и ровный шум воды. Может, и правда шторм.
– Скоро трамвай приедет, – говорит из-за стойки девушка. – Доберётесь.
– Спасибо, – киваю я, не отрываясь от окна. В непрерывном сером потоке, распарывая его, движется резкий чёрный силуэт прохожего. Одинокий, он упорно идёт вперёд, выставив перед собой зонт.
Я думаю о кофе, старых монетках и открытом окне. Шуршит и перестукивает дождь, еле слышно журчит вода в водоотводных трубах. Вроде бы что-то звенит тихонько и дребезжит где-то вдалеке.
– Подъезжает, – говорит девушка.
– Ага, – соглашаюсь я.
Трамвай показывается: смутный красно-белый прямоугольник за сотнями струй. Я говорю: «До свиданья», распахиваю дверь и бросаюсь под дождь.
Отчаянный рывок, весёлый плеск луж под ногами – и вот я, насквозь мокрый, внутри.
В трамвае уютно светят жёлтые плафоны и никого нет. Я осторожно шагаю к задней площадке и сажусь у окна. Позвякивая и дребезжа, мы трогаемся с места и, покачиваясь на поворотах, едем сквозь Город и дождь.
В окно почти ничего не видно – только струи воды и очертания домов. Из-за этого я пропускаю свою остановку, и когда дождь кончается, мы едем по незнакомым местам. Дома здесь совсем маленькие, тёмные и усохшие от времени. Перед домами – палисадники с умирающими от старости вязами и тополями. Трамвай дребезжит, вкатываясь на мост, и между домами показывается ненастное море до горизонта и пустое небо над ним. Совсем рядом. Как на краю света.
На остановке в трамвай входят трое портовых рабочих. Все такие здоровенные, что не помещаются на сиденьях – стоят в проходе, настоящая толпа великанов. Я тайком приглядываюсь и замечаю несколько мирных улыбок, которыми они обмениваются. Но про нужную мне остановку всё-таки не спрашиваю.
Трамвай поворачивает, и дождь мгновенно исчезает, как будто кулисы раздвинули. Уже вечер: карандашные, розово-синие сумерки опускаются на Город. Мы набираем скорость, отчаянно дребезжим, звеним на всю улицу, рабочие улыбаются.
– Смотри, – говорит мне один из них, указывая рукой.
За мокрым окном – небольшой круглый сквер со старым дубом в центре. Дуб красив и огромен: могучие ветви, прихотливые узоры крепкой коры, тяжёлые изумрудные листья. Он мелькает в окне всего на секунду, но и потом ещё долго кажется, что трамвай едет в тени его кроны.
– Спасибо, – говорю рабочему.
Он кивает.
Трамвай возвращается в центр. Улицы уже похожи на ту, где живу я, появились прохожие. Я думаю, что бы написать о дубе. Хоть это и глупо звучит: «Приезжайте в серый Город посмотреть на одно красивое старое дерево», но дуб и правда был самым красивым, что я здесь видел, и не сказать о нём было бы нечестно.
Дома под кухонным окном меня дожидается лужа – настоящий океан, в котором отражается небо с отблесками заката и плавают занесённые ветром листья. На подоконнике лежит монетка и промокшая, в расплывшихся чернилах, записка.
На следующий день я устраиваю засаду. Открыв окно и поставив кофе на огонь, я прикрываю дверь кухни и сажусь под ней. Гляжу в замочную скважину.
Кухня пуста, слышно, как гудит на сквозняке газовое пламя. Из крана капает вода. В открытое окно влетают далёкие крики чаек и тихий плеск волн.
Я думаю, что кофе сейчас выкипит – прямо на моих глазах, а я буду сидеть под дверью дурак дураком и никак не успею его снять.
Но в тот момент, когда над краем турки поднимается коричневая пена, в окне вдруг мелькает тёмный силуэт. Я неуклюже вскакиваю – нога затекла – распахиваю дверь…
На кухне никого, в проёме окна – только светло-серое небо и крыши домов. Кофе тоже нет, но на столе стоит маленькая, с большой палец руки, деревянная статуэтка.
Она очень здорово сделана, эта фигурка, и я долго её рассматриваю, верчу в руках и осторожно провожу кончиками пальцев по гладкому дереву. Если смотреть с одной стороны, то фигурка – старичок в халате и колпаке, с хитрыми круглыми глазами и бородой. А если смотреть с другой, то старичок превращается в ворона. Колпак – это клюв, а рукава халата – прижатые к телу крылья. Удивительная вещица!
Налюбовавшись, я снова ставлю кофе и заправляю бумагу в печатную машинку. Как бы написать о дереве, чтоб было не смешно и правдиво? Нужные слова не приходят на ум, и я решаю писать как могу и не мучиться. Кому надо, тот поймёт.
«В старом центре Города, среди узких бульваров и домов с высокими окнами и острыми крышами, растёт древний дуб. Точно неизвестно, но судя по размерам, он рос здесь задолго до первопоселенцев. Может даже весь Город-то был выстроен вокруг него. Вид его дополняет и смягчает общее впечатление от Города, с его тёмной водой каналов, пропахшими солью парками и пустотой в окнах старого порта. Дуб позволяет увидеть Город не мимолетным взглядом путешественника, а взглядом того, кто вырос в этом Городе и любит его».
Пароходной компании вряд ли понравится, но бог с ними. Сейчас меня больше заботил таинственный любитель кофе.
Я сидел и думал, но ничего не придумывалось. Он появился из окна. По верёвке спустился? Смешно. За то время, что я открывал дверь, невозможно было сделать ничего из того, что успел мой гость: выключить газ, перелить куда-то кофе, оставить статуэтку и сбежать.
Я скрутил папиросу, сунул в карман пальто ворона-старичка и вышел из квартиры.
Фасадом дом выходил на широкий бульвар, обсаженный раскидистыми тополями и каштанами. Я прошёлся по нему взад-вперёд, оглядывая окна, водоотводные трубы, балконы. Нашёл своё окно – единственное открытое. Ничего, что объясняло бы стремительное появление и исчезновение гостя, я не увидел.
Тогда я сошёл с бульвара и по узкому переулку вышел на заднюю сторону. Здесь дом выходил на пустырь, заросший исполинскими лопухами и репейником. Пустырь был просторный, свободно раскинувшийся под диким небом. Только три дома редкими зубьями создавали ему границы. По вечерам здесь с ликующими воплями носились дети, рассекая сумрак белыми улыбками, но сейчас пустырь был тих и пуст.
Дом мой с изнанки казался брошенным. Глухая стена из тёмно-красного кирпича, по низу обведённая мутной каймой из сливающихся рисунков и надписей. Рисунки простирались на высоту человеческого роста, а дальше, до самой крыши, был пустой кирпич. У подножия дома приткнулась маленькая трансформаторная будка. Я увидел на ней какой-то яркий белый мазок и подошёл. На сером металле красовалась надпись: «Пока мы спим, они живут».
Единственная свежая надпись, к тому же написанная отдельно от всех других, чтобы можно было заметить. Но при этом маленькая, чтобы заметили не все.
Это явно был какой-то знак, но для меня или нет – я не знал. Я прислонился к будке спиной и вытащил папиросу. Покурил, прислушиваясь к лёгкому шелесту травы под мелким дождём и плеску волн. Море было далеко от этого района, но волны было слышно везде, в каждом уголке Города. Так уж он был выстроен.
Поднимаясь в квартиру, я встретил соседа. Маленький, рыхлый и взъерошенный человечек, похожий на старую крысу. По ночам у него всегда тихо жужжало радио – может быть, он не мог без него заснуть. Сейчас он широко и весело улыбался, и это было очень неожиданно.
Остаток дня я провёл, листая газеты. Ничего полезного не нашёл, конечно. Ни об облачном фронте, ни о тех, кто «Живёт, пока мы спим», ни о тайном покупателе кофе.
В конце концов, туда такие же ребята как я пишут.
Той ночью я долго не мог заснуть: тишина комнаты казалась незнакомой. Не сразу я сообразил, что не хватает радио. За стеной было тихо – видимо, впервые за мою жизнь здесь. Я так вслушивался в эту тишину, что, кажется, сам населил её какими-то еле слышными призраками звуков – кто-то как будто скрёбся, тоненько скрипел.
Лёжа в полудрёме, я нащупал какую-то смутную идею, которая позволила бы наладить контакт с утренним гостем. Чтобы не забыть её наутро, я воспользовался одним трюком, которому меня научила в детстве мама.
Представьте глубокий колодец с тёмной, недвижной водой. Представьте крепкие деревянные ящики, в которых запечатан мой неясный план. Один за другим я кидаю ящики в туннель колодца, и они идут ко дну, протягивая вверх серебряные струи пузырьков. Я слежу за их медленным падением в темноту.
Утром я просыпаюсь, и тут же все вспоминаю. На кухне я распахиваю окно навстречу крикам чаек, быстрой мороси и блеску мокрых крыш. Ставлю кофе на синий огонёк газа и ухожу, аккуратно прикрыв дверь.
Захватив в коридоре пачку бумаги и ручку, возвращаюсь и сажусь в коридоре, под кухонной дверью. Пишу на листке крупными печатными буквами: «ПРИВЕТ» и просовываю под дверь. Следом ручку. Жду, прислушиваясь, но из вежливости не подглядываю.
Скрипит подо мной пол. На кухне капает из крана. Ещё слышу гудение газа и какие-то тонкие всхлипы – наверное, это обрывки чаячьих криков. Всё это вместе складывается в тишину, сплетается в мягкую тихую ткань, обнимающую меня, как одеяло перед долгим сном.
Наверное, сейчас я услышу шипение и плеск выкипающего кофе. Глупо получится.
Но ничего подобного. Идёт секунда за секундой, я мысленно прикидываю, за какое время кофе должен (должен был?) дойти до кипения…
А потом я вдруг почувствовал шаги. В пустой кухне кто-то осторожно и быстро подбежал к двери.
Я жду, затаив дыхание. Останется он или уйдет? Это похоже на охоту, и моя ловушка – белый лист бумаги с обманчиво-печатными буквами, – я жду, вслушиваясь и сжимая в кулаке ручку.
Наконец – я скорее чувствую это по мельчайшим колебаниям воздуха, чем слышу, – там, за дверью, он садится. Тень от ручки, которую я видел в проёме под дверью, пропадает. Я затаиваю дыхание и, готовый разразиться сотней приветственных гиканий и криков, слышу скрип пера по бумаге.
Он просовывает лист обратно.
«Привет! Ты кто?»
Почерк аккуратнее, чем на записке с волшебной раковиной.
Не просто ответить на такой вопрос. О чём он спрашивает? Наверняка не об имени, кому какое дело до имён.
Склонившись над бумагой, я быстро пишу:
«Я здесь живу. Я приехал в Город, чтобы рассказать о нём другим людям. Что есть в Городе красивого и интересного, где стоило бы побывать. Это моя работа. А ты кто?»
С азартом я проталкиваю листок обратно. Мгновение – и я уже слышу скрип пера по ту сторону двери.
«Меня зовут Мик, или Маленький Мик. Я читал, там всё неправда».
На это сложно ответить, я инстинктивно чувствую, что Маленький Мик не любит вранья.
Подумав, я пишу:
«Приходится привирать, ничего не поделаешь. Иначе мне бы не платили денег. Но правду я тоже пишу. Ты видел старое дерево? Я писал про него».
Лист мгновенно исчезает под дверью. Шорох ручки.
«Да! Очень красивый, самое красивое, что есть в Городе. Ты писал про него?».
«Да. Листы в машинке, если интересно».
«Подожди».
Я не слышу – скорее угадываю по легчайшим движениям воздуха и по колебаниям теней, как он встаёт и идёт к столу. Шелест бумаги.
Он возвращается и садится под дверь. Опять ничего не слышно, но как-то я угадываю его движения там, за дверью.
«Про дерево ты здорово написал, это правда. Напиши ещё про пустырь, и пляж, и острова. Это тоже будет правда».
Я улыбаюсь. Взять что ли и написать про пустырь? Так мол и так, одна из главных достопримечательностей Города и центр туристической инфраструктуры…
«Про пляж и острова напишу. Про пустырь обещать не могу. Это не понравится пароходной компании».
В ответ он прислал серию картинок: на первой был изображён маленький человек, стоящий прямо и держащий в руках что-то вроде метёлки, на второй – он же, но почему-то с сильно укоротившейся шеей, на третьей – снова с нормальной шеей.
«Это что?» – осторожно спрашиваю я.
«Это я пожимаю плечами», – приходит ответ.
Мне кажется, что он уйдёт, что он уже уходит, что ему надоело и стало скучно – и я в отчаянии бросаюсь в последний рывок, выпрыгиваю из чащи как неудачливый охотник и бегу к ловушке, из которой он уже выбирается.
«А мы можем просто поговорить?» – пишу я.
Лист замирает под дверью, потом исчезает. Я отчаянно вслушиваюсь в тишину, ища скрип пера, подрагивание листа, шорох бумаги – что угодно, только не голос, поэтому он оглушает меня, как гром среди ясного неба.
– Может быть, потом, – уклончиво говорит Маленький Мик. – Я зайду завтра утром.
Я слышу лёгкий шелест ткани. Он уже исчез.
За дверью шуршит морось, капает из крана вода, чуть поскрипывают подо мной, будто дыша, старые доски пола. Тишина.
С трудом поднявшись на затёкших ногах, я открываю дверь на кухню. Кофе как не бывало, и это кажется мне хорошим предзнаменованием. Значит, он скорее всего вернется. Иначе не стал бы ничего брать.
Поймал я его или нет? Приручил ли? Мне самому неприятно думать обо всем этом в таких словах, но отчего-то лезут на ум охотничьи мысли.
Чтобы отвлечься, я ставлю кофе и начинаю писать про пустырь.
Овеваемый ветрами,
Что колышут стебли листьев,
Что несут нам запах моря,
Запах солнца, соли, ветра,
Зарастающий бурьяном,
Лопухом и зверобоем,
И кустарником незваным,
И лихим чертополохом,
Вот – пустырь между домами!
Под косматым ясным солнцем,
Под дождём и быстрым ветром,
Загорелыми ногами
Вечером там свищут пули,
Стрелы меткие индейцев,
Раздаётся крик победный
Среди воплей чаек в небе.
Там колдуют твои дети,
Там сплетают из крапивы
Обереги и браслеты
И дары приносят духам,
Что живут среди крапивы,
Среди зарослей бурьяна.
А один – под старой шиной,
А один – во тьме оврага.
Слушай же о ветре песню,
Об осеннем славном солнце,
О полях сражений быстрых —
Пустыре между домами!
Закончив это неожиданное подражание «Песне о Гайавате», я со вкусом позавтракал, выкурил папиросу и отправился в киоск за утренней газетой. Остаток дня я провёл дома, листая книги из крохотной библиотеки, поглощая в неимоверных количествах кофе с молоком и переправляя стих. К вечеру, когда я совсем его испортил, отправился прогуляться на пустырь.
Было прохладно, на серо-голубом небе поблёскивали первые звёзды. Стая детей стояла кругом в центре пустыря, то ли держа совет, то ли что-то разглядывая. Я прислонился к трансформаторной будке, закрыв спиной сообщение о тех, кто живёт, и закурил. Тёмный круг детей в центре пустого поля, заросшего сорняками, выглядел загадочно. Они казались эльфами или колдунами.
Когда дети наконец заметили меня, дело приняло странный оборот. Ко мне направились две крохотные фигурки, а остальные развернулись полукругом, наблюдая. Я почувствовал себя неудобно, но уходить было глупо. Может, они просто хотят стрельнуть сигарету? Но странно, что все молчат.
Дети – когда они оказались ближе, я увидел, что это мальчик и девочка, близнецы с бледной кожей и тёмными волосами – развернулись, не дойдя до меня пяти шагов, и бегом бросились прочь, за угол дома. Остальные медленно попятились подальше от меня, в сумерки и заросли кустов.
Я затушил сигарету и пошёл домой. Всё это было странно и тревожно.
За углом меня встретил здоровенный толстяк в подозрительно сверкающем фартуке и с пиратской бородой. В тени этого гиганта, так что я их не сразу и заметил, скрывались близнецы.
– Что вы здесь делаете? – требовательно спросил он меня.
Это было уж чересчур.
– Гуляю, – коротко ответил я и попытался пройти мимо, но не тут-то было.
Здоровяк ухватил меня за борт пиджака и развернул к себе.
– Стойте на месте, не то позову полицию, – учитывая это странное задержание, он явно старался говорить вежливо и, кажется, не имел ко мне личной ненависти. Это успокаивало – вблизи он казался ещё больше и, не задирая головы, я упирался взглядом ему в грудь.
– Отпустите, – как мог, твёрдо сказал я. – И объясните всё по порядку. Не то я сам позову полицию.
– Он на нас смотрел, – пискнул из подножья здоровяка один из близнецов. Вот поганцы!
Однако мужчина всё-таки отпустил мой несчастный пиджак и чуть отодвинулся. То, что я не попытался броситься прочь, явно его успокоило.
– Что вы делали на пустыре один вечером? – миролюбиво спросил он.
Я пожал плечами и честно ответил:
– Гулял. Один мой знакомый попросил меня написать стихотворение об этом пустыре. Оно не очень получалось, и я решил прогуляться.
Он кивнул – не увидел в моей истории ничего необычного.
– Вы приехали погулять из другого района? Я вас не знаю.
Я начал раздражаться. В конце концов, какого черта!
– Я приехал недавно. Мне поручили написать об этом Городе пару туристических обзоров, – я смерил его тщательно выверенным холодным взглядом. – Рад, что мы с вами встретились. Это добавит пару живых деталей.
Он в свою очередь пожал могучими плечами.
– Мне до туристов дела нет. Сколько их было, столько и будет, что ни пиши, – он вздохнул. – Извините. У нас дети пропадают, вот мы и беспокоимся. А тут новый человек, да на пустыре – сюда взрослые вообще не ходят. Не положено.
Слово «Взрослые» очень странно звучало в его исполнении. Оно удивило меня даже больше, чем сам запрет. Этим словом он будто показал мне кусочек своего детства – такого же таинственного и прекрасного, многие истории которого прошли на этом самом пустыре, запретном для чужаков и взрослых.
– Я запомню, – искренне улыбнулся я.
Он кивнул и протянул мне руку.
– Я Клаас.
– Артём.
Отпустив мою руку, Клаас сказал:
– Вы уж простите малышню. Давайте, бегом отсюда.
Но близнецы, оказывается, уже успели когда-то исчезнуть.
– Осторожные ребятки, – заметил я.
– А то, – он ухмыльнулся, сверкнув в сумерках белоснежными зубами. – Ну что, Артём. Давайте я вас угощу парой кружек пива, а?
Я кивнул.
– С удовольствием.
С тихого бульвара мы свернули на неожиданно оживлённый проспект. Таким я Города ещё не видел: в сумерках сиял свет фар и фонарей, мимо проходило множество людей (мужчины были одеты более-менее привычно, зато женщины светились яркими красками: бирюзовым, пепельно-розовым, жёлтым, зелёным). Плеск волн был еле слышен из-за оживлённого гула голосов.
Я думал, Клаас отведёт меня в какую-нибудь местную пивную, где собираются жители окрестных домов. Но, распахнув дубовые двери, он ввёл меня в тихий и просторный ресторан, сверкающий белыми скатертями и хрусталём. Посетителей было немного, несколько пар – мужчины, как я успел заметить, во фраках, а женщины в прекрасных платьях. Фартук Клааса и мой потрёпанный пиджак выглядели даже не неуместно. Мы смотрелись как персонажи агитационного плаката «Нищие пролетарии и жирующие за их счёт высшие классы».
Но Клаас уверенно провёл меня к столику в уютной нише. Мы уселись, и я, тяжко вздохнув в глубине души, взял меню. Опасения мои были не напрасны.
– Я здесь работаю, – Клаас понял мои сомнения. – Нам подадут из кухни, платить не нужно.
Я кивнул.
– Тогда закажите на свой вкус, Клаас.
Подошедший официант – высокий, тонкий и чёрно-белый – весело улыбался.
– Привет, Клаас.
– Привет, Жак. Как жизнь?
Жак – веснушчатый, курносый, улыбающийся и, несмотря на это, кажущийся очень серьёзным и опытным человеком – пожал плечами.
– Неплохо.
– Принеси нам с другом два мартовских, пожалуйста. И Фрюлингсброт.
Жак кивнул и удалился.
– Что такое Фрюлингсброт?
Клаас довольно улыбнулся.
– Весенний хлеб, если дословно переводить. Хотя это и не хлеб вовсе… В общем, попробуете. Его только у нас в Городе делают.
– Что ж, будет материал для обзоров.
Клаас, кажется, немного помрачнел при этих словах.
– Да, я как раз спросить хотел… Вы это сами придумали сюда приехать?
– Нет. А что такое?
Клаас, кажется, чувствовал себя неловко.
– Да видишь, Артём… – начал он, сбившись вдруг на «Ты», но тут вернулся Жак с двумя запотевшими кружками тёмного пива и белой керамической миской, пахнущей чем-то весенним и острым.
– Спасибо, – сказали мы с Клаасом, и Жак ушёл.
Пиво было терпкое, густое, с сильной хмелевой ноткой. Пригубив, я попробовал Фрюлингсброт, который оказался никаким не хлебом, а мелкой хрустящей рыбкой, обжаренной в тёртых помидорах, моркови и сладком перце.
– А почему весенний хлеб?
– Когда Город был только основан, хлеба постоянно не хватало. Его возили в основном с материка, морем. А с морем были те же проблемы, что и сейчас.
– Облачный фронт? – попробовал блеснуть я.
– Да, вроде того. В общем, того, что здесь выращивалось, хватало дай бог на зиму. А к весне муки в Городе не было. Зато как раз весной приплывала вот эта рыбка.
Клаас захрустел рыбкой.
– Интересно, – сказал я. – Клаас, а что всё-таки с пропажей детей?
Дожевав и выпив, Клаас отёр бороду и посмотрел на меня.
– Пропадают. Что тут ещё скажешь.
– В газетах, – говорю, – ни слова не видел.
– Ты, наверное, недавно в Городе, – пожал плечами Клаас. – Ещё не застал ни одного.
– Две недели.
– Последнее исчезновение было месяца два назад. Насколько я помню.
– И никого из пропавших не нашли?
– Кого-то находят. Но многих нет, – он вздохнул, откинулся на спинку кресла и поглядел на меня. – Ты думаешь о журналистском расследовании? Или, не дай-то бог, планируешь добавить остренького в свои туристические обзоры?
– Туристов же, – говорю, – сколько было, столько и будет. Что ни пиши, – и подмигиваю ему. Вдруг захотелось подмигнуть.
Клаас рассмеялся, но тут же посерьёзнел и сказал:
– До туристов мне и правда дела нет. Просто я бы на твоём месте лучше изучил историю Города. И подыскал бы себе работу. Так, на всякий случай.
– На какой ещё всякий случай… – начал я, но Клаас махнул рукой.
– Но можно заняться и расследованием, – сказал он.
Мы взяли ещё по пиву, закурили, и Клаас начал рассказ.
– Дети пропадают всегда, это понятно. На то они и дети.
– Но их стало пропадать больше?
– Больше, – кивнул он. – И не только в этом дело. Город не такой большой. Уехать из Города не так-то просто, да и некуда уезжать. Поэтому так или иначе дети обычно находились.
Это тоже по-разному бывало, – он вздохнул, глубоко затянулся, и выпущенный дым струйками завился вокруг бороды. – У меня у самого близнецы, ты их видел. Я думал обо всём этом. Своё детство вспоминал, какие тогда ходили истории… В общем, дети обычно находились. Чаще всего вообще через две-три недели, продрогшие и оголодавшие. Жили по чердакам, на островах или в шалашах на пляже… Был случай, когда ребёнка нашли через двадцать лет. Он был уже, конечно, никаким не ребёнком. Здоровый парень, трубочист – я фото в газете видел. Пришёл к своим же родителям камин продувать. А пропал он в пять лет…
– И что же он делал всё это время? – скептически спросил я.
– Говорил, что жил на крышах, – пожал плечами Клаас. – Много чего говорил, но это давняя история. Лет пятьдесят тому назад.
– Может, просто самозванец?
– Может. Хотя мать его признала, да и отец потом тоже. Были и другие истории. Тут что-то уходит в давнюю-давнюю историю Города, я сам толком не знаю, откуда всё это пошло. Но есть такие места, куда взрослые не ходят. Неприлично это считается.
– Как пустырь?
– Да. Хотя он даже меньше, чем другие, – непонятно объяснил Клаас. – В общем, иногда дети, вроде бы, просто оставались в таких местах. Не выходили к взрослым и всё.
Я взглянул на Клааса. Он вроде не шутил.
– И их не искали. Потому что взрослым в такие места ходить неприлично. Я верно уловил?
– В таких местах их искали сами дети, – пожал плечами Клаас.
– Эффективно! – не удержался я.
– Я понимаю, как это всё звучит. Но это действительно так.
Всё это звучало нелепо, но я вспомнил про Маленького Мика.
– Среди пропавших в недавнее время не было никого по имени Мик?
Клаас на мгновенье задумался.
– Нет. Из тех, о ком писали в газетах, точно нет. А что?
– Пока ничего. Так, странность небольшая…
Клаас посмотрел на меня с интересом, но расспрашивать не стал.
– Ладно, – сказал я. – Когда началась волна исчезновений?
Клаас пожал плечами.
– По-разному можно считать. Я бы считал от исчезновения Эженки Новик, три года назад.