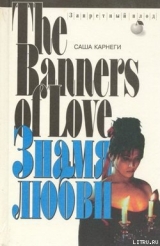
Текст книги "Знамя любви"
Автор книги: Саша Карнеги
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Глава II
Пугачев не упоминал о женитьбе, а в июне станичные казаки оседлали своих лошадей и отправились на восток. На этот раз они собирались на Волгу грабить богатые баржи купцов, плывущие в Астрахань или Казань.
Пугачев повесил себе на шею мешочек с донской землей и ладанку, надел грубую рубаху и перекрестился перед иконой.
– Храни меня, раба божьего Емельяна, золотыми гвоздочками от булата и пороха, от копья да от сабли.
Он наспех поцеловал Казю и коснулся рукой ее округлившегося живота.
– Береги его крепко, даня, – с этими словами он вышел из хаты. И казаки поскакали по широким степям между Доном и Волгой, где во времена Золотой Орды стоял шатер самого Батыя, где татарские ханы пировали на досках, уложенных на тела русских князей, а обнаженные княгини прислуживали победителям.
Во время долгих месяцев беременности Казя часто оставалась одна. Вернувшись в конце августа из похода, Пугачев большую часть времени проводил в соседних станицах, где он встречался и разговаривал с казаками из Запорожья, с Кубани и из Яицкого городка на Урале. О чем он с ними вел разговоры, Казя не знала – в отличие от Дирана, он не рассказывал ей о своих делах.
– Чертовщину он замышляет, – покачивала головой Наталья Ушакова. – Шебутной он, твой Емельян.
Из этих поездок Пугачев обычно возвращался под утро, изрядно навеселе, и не раз покушался поучить свою жену кулаками, но Казя вовремя напоминала ему о ребенке. Пугачев заливался пьяными слезами и клялся, что впредь не тронет ее и пальцем.
Постепенно она раздалась и ходила осторожными шажками, ощущая себя одной из коров на лугу, безмятежной и тучной. Когда она в полудреме лежала в тени вишневых деревьев, ее мысли часто возвращались к Генрику. В такие минуты она удивлялась Божьему промыслу, который свел их вместе только затем, чтобы разлучить так жестоко. Но эти думы не терзали ей душу. Она вкусила сладость покоя, а новая жизнь, которую она вынашивала в своем чреве, заставила Казю забыть о былых печалях. Когда Пугачева не было рядом, она редко о нем вспоминала. Иногда она отправлялась гулять далеко за пределы станицы. Однажды в полдень она лежала около ручейка в узкой лесистой лощине, одной из многих, которые, наподобие змей, прорезали ровную степь. Это было ее излюбленное место. Рядом на траве лежала аккуратная вязанка хвороста, готовая к неспешному возвращению в станицу. С прохладным журчанием струилась вода. Казя перевернулась на бок, закрыла глаза и уснула, думая о речушке, разделяющей владения Волочиска и Липно.
Она проснулась, оттого что услышала неподалеку от себя голоса. Мужчина тихо разговаривал с женщиной. Не совсем проснувшись, Казя досадовала, что ее одиночество было нарушено. Мужчина засмеялся, и она полностью очнулась от сна, узнав смех Емельяна. Женщина в ответ захихикала, и, насторожив слух, Казя признала в ней Соньку. Она наполовину привстала, но, передумав, снова легла. Она не сомневалась в том, что увидит.
Она не любила его, никогда не любила, и в эту минуту очень отчетливо это понимала. Но одна только мысль о сопернице была ей ненавистна. Голоса затихли. Над ее ухом зазвенел комар, и она нетерпеливо отмахнулась, снедаемая желанием услышать их разговор. Женщина вновь захихикала. Потом тишина. Запела птица, отозвалась другая, но женский крик, полный исступленного наслаждения, заставил их испуганно замолчать.
Голоса внезапно приблизились, и, осторожно выглянув из-за густых кустов, Казя увидела пару босых загорелых ног и заскорузлые сапоги Пугачева. Она услышала свое имя.
– Приворожила тебя панночка, – голос Соньки дрожал от ненависти.
– Не бывало ишо на свете таковской бабы.
– Ребятенка жалеешь, али что? Пугачев не ответил.
– Все едино, Емельян, моим ты будешь.
– Она дите мое носит. Невдомек тебе, дура?
Голоса исчезли.
Казя лежала в раздумьях. Уже целый месяц она не позволяла ему себя трогать, а Емельян не мог обойтись без женщины. Казя пришла к счастливому заключению, что Емельяновы шашни ей безразличны. Улыбаясь над незадачливой Сонькой, Казя подобрала вязанку и выбралась из тенистой лощины. Через три дня она родила сына.
У попа были длинные, сальные волосы, жирные губы и спутанная седая борода. От него крепко несло табачным дымом и чесноком.
– Отрекается ли сие дитя от сатаны и всех его козней? – спросил он крестных родителей, каждого по отдельности.
– Отрекается, батюшка.
Казя посмотрела на своего сына, который мирно покоился на руках Агриппины Бородиной, жены станичного атамана. Ребенок с любопытством оглядывался вокруг себя и спустя некоторое время издал басовитый довольный вопль.
– Смотри, смотри, смеется дитятко. Счастливым будет.
– Не робеет, казак, да и только.
Они переговаривались между собой, пока священник, стремившийся как можно быстрее покончить с обрядом, продолжал сыпать своими вопросами. Пугачев стоял поодаль и, состроив презрительную мину, выражал свое крайнее неодобрение к поповским штучкам.
– Обещаете ли воспитать сие дитя в истинной православной вере?
– Обещаем, батюшка, – послушным хором откликнулись крестьяне.
Казя подумала о своей матери. Ее внук не станет добрым католиком. Для Марыси любая религия, кроме ортодоксального католицизма, представлялась чем-то вроде верований людоедов из Африки. Сейчас она, верно, с ужасом взирает с небес на своего внука. Похожий в профиль на стервятника, священник склонился над ее сыном.
– Изыди, нечистый дух.
Он запихнул в рот ребенку щепотку соли. Измученный чрезмерным вниманием, младенец сморщил розовое личико и истошно заплакал.
– У-тю-тюшеньки – тю-тю, – успокаивала его Агриппина. – Потерпи, дитятко, потерпи.
– Во имя Отца, Сына и Святого Духа нарекаю имя тебе Михаил.
Поп вынул из складок рясы длинный нож и срезал с детского темечка мягкие волосы.
– Теперь ты раб Божий...
Обряд завершился, и ребенка вернули матери. Казя и Пугачев вместе с гурьбой друзей отправились в дом станичного атамана Дмитрия Бородина, где затевалась праздничная пирушка по случаю крещения ребенка. Под стать веселой толпе на крышах оживленно шумели галки.
* * *
Казя сидела на лавке и кормила грудью своего сына. Все ей было приятно: и ленивая истома, владевшая ее телом, и жадное причмокивание малыша. Из горницы доносился разноголосый шум. Празднество было в самом разгаре. Кричали все разом, и надо было иметь луженую глотку, чтобы перекричать радостно галдящее сборище.
– А кабы сошлись мы вместе – с Дона, с Днепра, с Кубани... – она узнала голос Чумакова.
– Сарынь на кичку! – выкрикнул кто-то старинный казацкий клич, служивший сигналом к разбойному нападению. Все одобрительно заревели.
Казя прижала к себе ребенка. Неужели он станет таким же, и всю свою жизнь будет проводить в грабежах и убийствах? И пойдет на Польшу с саблей в руке? Ребенок мирно сопел у ее груди. Она его ласково покачала, а потом бережно уложила в люльку и перекрестила, стараясь отогнать все тревожные мысли.
Она почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. В дверях стоял Чумаков. Она быстро отвернулась, пряча от него обнаженную грудь.
– Что тебе надо? – она залилась румянцем, и ее это злило.
– Щенок-то ваш... – он икнул и не договорил. Казя отодвинулась от него еще дальше. – Чтоб ты провалилась, ведьма, – сказал он заплетающимся языком и вернулся в горницу. Казя пошла за ним и села рядом с Емельяном. Он обнял ее за талию.
– Как он, голубушка?
– Спит.
Гости сидели за низким татарским столиком, накрытым армянской скатертью. Пламя свечей в серебряных канделябрах, отражаясь, блистало на украшенных искусной чеканкой пистолетах и саблях, которые были развешаны по стенам горницы. Земляной пол скрывали толстые турецкие ковры, золотые и серебряные тарелки ломились от обильной еды.
Горница благоухала запахами вареной говядины, жареных поросят, запеченной рыбы и дымящегося борща» полного свеклы, капусты и жирных овечьих курдюков.
Казаки ели усердно, набивая животы до отвала. Вдоль стен стояли объемистые бочонки с водкой и пивом, чтобы каждый мог себе нацедить кружку-другую. На казаках были праздничные наряды: шелковые кушаки, вышитые сорочки и сафьяновые сапоги. Лица лоснились от пота, по ним каплями стекал жир; ложки без устали погружались в миски; длинные ножи кромсали на куски мясо.
Они говорили, смеялись, спорили, пели, и Казя сполна наслаждалась этим дружеским веселым застольем. Время от времени Пугачев нагибался и ласково ее целовал.
– Песню, Платон. Песню.
Печально затренькали балалайки, гомон умолк, и упоительный голос Платона наполнил низкую горницу. Он пел о юном казаке, который каждую ночь встречался у тонкой березы со своей любушкой. Ему стали подтягивать и вскоре запели дружным протяжным хором. У Кази на глаза навернулись слезы.
– Что грустишь, даня? – Пугачев обнял ее крепче.
С тех пор как родился их сын, он на свой неуклюжий манер старался быть добрым и чутким, всячески выказывая свою любовь.
– Что-то взгрустнулось.
– Не надобно сегодня грустить, – он начал хлопать в ладоши певцу. Его отец изготовился произнести речь.
– Други-казаки, мы тут сидим...
Он внезапно обмяк и уронил голову на стол.
– Дайте ему помидор!
Его голову оттянули за волосы и запихнули в рот помидор, вымоченный в постном масле – казацкое средство от чрезмерного опьянения.
Она слушала бесконечные здравицы в честь ее сына.
– За Михаилу Пугачева, чтоб он стал удалым казарм, как его батька, чтоб крошил, как капусту, турков и л-л... – казак прикусил язык. – Прошу прощения, запамятовал я...
– Ну отчего же, – крикнула она весело. – И ляхов. Идите на Польшу, вы много чего увидите, если, конечно, останетесь целы, – она засмеялась, чтобы сгладить прозвучавший в ее голосе вызов.
– Хорошо сказано, – заметил атаман Дмитрий Бородин.
– Дать Казе саблю – и не сносить нам голов. Дмитрий Бородин расчистил себе место и медленно взобрался на стол.
– Братцы, – сказал он, – стукнемся чарками за шутку.
Казаки осовело смотрели на своего атамана, стараясь не хлопать глазами и собрать воедино хмельные мысли.
– Пущай он вырастет храбрым, как его батька, и пригожим, как его мать.
Одобрительный топот ног.
Здравицы, речи, песни следовали друг за другом, по мере того как убывала водка в бочонках. Красные лица... Бороды, вымазанные в сале... похрапывание менее стойких казаков. Емельян куснул ее за ухо.
– Пойдем домой. Пойдем, даня.
Чумаков, покачиваясь, прожигал ее пристальным взглядом.
– Ты иди. Мне надо помочь Агриппине. Я быстро, – сегодняшним вечером ей хотелось его сильного тела, и она предвкушала предстоящую ночь.
Гости высыпали из хаты и с песнями пошли вниз по улице, спотыкаясь на рытвинах, затянутых тонким ледком. Наиболее подвыпившие добирались до дому на четвереньках. В чистом морозном воздухе звенел женский смех. Пугачев шагал в самой гуще галдящей оравы.
Казя помогла Агриппине убраться в горнице. Дмитрий Бородин с парой своих закадычных друзей вспоминал былые дни и походы, и Агриппина никак не могла вытурить их из-за стола. Но постепенно один за другим, сморенные усталостью и выпитой водкой, они опрокидывали свои седые головы на ковер. С полдюжины вольно разметавших ноги и руки гостей лежали под столом и довольно похрапывали. От спертого воздуха у Кази закружилась голова, и она пошла постоять на крылечке, подставляя лицо холодному ночному ветру.
На востоке небо было уже почти светлым от приближающегося рассвета. За низкими хатами смолкло пение. Генрику пришлось бы по вкусу подобное празднество. Он был бы счастливей в казацкой хате, чем в классах Конарского. На мерзлую траву, словно холодный дым, опустился туман, и где-то вдалеке завыл волк. В болоте квакали лягушки, с неба доносилось кряканье диких уток, перекочевывающих на юг. После праздничного шума все вокруг казалось благословенно тихим. Она закрыла глаза и с наслаждением вдыхала чистый холодный воздух.
Из тени высоких подсолнухов у плетня отделился приземистый силуэт. Вытянув руки, словно медведь, подкрадывающийся к добыче, он очень тихо подошел к крыльцу. Она услышала, как под его сапогом хрустнул камешек, и в тот же миг он стиснул ее руками, уткнувшись колючей бородой в ее шею. Казя беззвучно сопротивлялась, пытаясь вырваться, но он держал ее слишком крепко.
– Будет ломаться, нешто я не видел, как ты на меня пялишься. Охота мне тебя, Казя, – она видела, как при бледной луне сверкают его глаза и темнеет разверзстая яма рта. – Айда со мной, Казя, – неистово убеждал он. – Пойдем на реку.
Чумаков был мал ростом, но невероятно силен. Казя продолжала отчаянно бороться.
– У тебя есть жена, – прошептала она. – Иди к ней.
– Я видел, как ты на меня пялишься, – повторил он, присосавшись к ее губам. Он ухватил ее за набухшую грудь, так что с треском поползла ткань. Высвободив одну руку, она вцепилась ему в бороду.
– Брыкайся, ведьма, брыкайся, – приговаривал он, обдавая Казю тошнотворным запахом перегара. Она набрала в грудь воздуху и плюнула ему прямо в лицо. С проклятьем он на мгновение ослабил хватку, и, воспользовавшись этим, Казя ударила его коленом в пах. Взвыв от боли, Чумаков сразу же отступил назад, рухнул на землю и скрючился пополам. – Ты... – он выплеснул на нее поток грязной брани. Из хаты раздался голос:
– Ты там жива, Казя?
– Да. Это... это Ф-фрол, он напился.
– Пущай голову в проруби остудит, – засмеялись женщины.
Она смотрела, как Чумаков пытается встать. Похожий на гигантскую лягушку, он уселся на корточки, мотая головой и ругаясь. Выпрямиться ему так и не удалось, и, недолго думая, он пополз прочь на четвереньках.
Дверь отворилась, и из хаты выглянула Агриппина.
– Опять дитятко заревело. И все из-за ихнего шума. Кабы мужики сами детей рожали, небось не горланили бы песен.
Она взглянула вниз на дорогу.
– Что это?
– Фрол, – Казя колебалась. – Может, помочь ему?
Она придерживала рукой разорванную на груди кофту.
– Пусть его, пьяницу. Ему не впервой на карачках домой ползти.
Когда Казя снова вышла на улицу, прижимая к себе ребенка, Чумакова уже не было видно. На горизонте бледно брезжил рассвет; на ветвях вишневых деревьев и на плетнях белесоватыми клочьями висел туман. Она неторопливо шагала среди невысоких хат, наслаждаясь волшебным очарованием поздней осени.
Дома она уложила ребенка в люльку и, наклонившись, поцеловала его розовый, пуговичкой, нос.
– Поди сюда, даня, – прошептал Емельян с лавки, – покуда он снова твою титьку не захотел...
В декабре разыгрался первый буран. Три дня он кружил над степью и над крышами Зимовецкой, так что из снега остались торчать только печные трубы.
Люди забились в хаты и сидели у теплых печей, ленивые и вялые, словно сурки в своих норах. За окнами жестокий мороз сковал реку ледяным панцирем и превратил землю в гулкий промерзший камень.
Казя дремала у печки, сквозь сон покачивая ногой колыбель. Ребенок всю ночь проревел, и ей не удалось выспаться. Под утро он успокоился и теперь мирно спал, выпростав из-под пеленок руки. В горнице было жарко натоплено и уютно пахло гречишной кашей. На лавке похрапывал Пугачев.
Ветер уже полностью стих, и она слышала, как люди отгребают от своих дверей снег. Она решила выйти на улицу и подышать свежим воздухом. С Мишуткой ничего не случится, а если он проснется и заревет, то его услышит отец. Она закуталась в тяжелый овчинный тулуп, обула валенки, нахлобучила баранью шапку, а затем изо всех сил навалилась плечом на заметенную снегом дверь, которая затрещала и с натугою поддалась.
Сквозь серую пелену облаков робко проглядывало солнце. Проваливаясь в высоких сугробах, Казя отправилась к речке. Соседи, занятые расчисткой снега в своих двориках, наперебой с ней здоровались. После непрерывного завывания бурана кругом стояла удивительная тишина, которую нарушали только радостные крики ребятишек, катающих снежных баб.
Вороны и галки жались поближе к трубам, из которых в морозный воздух поднимались струйки желтоватого дыма. На мгновение облака рассеялись, и ослепительно засиявший снег полоснул Казю по глазам.
– Казя, иди к нам! – в студеной неподвижной тишине далеко разносились детские голоса. Она вступила с ними в азартную перестрелку снежками, а потом, раскрасневшаяся, побежала к реке.
– Казя, вернись! – кричали обожающие ее ребятишки.
Стоя на берегу реки, она заметила далеко в снегу маленькую черную точку. Вскоре она увидела, что это был всадник с надвинутым на глаза башлыком и белой от инея бородой. Он приблизился к ней и усталым голосом спросил, как проехать к хате атамана Дмитрия Бородина. Подняв плеть в знак того, что понял ее объяснение, он поскакал дальше. Наблюдая, как его темная фигура скрывается среди сугробов, Казя ощутила смутную тревогу. Всадник был безмолвный и зловещий, окутанный ореолом неумолимого рока, как будто сама смерть скрывалась в его седельных сумках. Выбросив мрачные мысли из головы, Казя тем не менее поторопилась домой.
Она отворила дверь и увидела, что кто-то склонился над колыбелью.
– Емельян...
Фигура выпрямилась и попятилась к стене. С диким криком Казя рванулась вперед. Она узнала старуху Аксинью.
– Что ты здесь делаешь? – Казя опустилась на колени около люльки.
Михаил только что проснулся и теперь вертел головой из стороны в сторону.
– Мишенька, ты здоров? Что она с тобой делала? Я здесь. Я вернулась. Никто тебя не обидит. Никто...
– Я вреда не чинила, – проскрежетала старуха. – Просто поглядела на дитятко. Дверь-то настежь, я и вошла.
– Кто тебя послал? Зачем ты пришла? Черепашье лицо старухи сморщилось еще больше. Ее тело было бесформенным от груды тряпья, которое она на себе носила. На поясе у нее висели обычные атрибуты ее ремесла: высушенные трупы мелких зверушек и птиц, связки целебных трав и многочисленные амулеты. Аксинья была станичной знахаркой; она нашептывала женщинам туманные предсказания, давала им пить мутное варево и снабжала уродливыми амулетами, которые беременные женщины должны были носить на животе. Пугачев часто настаивал, чтобы и Казя заручилась ее содействием. Но одна мысль об омерзительной грязной старухе вызывала у Кази неописуемое отвращение.
Она стояла между колыбелью и дурно пахнущей ведьмой, которая, отпрянув назад, что-то бормотала беззубым ртом.
– Кто тебя послал? Сонька Недюжева?
Глаза Аксиньи злобно блеснули из-под спутанных седых волос.
– Сонька?
– Раб Божий мне сказывал, будто сынок у тебя пригожий, – она ступила вперед.
– Убирайся! Поди прочь! – Казя подняла кулаки.
– Я одно заклятье ведаю про бел-горюч камень Алатырь. Дозволь мне, красна девица, толечко тронуть дитятко, – ее рука, изогнутая, как воронья лапа, взмыла вверх, – ух, он богатырем вырастет.
– Нет. Поди прочь.
Старуха сжалась, будто зверь, готовящийся к прыжку. В комнате стало темнее, откуда-то повеяло холодом, глаза ведьмы разгорелись, как уголья. Она зашипела:
– Ты, змея Ирина, ты, змея Катерина, ты, змея полевая, ты, змея луговая, ты, змея болотная, ты, змея подколодная, сбирайтесь укруг и говорите удруг. Недолго тебе осталось видеть своего сына, Казя Раденская.
– Убирайся! – голос Кази дрожал от гнева и страха, она схватила со стола нож и пригрозила старухе.
– Если ты его тронешь, я убью т-тебя.
– Поплатишься ты за это, Казя Раденская, – злобно сказала старуха. – Никто не грозил мне до сей поры.
Казалось, что старуха росла в размерах, пока ее бесформенная фигура не заполнила всю комнату. Уродливая тень от ее горба колыхалась на потолке.
– Чтоб жгло тебя в ретивое сердце, в черную печень, в горячую кровь, – каркнула старуха. Казя невольно отступила назад, – в становую жилу, в сахарные уста... – она осеклась, поглядев Казе в глаза и на ее решительно поднятый нож. Продолжая бормотать проклятия, она бочком выскользнула за дверь. Казя задвинула за ней засов и, дрожа, опустилась на лавку, все еще держа в руке нож. Михаил давно проснулся и хныкал, требуя еды. Она дала ему грудь и постаралась успокоиться, чтобы не высохло молоко. Но когда поздним вечером пришел Пугачев, она все еще была вне себя, и ее волнение вылилось в вспышку гнева.
– Ты ушел и оставил его одного! Х-хорош отец! – выговаривала она ему. С Пугачева капельками стекал тающий снег; он виновато постукивал валенками и был похож на нашкодившего школьника. Казе хотелось дать ему подзатыльник.
– Он спал, – пристыженно пробормотал Пугачев.
– Спал?! И ты ушел, даже не затворив дверь! – она рассказала ему об Аксинье. – Бог знает, что она делала с Мишенькой, пока я не вернулась.
– Меня позвали на круг[5]5
Круг – собрание казаков
[Закрыть].Я должен был идти, – его брови сердито сошлись. – Пошто ты, женщина, кричишь на меня? Здесь я хозяин.
– Ее послала Сонька. Я знаю, что Сонька. Она сделает все, чтобы навредить нам.
Пугачев не ответил и придвинулся к ней со сжатыми кулаками.
– Д-давай. Бей.
Она смотрела ему прямо в лицо, не мигая. Он поднял кулак, но тут же его опустил.
– Прости, – неожиданно сказал он. Прежде он никогда не просил прощения. Он взял четверть самогона и наполнил две кружки. – Выпьем, и не будем ссориться.
Самогон согрел ее и вернул на бледное лицо румянец.
– Я не видел Соньку с той поры, как родился Ми-шутка, видит Бог, – он перекрестился, и Казя ему поверила. Она принялась за готовку ужина, и эти немудреные хлопоты ее успокоили. Она чистила картошку и пыталась не вспоминать об угрозах старухи.
– Я встретила всадника, – сказала она. – Он ехал из-за реки. Что за новости он привез?
– Весной поход затевается. Ишо с полдесятка станиц с нами пойдет, – он выдержал паузу. – Я буду вожаком.
Она знала, как он гордится собой.
– Замечательно, – Казя не могла долго сердиться.
– Привезу тебе новых нарядов, злата, каменьев... Он рассказал ей новости из Москвы.
– У великой княгини родился сын. Павлом назвали.
От большого чугунного горшка валил густой пар. Казя увидела в нем лицо Фике. Она вспомнила, как они гуляли по замерзшему озеру и Фике говорила: «Я не хочу всю жизнь прозябать в глуши. Я не хочу, чтобы мой сын прозябал в глуши...» Они говорили о прекрасном принце, который прискачет за ними и увезет в свой дворец. А затем они услышали вой волков. Поразительно, как грозный рок может в одну минуту разрушить чье-то хрупкое счастье.
– Но что нам с того, – Пугачев недовольно зашевелился на табурете у печи. – Немка приезжает в Рассею, ее зовут великой княгиней, и нате вам – сынок у нее. Что теперича снег падать не будет? Лед на Дону растает? Нет. Чего там в Петербурхе творится, нас не касаемо.
Казя слушала Емельяна вполуха и думала о Фике. Они обе имели сыновей: один будет воспитываться во дворце, а другой – в казацкой избе; один будет постигать науку правления, а другой – приемы обращения с седлом и саблей. Все равно она не променяла бы своего Мишеньку на все королевства мира.
– ...царевич родился, царевич родился! Пущай бояре с ним носятся. А голытьбе до этого делов нету. Бояр-то горстка, а голытьбы тысячи. Ежели им дать вожака... – воображение рисовало ему неудержимую лаву всадников, топот бесчисленных ног, марширующих из южных степей на Санкт-Петербург. – И ничего боле, – задумчиво подытожил он. – Людишкам вожак нужен.
Она поставила ужин на стол. Емельян ел молча, и мыслями был далеко отсюда.
Ночью над степью заново разыгрался буран.
Этой же ночью, когда буран был в самом разгаре, вдруг заболел ребенок. Как только он проснулся и начал истошно реветь, Казя не на шутку встревожилась, потому, что обычно ее сын по ночам не плакал. Она встала и зажгла лампу. В чадящем свету было видно, как он дрожит. Его личико покрылось испариной. Она закутала его в шерстяную шаль и прижала к себе, чтобы согреть.
– Скажи мне, сыночек, что у тебя болит, – шептала она, – скажи, Мишенька.
Его лицо искривилось от боли, а все тело как будто одеревенело.
– Емельян!
Пугачев сонно зашевелился на лавке.
– Пожар, что ли?
– Мишенька болен. Очень болен. Не реви, маленький, не реви. Согрей ему молоко – быстро. Не плачь, Мишенька, не плачь, – она чувствовала себя совершенно беспомощной. Детские крики становились все тише. У Кази упало сердце.
– Быстрей, Емельян, быстрей. Он задыхается. Он не может дышать, – она сунула ему в рот палец, пытаясь нащупать опухоль.
– Господи милостивый, – молилась она вслух, – спаси моего сыночка.
Взъерошенный Пугачев натянул штаны.
– Вы, бабы, ровно наседки, – сказал он, наливая молоко из крынки, – все бы вам покудахтать. Малец мигом оклемается. Его лихорадит маленько.
Но когда Пугачев услышал, как, задыхаясь, хрипит ребенок, и увидел пузырящуюся на его губах пену, то гонял в душе, что их сына уже ничто не спасет, хотя его разум отказывался в это поверить. Теплое молоко лилось из детского рта на пол.
– Что делать? – кричала Казя. – Нельзя смотреть, сак он умирает. Сделай же что-нибудь!
– Я пойду за Аксиньей, – Пугачев надел тулуп. – Я за волосы притащу эту ведьму.
– Не надо Аксинью, она... – но Пугачев уже хлопнул дверью.
Она укачивала Михаила; клала его у печи; металась горнице; горячо молилась у закопченной иконы; пыгась еще раз напоить его молоком, но ребенок только сдавленно кашлял, а его дыхание стало прерывистым и быстрым. Потом его лицо потемнело, почти почернело, сведенное судорогой тело выгнулось дугой. За стенами хаты в последний раз дико взвыл ветер, и в воцарившейся тишине Казя поняла, что ее сын мертв.
Когда Пугачев вернулся, она сидела на лавке, раскаталась из стороны в сторону и прижимала к груди ребенка. Он все узнал по ее лицу.
– Придушил я Аксинью, – только и произнес он. Не сказав больше ни слова, он пустым взглядом смотрел на своего мертвого сына, словно не понимая произошедшего. Потом он тяжело опустился на лавку и в раздумье понурил голову.
За окнами рассвело, а они все еще сидели на лавке.
На голых ветвях вишневых деревьев висел морозный туман. В небе плыло кроваво-красное солнце. Над кучкой людей, собравшихся у небольшой ямы, выдолбленной в промерзшей земле, с карканьем вились вороны.
Казя стояла около Емельяна, не отрывая глаз от крохотного воскового лица в деревянном гробике. Сейчас крышку заколотят гвоздями, и она больше никогда не увидит своего Мишеньку. Они закопают его в холодную землю, где бедного маленького сыночка некому будет согреть. Пугачев покачнулся и оперся на ее плечо. Он был пьян. С тех пор как их сын умер – три дня назад, или три месяца, или три года... – он пил беспробудно. Вот и после похорон он вернется домой, возьмет бутыль и ляжет на лавку, угрюмо разглядывая потолок и не произнося ни слова. Что ему говорить? Что тут можно сказать? Хлопья густого снега припорошили Мишенькино лицо. Она опустилась на колени и смахнула снег с окоченевшего сына. На кладбищенских крестах, словно замерзшие слезы, висели сосульки.
– Да почиет невинная душа в мире, – торопливо закончил священник. Было слишком холодно, чтобы стоять на кладбище.
– Прости, Казя...
Она все еще обнимала сына. Эти люди хотят забрать его, забрать навсегда. Ее тронули за плечо.
– Сейчас, – сказала она, пожалуйста, подождите.
Могильщики постукивали ногами о землю. Солнце исчезло за сплошной круговертью снега. По Казиным щекам катились крупные слезы. Она позволила отвести себя в сторону.
Двое казаков, радуясь возможности размяться, энергично заработали молотками. Затем гроб опустили в яму. Дребезжа, лопаты вгрызались в комья мерзлой земли. Земля поддавалась неохотно, и казаки шепотом матерились.
– Да почиет невинная душа в мире...
Несмотря на переполнявшее ее горе, Казя не могла больше плакать. Маленький холмик уже почти скрылся под снегом. Ночью сюда придут волки и напугают ее сыночка. «Мишенька!» – вырвалось у нее. Кто-то обнял ее за плечи, и она услышала ласковый голос Поли Коршуновой.
Те, кто был на похоронах, уже разошлись по теплым хатам. Пугачев, даже не взглянув на нее, тоже побрел прочь.
– Горе у него, – Наталья кивнула на его пошатывающуюся фигуру, – Не соображает, что делает.
– Пойдем, Казя, – настойчиво звала Поля. – Замерзнешь.
Казя, не чуя ног, покорно пошла вслед за ними. А на кладбище, над маленьким холмиком, вздыхал той степной ветер.







