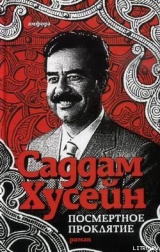
Текст книги "Посмертное проклятие"
Автор книги: Саддам Хусейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Как только покинул Иезекиль ее дом, его мысли побежали по лабиринту, все коридоры которого вели к одному выходу – заговору. А ценой заговора, после того как мать Ляззы поставила его перед столь неудобным фактом, должна была стать ее жизнь.
***
Иезекиль и шейх племени румов продолжали свое привычное дело, всячески используя соседние племена и выманивая у них деньги под разными предлогами и разными средствами, которые мы уже упомянули и которые еще не упоминали. То, сговорившись, злодейски убивали того, кто мешал их планам осуществиться, то воевали с соседями. География их набегов расширилась до самых земель Ирака. Много зла причинили они там людям, убивая живность, которую не могли угнать, сжигая посевы и вырубая пальмы. И все-таки убрались оттуда восвояси, потерпев в конце концов поражение. Когда они терпели где бы то ни было поражение, распалялась в них ненависть на всю округу, и они принимались с удвоенной силой убивать, жечь поля, резать и угонять скот. Никто не мог от них уберечься – ни женщины, ни дети. Не осталось уже никого, кто хотя бы немного любил их, и стали их ненавидеть все с востока на запад и с севера на юг. Напрасно пытались шейхи племен, все вместе и поодиночке, убедить Иезекиля и шейха румов вести себя по-другому. Люди были истощены постоянными войнами, поборы порождали нищету. Вся торговая деятельность проходила через руки Иезекиля с его поверенными и шейха племени румов. Они же определяли цены, по которым следовало продавать и покупать, и никто не мог уже с ними конкурировать. Не избежали поборов под тем или иным предлогом и обычные люди, особенно те из них, у кого водились деньги.
***
Как-то Иезекиль сделал шейху племени румов странное предложение, и тот, поразмыслив, его принял. Иезекиль предложил возвести два высоких строения, две гигантских башни. И стали вокруг этих башен ходить разговоры и разного рода преувеличения. Так, рассказывал один из строителей-персов, работавших на ее возведении, будто бы уронил он однажды, работая на самом верху, топор. И топор этот якобы до сих пор не упал на землю, так высока была башня. А когда работали они там, говорил перс, путь наверх занимал у них две недели, а вниз – неделю, и получалось, что по строительной лестнице приходилось им подниматься день и ночь три недели.
Многие арабы и другие люди, слушая эти россказни, напрасно пытались убедить перса в невозможности рассказанного. Но при этом никто, как говорят в наши дни дипломаты, не сказал ему прямо, что он врет. Ведь если кто-то из власть предержащих соврал, то говорят обычно, что такой-то, будь он американец, англичанин или француз, имел в виду не то, что он сказал, или что написавший с его слов журналист был недостаточно точен.
Один из бедуинов, устав слушать вранье того перса, решил над ним подшутить.
– Как-то раз, – стал рассказывать он, – был я с отцом в Ираке, и купил отец на рынке в шумерском Телль-Асмаре[19]19
Телль-Асмар расположен в районе Багдада. Там находится комплекс развалин древнего Ашнуннака, или Эшнунны, и исторических памятников времен Третьей шумерской династии, таких как храм бога Абу и святилище бога Сина. Там же обнаружены предметы быта доаккадского периода, датируемые примерно 1900 г. до Р. X. Эшнунна известна еще сводом законов, именующимися законами Эшнунны.
[Закрыть] длинный огурец. Огурец оказался спелым, и семена его были спелыми. Уселись мы на берегу Диялы, которая в давние времена носила имя Турнат, и стали есть огурец, а зерна его падали на землю. И стали мы наблюдать, что случится. Сначала взошел росток, потом расцвел цветок, потом, становясь все длиннее и длиннее, стал расти огурец. Он продолжал расти, и пошли мы за ним, пока не дошли до границы Ирака с Ираном, а огурец все рос и рос, пока не дорос до Тегерана, а там дотянулся до шахского дворца. Стража не смогла с ним совладать, и он продолжал ползти, извиваясь как змея, пока не достиг наконец покоев жены шаха…
Тут перс, не выдержав, закричал:
– Пощади! Умоляю тебя, останови свой огурец, хватит уже ему!
– Нет, друг, не остановлю я свой огурец, если твой топор сейчас же не упадет на землю, – отвечал ему бедуин.
Так рисовало людское воображение эти башни, и складывались вокруг них разного рода истории, но и без них эти башни поражали воображение, и нигде было не сыскать им подобных. Уговорил Иезекиль румийского шейха построить их, чтобы каждому из них было по башне, и хранили бы они в них свои богатства, зерно и шерсть, масло, финики, золото. Трудно было бы завладеть этими богатствами при нападении, и достаточно было поставить вооруженную луками и стрелами или любым другим оружием охрану, чтоб помешать нападающим разграбить их содержимое. Возводились башни за морем у границы, разделявшей племя аль-Мудтарра с племенем румов, а когда их построили, они стали одним из чудес света.
Пока эти башни строились, выжимали оба шейха из людей последние соки, чтобы поскорее покрыть расходы и спрятать в башнях свои богатства. Но помимо хранилищ, служили башни еще и для иной цели. То и дело устраивали в них шейхи, каждый в своей башне, бесстыдные пиршества, заставляя роптать недовольных своим бесстыдным поведением. И еще каждый из шейхов мог наблюдать со своей башни, как на него надвигается враг или как его войско идет на врага, благо невероятная высота башен позволяла им все видеть.
***
Стала замечать Лязза, вспоминая о том, что творилось в племени с того дня, как во главе его встал Иезекиль, что дела идут хуже некуда. Вместе с тем всплывали в ее памяти рассказы стариков про ее деда, о том, какой он был непревзойденный воин и мудрый человек. Говорили, что он никому старался не причинять зла, но, когда соседние племена несли их племени зло и огонь, ее дед, да смилостивится над ним Аллах, гасил его силой своего меча, дабы ведали враги, что он наделен не только мудростью.
– Должно быть, гнев Господний постиг нас, после того как большинство людей племени перестало поминать Аллаха и стало удаляться от веры Ибрагима и его сыновей. А дед мой был человеком чистым и богобоязненным, верным и честным, отважным, мудрым и благородным…
Она замолчала, а потом вновь продолжила.
– Но дед совершил ошибку, когда взял в жены чужеземку, родившую ему моего отца. Говорили те, кто постарше годами, включая мать и отца, что польстился он на бабкину красоту, да смилуется над ней Аллах. Вот и не стал разбираться в ее корнях, а по корням всегда можно сказать, какими будут побеги. Унаследовал мой отец характер от родни по материнской, а не по отцовской линии, поэтому и опозорил он нас в своем последнем набеге, поэтому и был он человеком слабым и скупым, поэтому никогда в его голове не держались дела и мысли. Не достались ему благородные качества, которыми сполна был наделен мой дед. Характер отца моего, да будет Аллах к нему снисходителен, достался ему от материнской родни, и благородными качествами он оказался обделен. Поэтому-то и не искал он необходимых качеств в той, которую выбрал себе в жены. Женился он на матери моей, а она от матери и отца чужеземных, вот и пустилась она во все нелегкие с отверженным Иезекилем, потому что невдомек ей было, что у каждого человека должны быть качества, которыми его племя может гордиться. Не берегла она свою честь, потому что ведомо ей было, что ее род не придает значения тем ценностям, которые наше племя оберегает.
Горько вздохнув, продолжала она разговор с собой.
– Она чужая, она не одна из нас, пусть она и мать моя, все равно принадлежит она своему роду. А если так, то лучшие качества нашего племени должна сохранить в себе я. Она опозорила нас с отцом, но она не могла опозорить наше племя, ведь она чужой крови.
Мои же корни произрастают из этого племени, и люди его – мои люди. Если я позволю осрамить себя, тем самым я позволю осрамить их. В таком случае стану я в защиту чести моего рода и его людей и начну с того, что гордо отвергну все обольщения Иезекиля. Отомщу ему за слабость моей матери и постою за честь моего народа. Даже имя мое не останется прежним. Мать с отцом нарекли меня Ляззой, а имя это негоже носить славной и благородной девушке, поэтому отныне звать меня будут Нахва[20]20
Лязза в буквальном переводе с арабского – сладость, наслаждение, Нахва – гордость, храбрость, доблесть.
[Закрыть]. С этого и начну, но не теперь. Нельзя сейчас привлекать внимание Иезекиля, нельзя, чтобы он что-то заподозрил. Господи, что же делать с позором, который навлекла на нас моя мать? Лишь один Ты великий и всемогущий!
Слезы полились по ее щекам, скатываясь на платок. Она поднялась и сказала себе:
– Начну с женщин племени. Мне уже достаточно лет, чтобы я могла разоблачить Иезекиля. Следует убедить сначала женщин, ведь многие мужчины слушают своих жен. Если мужчины слушают иногда от женщин всякую ерунду и верят ей, то что будет, когда женщины заговорят о делах возвышенных? Если на мужчин подействует то, что они услышат, они станут обсуждать это между собой, и впоследствии им будет казаться, что таково их собственное мнение. Женщины, постоянно пребывая в доме, могут внушать свои мысли детям, а дети когда-нибудь возмужают. Вот так с нашей помощью и сделают мужчины то, что должны сделать, и избавят племя от Иезекиля.
Она помолчала немного, но тут же продолжила:
– Но откуда мне знать, может, то, что мне известно о делах Иезекиля и о чем я догадываюсь, мужчинам давно известно. Возможно, они уже решили между собой разоблачить его. Разве не отказались некоторые мужчины повиноваться ему и не отделились от племени до тех пор, пока Иезекиль будет в нем? Разве не удалил сам Иезекиль некоторых из них после того, как перестал им доверять? Значит, решено. Начну с женщин племени и положусь во всем на Аллаха.
Сказала она: «Положусь во всем на Аллаха», как научили ее когда-то и как научено было племя по вере Иосифа и Махмуда, и встала, чтобы идти подговаривать женщин племени, начиная с родственниц и ближайших подруг, о которых ей было известно, что их отцы и мужья к Иезекилю добрых чувств не питают.
***
Спросила мать Ляззу, когда возвратилась та домой в один из дней:
– Где ты была?
– У соседских девушек.
– И что вы там делали?
– Так, девичьи разговоры. А скажи, мам, разве не говорила ты мне, что Иезекиль на тебе женится? Уже несколько лет прошло, а он все никак не соберется. Чего он ждет? Когда наконец повзрослеет или когда ты повзрослеешь?
Почувствовала шейха в этих словах издевку в отношении нее и Иезекиля. Поэтому встала она и влепила Ляззе пощечину, да так сильно, что у той потекла из носа кровь. Лязза защищаться не стала, а только сказала:
– Не заслужила я, чтобы ты меня била. Лучше бы ты вообще меня не родила.
Мать попыталась ударить ее еще раз, но рука ее вдруг ослабла, и вместо этого она обняла Ляззу и, горько заплакав, стала вытирать кровь с ее лица. Потом забилась в дальний угол шатра и, думая, что Лязза ее не слышит, стала там причитать:
– Да отомстит Аллах тебе за нас, Иезекиль, да проклянет Аллах твою слабость, о отец Ляззы! Ах, если бы ты меня очаровал, если бы заставил меня бояться наказания, я бы не дошла до жизни такой.
– Мам, – подошла к ней Лязза, – сделай же что-нибудь, чтобы злые языки перестали тебя обсуждать, всех нас ославляя. Если не можешь заставить его жениться, оставь его.
– Я все равно выйду за него, Лязза, – отвечала мать с ненавистью, а не с уверенностью в голосе, – выйду, а потом уже будь что будет.
– Но он ничего не стоит, мам, и отношения его с тобой не искренние, и жениться на тебе он не собирается. Все, чего он хочет, это поскорее добиться желаемого. Если бы он хотел на тебе жениться, он не стал бы тогда обольщать меня.
– Все это мне известно, но все равно я за него выйду. Заставлю его жениться, да посрамит его Аллах. Но ты молчи о том, что я тебе сказала, молчи, дочь моя.
– Тайна твоя – моя тайна, мам, и то, что ты сейчас мне сказала, считай, бросила на дно колодца.
***
Иезекиль обдумывал разные варианты, как избавиться от шейхи. И всякий раз, сочинив очередной план, к своему сожалению обнаруживал, что этот план не годится. Подумывал он и о том, чтобы жениться на Ляззе.
– В этом случае история с матерью закончилась бы сама собой, – размышлял он. – Но Лязза, похоже, в восторг от этого плана не придет, и нельзя надеяться, что она согласится, по крайней мере, пока ее мать будет жива. А если шейха вдруг умрет, тогда уже ничто не помешает ее дочери стать моей женой, тем более, что я стал шейхом племени. Я богатейший из шейхов племен, хозяин одной из бесподобных башен, наполненных золотом и деньгами и воистину ставших высоким символом моего могущества и могущества племени румов. Но… но она все равно за меня не выйдет, пока ее мать не умрет. Ничего, поскорбит несколько дней, а потом согласится.
Мысли продолжали лезть ему в голову, не давая покоя.
– А что, если Лязза догадается, что за смертью ее матери стоял я? Не значит ли это, что я потеряю ее, после того как потеряю мать? Потом потеряю племя, а потом и все остальное.
От последней мысли он вздрогнул.
– Нет, нет, я не могу расстаться с деньгами, ведь деньги – главный нерв этой жизни. Если я потеряю деньги, потеряю и все свои связи и конторы. Что мне останется после этого? Не за высокую же нравственность станут люди мне повиноваться? Или, может, за мудрость и честность, добродетель и благородство? – говорил он себе с горькой издевкой.
– Нет, только не деньги. Без денег не останется ни сети моих соглядатаев, ни торговых контор, ничего. Только не это! Если я потеряю деньги, кончились мои дни, ведь деньги позволяют мне влиять на народы и племена, это главное средство, позволяющее мне влиять на одних, привлекая их к себе, и ослаблять других или, на– против, усиливать их, если они согласны с моим верховенством. Если я расстанусь с племенем аль-Мудтарра, ничего страшного, ведь сам я не из него родом. Когда бы не слабость и несерьезность их прежнего шейха, ни за что не сделали бы они меня своим шейхом. С другой стороны, если уйдет от меня племя и шейхство, что мне делать с моими конторами и делами, куда девать деньги? Кто откроет мне дверь, когда люди узнают мою историю с племенем аль-Мудтарра? Как бы еще не прикончили за это. Вижу я в глазах молодежи, хоть рты их пока и закрыты, что ненавидят они меня, а за ними стоят еще и те, кто отказался мне повиноваться. Нет, стоит только потерять положение шейха, как я потеряю и все остальное, возможно и жизнь. А союзника моего, шейха племени румов, все больше ненавидят за сговор со мной и за то, что он пришел сюда из-за моря. Стоит ему вернуться в свои земли и разорвать наш союз, как это же поколение, в крайнем случае следующее, уже не будет испытывать к нему неприязни. Тут он немного пришел в себя.
– Но ведь сумел же я сделать то, что замыслил. Так неужели мне трудно будет устроить смерть одной женщины? Убью ее и сохраню при себе все, что есть, даже Ляззу. Или хотя бы останусь тем, кто я теперь.
***
Лязза продолжала вести свои приготовления среди женщин. И вот как-то раз одна из девушек, ее дальняя родственница из рода ее отца, вдруг открылась ей:
– Рассказала я брату своему Салиму все, что слышала о тебе. О характере твоем рассказала, сестричка, о том, насколько ты разумна, о любви твоей к племени, о том, как ты настраиваешь нас против Иезекиля и племени румов. А Салим со своими друзьями занимается тем же среди мужчин. И очень ему понравилось то, что он услышал о тебе, поэтому стал он о тебе расспрашивать, приходя иногда в наш дом под покровом ночи, чтоб не попасть на глаза Иезекилю и его соглядатаям, ибо он из числа тех, кто отказался повиноваться Иезекилю, когда шейх племени румов поставил его главой над нашим племенем. С того дня для Иезекиля и румов и даже для влиятельных мужей нашего племени, вступивших в постыдный союз с румами и Иезекилем, сделался он вне закона. Отказ его принять Иезекиля в качестве шейха они расценили как мятеж. Ну так вот, пару дней назад он велел мне узнать, не откажешься ли ты, если он попросит твоей руки, стать его нареченной, а потом и женой.
Сказав это, она посмотрела на Ляззу, с трепетом ожидая ответа, но Лязза ничего ей не ответила.
– Я сказала что-то не то, сестра?
– Нет, нет, что ты! Просто я задумалась о другом, а ты задала такой неожиданный вопрос. Кто-нибудь еще знает о том, что ты сейчас сказала, сестра моя?
– Никто, кроме Салима и меня.
– Тогда передай Салиму привет от меня и скажи, чтобы он об этом молчал. Нам с тобой тоже нужно обо всем молчать. Мы никому ничего говорить не станем, даже моей матери, а свой ответ Салиму я передам сама, когда встречусь с ним в вашем доме. Пусть проберется в дом после заката, когда твоя мать, отец и пастухи будут доить овец.
– И когда это может случиться?
– Послезавтра, даст Бог.
***
Сестра Салима ушла, обрадованная ответом. Была весна, год выдался добрый. Грибов повылазило столько, что пастухи, возвращаясь со стадами овец и верблюдов, приносили их кучами.
В назначенный день Лязза пришла перед заходом солнца в дом отца Салима, где ее уже поджидала сестра Салима.
Овец загнали в загон, и все направились к ним. Женщины несли с собой небольшие горшки для молока, предназначавшиеся для дойки, и горшки побольше, чтобы сливать в них молоко из маленьких, или тащили большие деревянные ведра. Щели меж досок в таких ведрах проконопачивали кусочками хлопка или шерсти, чтобы молоко не просачивалось наружу. Дойка овец могла продолжаться часа два или дольше, в зависимости от того, сколько было доярок. А маленькие ягнята все это время громко блеяли, призывая к себе матерей.
Поднялся отец Салима, обращаясь к Ляззе:
– Будь здесь как дома, дочка, вот и сестра твоя побудет с тобой, – показал он на сестру Салима, – а мы к вам вернемся, как только подоим овец.
– Хорошо, дядюшка.
Спустя некоторое время девушки увидали, как собаки с лаем кинулись в сторону пустыни, но тут же замолчали.
– Это Салим, – определила его сестра, – собаки бы не угомонились, если бы не узнали идущего.
***
Салим был при мече. Лицо он замотал головным платком, оставив только глаза, но, как только вошел в шатер на семейную половину, снял свой покров, приветствовав сперва Ляззу, а потом и сестру.
Увидев его, Лязза вспомнила, что видела его и раньше, но тогда не обратила на него внимания.
Салим был парнем довольно высоким, но не чересчур. Глаза черные, не маленькие и не большие. Прямой нос гармонировал с остальными чертами лица. Не было в чертах его недостатков, и к тому же его манера держаться и говорить внушала доверие.
Лязза расспросила Салима о том, как идут у них дела в новом доме, там, куда не доходит власть проклятого Иезекиля. Салим сказал, что все у них хорошо, что живут они между собой лучше не бывает, и добавил:
– Пусть даже огонь обожжет наши лица, если, конечно, не спалит при этом усы, мы все равно будем терпеть, раз уж отказались принять презренного Иезекиля шейхом над нами. Хочу уверить тебя, что у нас неплохие отношения со всеми парнями племени, со всеми у нас тайная связь, так что мы что-то вроде тайной организации…
Лязза не дала ему закончить:
– Прошу тебя, Салим, берегитесь соглядатаев Иезекиля. Недобрый он человек, и если раньше времени обнаружится ваша связь с молодыми людьми из племени, это дорого нам будет стоить.
– Будь спокойна, мы так все устроили, что нам сообщают о каждом его шаге. У нас есть свои люди даже среди его соглядатаев. Мне, например, известно, что отношения между ним и твоей матерью, да наставит ее Аллах на путь истинный, были до последних месяцев хорошими. Что же касается его отношений с тобой, то в них нет ничего хорошего. С твоей, естественно, стороны, – добавил он, улыбаясь.
От этой осведомленности Салима в ее делах Лязза даже рот раскрыла. Вместе с тем ей стало неловко оттого, что Салим упомянул о связи ее матери с Иезекилем.
– Ты сам знаешь, Салим, что мать моя чужеземка, а обычаи у чужеземцев не те, что у арабов. Однако ее любезность с Иезекилем, возможно, долго длиться не будет, – сказала она так, словно пытаясь внушить Салиму, что между матерью ее и Иезекилем лишь предосудительная любезность, – ведь дело здесь не в Иезекиле, причиной всему, что стряслось, мой отец, да смилостивится над ним Аллах.
– Не думай об этом, – отвечал Салим, – для всего найдется решение, если Аллах того пожелает. Главное сейчас – ты. Ты укаль головы нашей или ее корона. Твоя добрая слава дошла до нас и до всех твоих братьев, которые вышли из повиновения Иезекилю и румам. А то, что случилось, будь оно связано со слабостью твоего отца или с матерью, то случилось. Главное – как теперь выйти из тупика, куда деяния слабых загнали ныне живущих, как гарантировать будущее сынам нашего племени, чтобы жили они достойно и сами выбирали, по какому пути идти, чтобы давали власть над собой лишь своим братьям и избавились наконец от инородцев и тех, кто поставлен над нами против нашей воли. Главное – это ты, сестра моя. И мы славим Аллаха за то, что ты сберегла свою гордость и чистоту. Юноши нашего племени, и я среди их числа, хотели бы сделать тебя своей гордостью, если бы не боялись, что Иезекиль, проведав раньше времени, что все племя гордится тобой, обрушит на тебя свой гнев и ненависть. Скажу больше, среди многих из среднего поколения и даже среди угождающих Иезекилю шейхов найдутся такие, кто считает точно так же.
– Оставь шейхов племени, брат мой, – перебила его Лязза, – к тому, кто обветшал, молодость не вернется, того, кто сломался внутри, снаружи не починить. Кто вверил свою судьбу и благополучие чужеземцу, кого чужеземец облагодетельствовал, сделав шейхом, вряд ли уже будет противиться чужеземцу и с трудом станет доверять своим соплеменникам, вряд ли когда усомнится в своем благодетеле. Нельзя возводить ваше новое строение или делать то, что вы намерены сделать, надеясь опереться на кого-либо из шейхов, которые, как и их дети, посажены на шейхство румами и Иезекилем.
Салим слушал слова Ляззы, изумленный ее рассудительностью и проницательностью ума. Его поразило, насколько сердце девушки исполнено верой и насколько она убеждена в том, что борьба со сложившимся положением, к которой она толкала племя, необходима.
– Отныне ты гордость наша, и имя твое не Лязза, а Нахва, с тех пор, как ты очистила свою душу и сердце и не пожелала бросаться в пропасть, в которую замыслил тебя столкнуть Иезекиль.
Эти слова прозвучали так, словно намерения Иезекиля были Салиму хорошо известны, тогда как Нахва была уверена, что никто, кроме матери и ее самой, о них не знает.
– Ты гордость и украшение для каждого доброго человека, сестра моя, и поэтому я пришел просить твоей руки. Я так торопился, что еще до нашей встречи послал свою сестру открыться тебе и тем самым укрепить тебя перед превратностями судьбы и ее соблазнами, ибо ты осталась в своей семье наедине с собой. Но теперь я прошу тебя стать моей женой не потому, что ты нуждаешься в поддержке извне, а потому, что тебе нужен спутник, чтобы идти вместе с ним по жизни в горе и в радости. Или, может, просьбой своей я перешел черту? – спросил он осторожно, заметив, что ее мысли заняты чем-то другим.
На помощь ему подоспела сестра.
– Салим ждет твоего ответа, Нахва! – сказала она, выведя ее из оцепенения.
– А? Прости меня, – сказала она, словно пробудившись от прекрасного сна, – я все слышала, поэтому говорю тебе «да», я принимаю твое предложение, и это честь для меня. Ты брат мой, ты венец моей головы, и если бы не заведено было издавна, что говорить это должен мужчина, я сама бы тебе сказала, не заставляя спрашивать еще раз, потому что сестра твоя поведала мне о твоем желании. Но я захотела дать тебе свой ответ лично, чтобы не поспешить открыться. Аллаха в свидетели нам достаточно, поэтому отныне я считаю тебя своим нареченным, я согласна, и, когда придет время, мы закончим дело свадьбой. Но до поры мы будем все это скрывать и заниматься каждый своим делом, ты среди парней и мужчин, я среди девушек и женщин. Даже приходить к нам, чтобы повидаться со мной, тебе следует так, чтобы не подвергать себя лишний раз опасности.
– Да благословит тебя Аллах, Нахва! Прямо гордость берет после такого ответа. Обещаю хранить тебе верность в сердце моем до конца.
– И тебя пусть благословит и защитит Господь, Салим. А теперь ступай, не дожидаясь своего отца, и пусть этот разговор останется между нами троими, и свидетелем ему будет только Аллах, Господь наш.
***
Салим простился с ней и вышел, а вслед за ним направилась к себе домой и Нахва. А когда пришла, заметила, что роса на траве намочила край ее одежды. Но ее мать была так опечалена, что не заметила ничего, и почти не могла говорить, спросила только:
– Почему ты так долго, доченька, почему задержалась?
Ясно было, что не столько огорчена она долгим ее ожиданием, сколько хотелось ей с кем-нибудь поделиться тем, что творится в ее душе. Нахва почувствовала это, как только переступила порог.
– Я здесь, мам, что повелишь мне исполнить?
– Ничего, доченька, ничего, – мать словно боролась с желанием открыть дочери все, что терзало ее сердце и душу. Но, увидев, как сияет счастьем лицо Нахвы, решила не изливать ей душу, чтобы не обременять своими заботами и не помешать ее счастью.
– Нет, мам, ты скажи, прикажи, чего пожелаешь. Я ведь дочь твоя, открой мне, что гнетет твою душу. – Она хотела добавить «и сердце», но передумала, потому что Иезекиль не достоин был того, чтобы чье-то сердце страдало из-за любви к нему. И столько было в ее словах тепла и привязанности, несмотря на то что мать принесла ей бесчестье. Почувствовала Нахва, что жестокое раскаяние разъедает сердце матери и ее душу, что ищет спасения она не только от Иезекиля, которого за коварство, вероломность и отсутствие простейшей человеческой морали она и без того уже ненавидела, но и от себя самой. Поэтому она стала сближаться с дочерью, хотя прежде они были полными противоположностями, не только думали и поступали по-разному, но и не могли ужиться в одном доме. Обнаружив изменения в матери, Нахва тоже сблизилась с ней в надежде спасти то, что еще можно спасти, пока не случилась беда.
– Прошу тебя, мам, – повторяла Нахва, – говори все, что хочешь сказать. Поведай все своей дочери, а я помогу тебе, испросив прежде помощи у Милостивого и Милосердного, ведущего нас по достойному пути в этом мире и в следующем. На Него одного уповаем.
– Верую в Господа, – сказала мать так, словно давно не произносила этих слов. По крайней мере Нахве показалось, что с тех пор, как она повзрослела, подобных слов она от матери не слышала. Как бы то ни было сказала она то, что сказала, так, будто каялась перед Господом за то, что утонула в недобрых своих деяниях, будто исповедовалась сама перед собой или перед священником.
– Послушай меня, дочь моя. Свернула я с пути праведного и причинила нам с тобой немало страданий. И не только прогневила своими делами Аллаха и себя осрамила, но и тебя вынуждала взирать на все это. Душа моя мается каждодневно, и даже сна ей не хватает, чтобы поддерживать силы. Страх перед гневом Аллаха источил меня всю, и стало мне стыдно даже в глаза тебе посмотреть, хотя и скучаю по тебе постоянно. Я не знаю, как мне быть. Я порвала порочную связь с Иезекилем и лишь иногда уединяюсь с ним, чтобы поговорить, в надежде убедить его жениться на мне. И чтобы ты знала, говорю тебе, что я решила бросить его, как только он женится на мне, а может, я отвергну его прямо у всего племени на глазах, если удастся убедить его посвататься ко мне прилюдно. Но мне хотелось посоветоваться с тобой о другом. Покинул Иезекиль мое сердце, и не осталось в нем ничего, кроме ненависти к нему. Поэтому я решила убить его здесь, в этом доме. Но мне нужно, чтобы ты согласилась помочь мне вытащить труп из дома или сказала, что он набросился на меня и поэтому я убила его.
Говоря это, шейха плакала горючими слезами, а вместе с ней плакала Нахва, но тихонько, боясь неосторожным звуком прервать исповедь своей матери. Но она тут же перестала плакать, услышав, что мать собирается убить Иезекиля. Она раскрыла было от изумления рот, но тут же взяла себя в руки.
– Что ты такое говоришь, мам?!
Мать тоже перестала плакать и теперь, когда наплакалась вдоволь и излила душу дочери, казалась спокойнее. Особенно после того, как сообщила ей, что собирается убить Иезекиля.
– Да, дочь моя, так я решила, а дальше пусть будет то, что будет. Дальше я так жить не могу. Призрак гнева Аллаха и видения адского пламени преследуют меня тут и там с позором моим наперегонки. Глаза твои, Нахва, глаза, которые говорят красноречивее языка, убивают меня каждый день. Казалось бы, пусть, но ведь они постоянно напоминают о моем позоре и бесчестье. Я даже стала молить Аллаха забрать мою душу, и это теперь, когда я достигла определенного уровня зрелости, мудрости и опыта.
Сказав это, мать снова беззвучно заплакала, попеременно вытирая слезы краем одежды и краем платка.
– Послушай, мам, я скажу тебе, как я понимаю…
– Ты все понимаешь, дочь моя, – перебила ее шейха, – а вот мать твоя не понимает. Ты сберегла себя и свою невинность, а мать твоя покатилась вниз, отворила врата своей крепости чужакам. Не допустив до себя Иезекиля, невзирая на силу его и его союзников, не склонившись перед его желаниями, которые, знаю, стали подобны повелениям вперемешку с угрозами и обещаниями, ты как будто и за меня отомстила, и за всех, кем ему удалось овладеть. И чем дольше ты его до себя не допускала, тем лихорадочнее становились его действия. А все потому, что он думает, и я по нему вижу, а читать его я научилась, что если не сломит он твое целомудрие и не заставит склониться перед собой, все его победы на фронте прелюбодеяния потускнеют. Не сочтет он успехом, если поддастся ему та, которая, вроде меня, не отличается благородным происхождением. Поэтому жаждет он, чтоб склонились перед ним гордые головы заметного происхождения и положения среди арабов. Но слава Аллаху, который наделил тебя стойкостью, целомудрием и великой верой. Да посрамит Аллах притеснителей.
– Да будет так, – ответила Нахва, потом, помолчав немного, заговорила: – Врата милости Аллаха не закроются перед искренним раскаянием, мам. Не оставляй надежду на милость Его.
– Милость Его не распространяется на заблудших, вроде меня, которые, отдав душу шайтану, и близких своих решили погубить.
– Врата милости в руках Господа двух миров, они не закроются, насколько я понимаю, перед тем, кто искренне раскаялся, хотя мог бы еще продолжать творить зло. Но если ты убьешь Иезекиля, ты совершишь одно из деяний, наиболее не угодных Аллаху. Ты словно тот, кто решил починить треснувший сосуд, а вместо этого взял и разбил его вдребезги. Убив Иезекиля, ты совершишь поступок, который прогневит Аллаха, я же толкую тебе о деянии, которым Аллах будет доволен. А для него лучше нет глубокого и искреннего покаяния, после того как человек решился на недоброе дело.
Если же и я буду участвовать с тобой в этом преступлении, то из списка, в котором я значилась прежде перед лицом Аллаха и всех людей, мое имя перенесут в другой список, сама знаешь в какой. Неужели ты этого хочешь для меня, мам?







