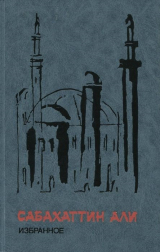
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Сабахаттин Али
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
– Что ты тут вертишься? Ладно, заходи, выпей стакан шербета и марш домой. Там наиграешься!
Даже после того как я вернулся домой из армии, его отношение ко мне ничуть не изменилось. Хуже того, чем умнее представлялся я самому себе, тем меньше он со мною считался. Каждый раз, когда я пытался высказать свое мнение, он поглядывал на меня с легким презрением. И если в последние годы он удовлетворял любое мое желание, то только потому, что не хотел опускаться до споров со мной.
И все-таки среди моих воспоминаний не было ничего, что могло бы осквернить образ покойного. Мне предстояло изведать не пустоту его жизни, а его отсутствие, – и чем ближе я подъезжал к Хаврану, тем тяжелее становилось у меня на душе. Мне трудно было представить и наш дом, и наш провинциальный городок без него.
Нет нужды затягивать рассказ. Я предпочел бы обойти молчанием последующие десять лет, но, по некоторым обстоятельствам, необходимо хоть несколько страниц уделить этому, пожалуй, самому бессмысленному периоду в моей жизни. В Хавране меня не ожидало ничего хорошего. Зятья откровенно надо мной посмеивались, сестры – чуждались, мать же была совсем беспомощна. Дом был заколочен, мать жила у моей старшей сестры. Никто не пригласил меня к себе, и я поселился в просторном старом доме вместе с пожилой женщиной, нашей бывшей прислугой. Когда я выразил намерение заняться делами, мне сказали, что незадолго до своей смерти отец разделил все имущество. Какая доля досталась мне, я так и не смог выяснить у своих зятьев. О двух мыловаренных фабриках все помалкивали. Мне удалось только узнать, что одну из них отец якобы продал моему зятю. По слухам, у отца было много наличных денег и золота, но от всего этого не осталось и следа. Мать тоже не могла толком ответить на мои расспросы.
– Откуда мне знать, сынок? – твердила она. – Твой отец так и не сказал, где их зарыл. В последние дни его жизни твои зятья не отходили от него ни на шаг. Он ведь не хотел верить, что умрет. Вот и не успел сказать, где спрятал деньги… Что теперь поделаешь? Надо обратиться к гадалкам. Они все знают…
Моя мать и в самом деле перебывала у всех хавранских гадалок. Она истратила последние деньги на рытье ям под оливковыми деревьями и подкопы в доме, однако денег, естественно, так и не нашла. Сестры тоже ходили с ней к гадалкам, но участия в расходах не принимали. От моего внимания не ускользнуло, что зятья лишь посмеиваются над бесконечными поисками якобы зарытых денег.
Ничего я не получил и с собранного урожая оливок. Взял только немного денег под залог будущего урожая. План мой был прост: кое-как протянуть лето, а затем осенью, когда начнется сбор оливок, приложить все усилия, чтобы поправить свои дела и сразу же вызвать Марию.
После моего возвращения в Турцию мы переписывались с ней очень часто. В пору весенней распутицы и в летнюю жару единственной отрадой среди пустых хлопот были те счастливые часы, когда я читал и перечитывал ее письма или же писал ей ответы. Приблизительно через месяц после моего отъезда она с матерью вернулась в Берлин. Свои письма я слал ей до востребования на почтовое отделение в Потсдаме. В самый разгар лета я получил от нее очень заинтриговавшее меня письмо. У нее для меня, писала она, есть радостная новость. Однако сообщит она мне эту новость, только когда приедет. (Я написал ей, что осенью надеюсь ее увидеть!) После этого я много раз спрашивал в своих письмах, что это за новость, но она ограничивалась одним ответом: «Наберись терпения, встретимся – узнаешь!»
Я терпеливо ждал. И не до осени, а все десять лет. Лишь вчера вечером я узнал, какова была эта «радостная новость». Но не буду забегать вперед. Все по порядку.
За лето я обошел пешком и изъездил все холмы и бугры, занятые моими оливковыми плантациями, не переставая удивляться, почему именно мне достались самые неплодородные, самые заброшенные участки. Зато все ближние, расположенные на равнинной земле участки, где с каждого дерева можно было снимать по полмешка оливок, отошли к моим сестрам, вернее, моим зятьям. Осматривая свои плантации, я обнаружил, что большая часть деревьев спилена, а оставшаяся часть в чрезвычайно запущенном, можно сказать, в одичавшем состоянии; при отце, вероятно, никто даже не собирал там урожая.
Ясно было, что, воспользовавшись болезнью отца, беспомощностью матери и покорностью моих сестер, зятья обобрали меня. Но я трудился без устали в надежде поправить свои дела, и каждое письмо от Марии придавало мне воодушевления и сил.
В начале октября, в самый разгар сбора оливок, когда я хотел уже вызвать Марию, я вдруг перестал получать от нее письма. К тому времени я успел отремонтировать дом, установив в прежней комнате для омовения заказанную в Стамбуле ванну и выложив стены кафелем. Это, кстати сказать, навлекло на меня язвительные насмешки всех хавранцев и в первую очередь моей родни, которая не останавливалась перед прямыми оскорблениями.
Разумеется, я никому ничего не объяснял, поэтому меня обвиняли во всевозможных грехах: и в желании пустить пыль в глаза, и в слепом подражательстве европейцам, и даже в высокомерии. Человеку в моем положении покупать в кредит или на гроши, вырученные от продажи несобранного урожая, гардероб с зеркалом и ванну было в их глазах чистейшим безумием. Но над всеми этими разговорами я только посмеивался. Им никогда меня не понять. И я вовсе не обязан отчитываться перед ними.
Затянувшееся молчание Марии – уже дней двадцать, как от нее не было писем – повергло меня в смятение. И всегда-то недоверчивый, я строил тысячи предположений. Мое смятение переросло в отчаяние, когда и на последующие свои письма я не дождался ответа.
Тут я вспомнил, что получал письма от нее все реже и реже, и письма эти становились все короче. Казалось, будто написаны они через силу… Я разложил перед собой все ее письма эти и начал их внимательно перечитывать. В последних проскальзывали нотки растерянности, намеки и недомолвки, совершенно несвойственные прямому и открытому характеру Марии. У меня даже возникло подозрение: в самом ли деле она ждет моего вызова или, наоборот, боится его и мучается, не зная, как отказаться от слова, данного ею? Я уже находил скрытый смысл в каждой строке ее письма, даже в каждой шутке, и мне казалось, будто я схожу с ума.
Все мои письма к ней так и остались без ответа, а все худшие опасения оправдались. Больше я не слышал даже имени Марии Пудер… И вот вчера… Впрочем, не буду спешить… Через месяц все отправленные мною письма вернулись назад с отметкой: «Не востребовано, возвращается отправителю». Последние надежды рухнули. Мне и сейчас трудно поверить, что всего за несколько дней человек может так измениться. Я разом утерял способность двигаться, видеть, слышать, чувствовать, думать, одним словом – жить. От меня осталась только одна оболочка.
Это состояние трудно было сравнить даже с моим состоянием после новогодней ночи. Тогда мной не владело такое беспросветное отчаяние. Я знал, что она где-то поблизости, я могу с ней увидеться, поговорить, попытаться переубедить. Но сейчас преодолеть разделявшее нас огромное расстояние было не в моих силах. Закрывшись в доме, я бродил из комнаты в комнату, перечитывал ее письма, а заодно и свои собственные, присланные назад, и с горечью старался уловить ускользавший от меня смысл некоторых фраз.
У меня пропал всякий интерес к делу, к жизни. Я поручил другим заниматься сбором оливок, их сортировкой и отправкой на фабрику. Если я и выходил иногда побродить по окрестностям, то старательно избегал встреч с людьми. Возвратясь домой поздно ночью, я валился на тахту и спустя несколько часов просыпался с одной и той же мыслью: «Зачем я еще живу?»
И опять потянулись такие же серые, пустые, бес-' цельные дни, как и до встречи с Марией, только гораздо более тягостные. Некогда я воспринимал подобную жизнь как нечто естественное, но теперь я знал, что другая жизнь возможна, и это усугубляло страдания. Я– перестал замечать окружающий мир, уверенный, что меня не ждет ничего радостного.
На какое-то очень недолгое время Мария избавила меня от вялости и беспомощности, внушила мне чувство мужского, вернее, человеческого достоинства, заставила осознать, что и во мне есть необходимые для жизни силы, что я отнюдь не такое ничтожество, каким считают меня другие. Но едва порвались связывавшие нас узы, едва я освободился от ее влияния, как опять впал в прежнее состояние. Вот когда я осознал со всей остротой, как она мне нужна! Мне не хватает самостоятельности, постоянно нужна опора. Я просто не могу жить без такой поддержки. И все же продолжал жить. Продолжал жить, если только можно это назвать жизнью.
Больше о Марии я ничего не слышал. В ответ на мое письмо хозяйка пансиона сообщила, что фрау ван Тидеманн у них уже не живет, поэтому она не может дать никаких сведений. К кому еще мог бы я обратиться? Мария писала, что после возвращения с матерью из Праги они поселились в другом доме. Ее нового адреса я не знал. Удивительно, как мало у меня было знакомств за два года жизни в Германии! Кроме Берлина, я никуда не ездил. В этом городе, правда, я знал каждый закоулок. По всей вероятности, там не осталось ни одного музея или галереи, ни одного ботанического сада или зоопарка, которых я не посетил бы. И каждый пруд, рощу в его окрестностях я знал. Но из многих миллионов жителей этого города я общался лишь с несколькими людьми, а близко познакомился с одной-единственной женщиной.
Возможно, и этого было вполне достаточно. Каждому из нас нужен всего лишь один человек. Но если нет и одного? Что делать, если все в этом мире оказывается на поверку лишь порождением фантазии, обманчивым сном? Я окончательно утратил веру и надежду. В моей душе скопилось столько недоверия, столько горечи, что я стал бояться самого себя. В каждом человеке, с которым меня сталкивала судьба, я видел врага или, в лучшем случае, недоброжелателя. С годами моя настороженность не уменьшалась, а увеличивалась. Росла подозрительность, я избегал всех, кто делал хоть малейшую попытку сблизиться со мной. И больше всего я боялся тех, в ком находил нечто себе родственное. «Уж если она так со мной обошлась!» – твердил я себе. На вопрос, как она со мной поступила, я не мог бы дать точного ответа, но это не мешало мне выносить о людях самые строгие суждения, и я всегда ожидал от всех наихудшего.
«Чтобы освободить себя от обещания, нечаянно вырвавшегося перед разлукой, – думал я, – легче всего просто прекратить переписку. Не брать писем с почты! Не отвечать на них! Мало ли что было. Было, да прошло! У нее теперь, скорее всего, новое увлечение, ей распахнуло свои объятия другое, более светлое счастье. Ума ей не занимать. Какая же умная женщина только ради того, чтобы не нарушить данное наивному мальчику слово, отправится в неведомые края, пустится в рискованную авантюру!»
Но никакие доводы рассудка не могли заставить меня примириться с моим положением. Мне самому было непонятно, почему я так боюсь вступить на любую новую дорогу, которая открывается передо мной, почему с такой тревогой смотрю на каждого приближающегося ко мне человека, не ожидаю от него ничего, кроме зла. Лишь изредка, изменяя самому себе, тянусь я к какой-нибудь родственной душе. Но меня тотчас же останавливает ужасная мысль, как гвоздь засевшая в моей голове: «Берегись! Она была тебе ближе всех на свете. И так с тобой поступила!» Стоит мне заметить, что кто-то ищет со мной сближения, что во мне оживает надежда, как я мгновенно настораживаюсь. «Нет! Нет! – говорю я себе. – Мы были с ней так близки, что ближе и нельзя быть. И вот конец. Не верь, никому не верь!..»
Каждый день, каждый миг я чувствовал, как это ужасно – жить, никому и ни во что не веря! Но сколько ни старался я избавиться от этого чувства, ничего у меня не получалось… Я женился. И в первый же день нашей совместной жизни понял, что жена – самый далекий от меня человек… У меня появились дети. Я их люблю, но даже они никогда не смогут восполнить мне то, что я навечно потерял…
Я утратил всякий интерес к делам. Работал механически, ни о чем не задумываясь. Все меня обманывали, а я испытывал нечто вроде злорадного удовлетворения. Зятья считали меня круглым дураком, но я не обращал на это никакого внимания. Мои долги, проценты на них и свадебные расходы поглотили почти все, что у меня оставалось. Оливковые плантации не приносили никако-го дохода. Богатые покупатели скупились: за дерево, которое каждый год могло приносить доход в семь-восемь лир, не давали и пол-лиры. Чтобы вызволить меня из затруднительного положения, под предлогом сохранения в целости семейного имущества, зятья уплатили мои долги и купили у меня за бесценок оливковые плантации. У меня не оставалось ничего, кроме полуразрушенного четырнадцатикомнатного дома и кое-каких вещей.
Мой тесть служил в Балыкесире. С его помощью я поступил на работу в торговую фирму в главном городе вилайета. Проработал я там много лет. Чем больше становилась семья, тем меньший интерес проявлял я к жизни. Силы мои убывали. После смерти тестя на моем попечении остались сестры и братья жены. Прокормить их всех на мои сорок лир не было возможности. Какой-то дальний родственник жены устроил меня в банк в Анкаре. Несмотря на свою беспомощность в делах, я все же рассчитывал продвинуться благодаря хорошему знанию языка. Но мои надежды не оправдались. Где бы я ни находился, я как будто не существовал для окружающих. Нельзя сказать, чтобы у меня не возникало искушения излить на других любовь, все еще переполнявшую мое сердце, начать жить заново. Однако я никак не мог избавиться от сомнения: «А стоит ли? Зачем? Чтобы опять быть обманутым? Чтобы вновь испытать разочарование?» Мария была единственным человеком, которому я верил. Верил так беззаветно, что обман убил во мне всякую веру. Нет, я не был на нее обижен. Обижаться, злиться или хотя бы подумать о ней что-нибудь дурное было не в моих силах. Но я был сломлен. И свое недоверие распространял на всех людей, потому что Мария как бы воплощала для меня все человечество. Убеждаясь в том, что даже спустя много лет она все еще живет в моем сердце, я впадал во все большее отчаяние. Должно быть, она давно меня забыла. С кем-то она проводит сейчас время?.. По вечерам в доме у нас бывало очень шумно. Крики детей, возня жены на кухне, стук тарелок, перебранка родственников – все это сливалось в сплошную какофонию. Чтобы как-то отвлечься, я закрывал глаза и думал: где-то сейчас Мария? Может быть, прогуливается по ботаническому саду, среди диковинных деревьев, с каким-нибудь новым поклонником или же бродит по залам выставки и любуется при свете пробивающегося через стекла закатного солнца бессмертными творениями великих художников.
Как-то, возвращаясь вечером с работы, я забежал к бакалейщику. Когда я выходил из лавки, мой слух уловил звуки музыки, доносившейся из дома напротив. Я сразу узнал начало увертюры к веберовскому «Оберону». Я чуть было не выронил пакеты из рук. Ведь эту оперу мы слушали с Марией. Она любила Вебера и по дороге домой все время насвистывала мелодию из увертюры. И снова я ощутил острую тоску, как будто мы расстались только вчера. Со временем забывается горечь любой утраты. Не забывается только то, что упущено. Больно сознавать: «А ведь все могло быть иначе». Если бы не эта мысль, человек спокойно переносил бы все, что посылает ему судьба.
Я был не избалован вниманием домочадцев, да и не имел права на него рассчитывать. Чувство собственной ненужности, которое я впервые испытал в Берлине в тот памятный день Нового года, пустило глубокие корни. Зачем я им нужен, этим людям? Почему они меня терпят? Только потому, что я даю им какие-то жалкие гроши?! Но люди ведь нуждаются не столько в денежной помощи, сколько в любви и сочувствии. Если этого нет, то обязанности главы семьи сводятся к кормлению нескольких ртов. Мне хотелось, чтобы зависимость родственников от меня кончилась как можно быстрее. Постепенно моя жизнь превратилась в ожидание этого далекого дня. Я стал похож на заключенного, ожидающего истечения срока, назначенного ему в приговоре, встречал каждый новый день одной мыслью: приближает ли он меня к заветному рубежу или нет. Я жил бессознательно, как растение, ни на что не жалуясь. Без каких-либо желаний и стремлений… Мало-помалу чувства мои как бы атрофировались. Я ни о чем не сожалел, ничему не радовался.
Так прошло много лет. И вот вчера, в субботу, произошел случай, всколыхнувший всю мою душу… Я вернулся с работы, разделся. Но тут вдруг ко мне подошла жена. «Завтра все магазины закрыты! Ты уж сходи, пожалуйста, купи, что надо», – попросила она. Я нехотя оделся и отправился на рынок. Было довольно жарко. По улицам прогуливалось множество людей в тщетной надежде отыскать прохладу. Закончив покупки, я влился в людской поток и с пакетами под мышкой медленно побрел назад. Возвращаться домой обычным путем, по рытвинам и колдобинам, на этот раз мне не захотелось, и я решил сделать небольшой крюк по хорошей дороге. Стрелки на уличных часах показывали шесть. Вдруг какая-то женщина схватила меня за руку:
– Герр Раиф!
От неожиданности я вздрогнул и чуть было не бросился наутек. Но женщина держала меня очень крепко.
– Нет, нет, я не обозналась. Это вы, герр Раиф! Господи, как вы изменились! – кричала она на всю улицу.
Я медленно поднял глаза и, еще не видя ее лица, угадал по необъятно широкой фигуре, что это фрау Тидеманн. Да и голос ее ничуть не изменился.
– Это вы, фрау ван Тидеманн? – воскликнул я. – Вот уж никак не ожидал встретить вас в Анкаре!
– Вы ошибаетесь. Я уже не фрау ван Тидеманн – фрау Доппке!.. Ради мужа мне пришлось пожертвовать приставкой «ван», но думаю, что я оказалась не в проигрыше!
– Поздравляю! Значит…
– Да, да, ваше предположение верно!.. Вскоре после вашего отъезда мы тоже покинули пансион… Разумеется, вместе. Уехали в Прагу…
При этих последних словах сердце мое екнуло. Я был не в силах сопротивляться внезапно нахлынувшему потоку чувств, которые, казалось, навсегда угасли. Но что у нее спросить? Ей ведь ничего не известно о моих отношениях с Марией. Как она истолкует мой вопрос? Не полюбопытствует ли, откуда я знаком с Марией? И что она мне скажет! Не лучше ли оставаться в полном неведении? Прошло больше десяти лет, – к чему ворошить прошлое?
Мы все еще стояли посреди улицы, и я предложил:
– Зайдем куда-нибудь, посидим! У нас ведь есть о чем поговорить. До сих пор не могу поверить: вы – и вдруг в Анкаре.
– Посидеть, поговорить было бы неплохо, но я тут проездом, поезд отходит меньше чем через час… Как бы не опоздать… Знала бы, что вы живете в Анкаре, непременно разыскала бы вас. Мы приехали вчера ночью.
Только сейчас я заметил, что рядом с ней стоит бледная девочка лет восьми-девяти.
– Это ваша дочь? – спросил я с улыбкой.
– Нет… Родственница!.. Мой сын учится на юридическом факультете.
– Вы до сих пор советуете ему, какие читать книги?
Она поняла меня не сразу, потом, вспомнив, улыбнулась:
– Да, все еще приходится давать ему советы, но он уже к ним не прислушивается… Тогда он был совсем маленький… Лет двенадцати… Господи, как быстро бегут годы!.. Как быстро!..
– Но вы совсем не изменились!
– Представьте – и вы тоже!
Я вспомнил ее возглас при нашей встрече, но ничего не сказал.
Мы шли рядом. Я никак не решался спросить ее о Марии Пуд ер и болтал о всяких пустяках.
– Вы так и не сказали, как попали в Анкару…
– Сейчас объясню. Мы здесь только проездом. Мы проходили мимо открытого кафе, и я уговорил ее выпить лимонада.
– Мой муж сейчас в Багдаде… Вы же знаете, он торговец колониальными товарами, – снова заговорила она, присев на стул.
– Но Багдад, помнится мне, не немецкая колония!
– Знаю, дорогой… Но мой муж занимается торговлей тропическими товарами. В Багдаде он закупает хурму.
– И в Камеруне он закупал хурму?
Фрау Доппке посмотрела на меня осуждающе, и я понял, что допустил бестактность.
– Если это вас так интересует, напишите ему письмо. Торговля не женское дело.
– А сейчас куда вы едете?
– В Берлин… Соскучилась по родине… К тому же, – она кивнула головой в сторону бледной девочки, которая сидела с ней рядом, – надо отвезти ее домой… Она очень слабенькая, на зиму мы брали ее к себе.
– И часто вы ездите в Берлин?
– Два раза в год.
– Отсюда можно заключить, что дела у герра Доппке идут неплохо.
Она рассмеялась.
Я все не решался спросить о Марии. И не из природной робости, а из страха перед тем, что услышу. Казалось бы, не все ли равно? Все мои чувства давно умерли. Чего же я боюсь? Вполне вероятно, что и Мария нашла себе какого-нибудь Доппке. А может быть, она все еще не замужем, продолжает искать «мужчину, который ее поймет». И уж наверняка даже забыла мое лицо.
Впрочем, и я тоже не мог восстановить в памяти ее облик. Впервые за десять лет я спохватился, что у меня нет ее фотографии. Почему мы не обменялись фото перед расставанием? Потому, вероятно, что каждый из нас надеялся на скорую встречу и полагался на свою память! Стало быть, я не могу ясно вспомнить ее лицо, если впервые сожалею, что у меня нет ее портрета. А ведь в первые месяцы нашей разлуки я мог представить себе ее лицо до малейшей черточки… а потом… потом, когда я понял, что все кончено, я изо всех сил старался стереть самую память о ней, хотя и знал, что этого мне не удастся сделать. Образ мадонны в меховом манто, пусть только в воображении, продолжал властвовать надо мной. И вот теперь, когда я был уверен, что воспоминания о прежних днях уже не взволнуют меня, ее лицо поблекло в моей памяти. А у меня нет даже ее фото.
Впрочем, что бы это изменило?
Фрау Доппке посмотрела на часы и поднялась. Я решил проводить ее до вокзала.
Она восторгалась Анкарой и Турцией:
– Такого предупредительного отношения к иностранцам я не встречала нигде – даже в Швейцарии, обязанной своим процветанием прежде всего туристам. Швейцарский народ смотрит на иностранцев как на грабителей, вторгшихся в их дом. А в Турции каждый старается чем может им услужить. Очень мне нравится Анкара!
Она болтала не умолкая. Девочка шла на пять – десять шагов впереди, притрагиваясь к каждому встречавшемуся по пути деревцу. Когда мы подошли к вокзалу, я наконец набрался решимости и как можно более равнодушным тоном спросил:
– У вас в Берлине много родственников?
– Нет, не очень. Я ведь родом из Праги, первый мой муж был голландцем. А почему вы этим заинтересовались?
– Однажды я познакомился с женщиной, которая сказала мне, что она ваша родственница…
– Где?
– В Берлине… Мы встретились на одной выставке. Она – художница.
– И что было потом? – спросила она, оживившись.
– Потом… Потом, – заколебался я. – Не помню… Мы с ней о чем-то говорили. Она выставила замечательный портрет.
– А вы не помните ее имени?
– Пудер… Мария Пудер!.. Ее подпись стояла под портретом… Да и в каталоге значилось ее имя.
Фрау Доппке молчала.
– Вы знаете ее? – спросил я.
– Да… А почему она вам сказала, что мы с ней родственницы?
– Я упомянул случайно, в каком пансионе живу, а она сказала, что у нее есть там родственница. Так, кажется, было. Точно не помню. Как-никак прошло десять лет.
– Да. Немало воды утекло. Ее мать рассказывала мне, что она дружила с каким-то турецким студентом. Вот я и подумала, уж не вы ли этот студент? Пока она была в Праге, турок уехал из Берлина. Так она его больше и не видела.
Мы незаметно дошли до вокзала. Фрау Допп-ке сразу же направилась к своему вагону. Я боялся, что она переменит тему и я так ничего и не сумею узнать. Поэтому я пристально на нее глядел, всем своим видом показывая, что жду продолжения разговора.
Проследив, чтобы посыльный из гостиницы уложил все принесенные вещи, фрау Доппке отослала его и повернулась ко мне:
– Почему вы хотите знать о Марии? Вы же говорите, что были мало с ней знакомы?
– Но она произвела на меня сильное впечатление… И ее портрет мне очень понравился…
– Она была хорошей художницей.
– Почему «была»? А теперь – нет? – спросил я с внезапной безотчетной тревогой.
Фрау Доппке осмотрелась, увидела, что девочка уже в вагоне, и негромко сказала:
– Конечно, нет… Ведь она умерла.
– Умерла! – простонал я. Люди, стоявшие на перроне, оглянулись, а девочка, высунув голову из открытого окна, смотрела на меня удивленными глазами.
И фрау Доппке внимательно поглядела на меня.
– Что с вами? – спросила она. – Почему вы так побледнели? Вы же говорили, что почти ее не знаете!
– Это так неожиданно!
– Но прошло столько времени… Лет десять….
– Десять? Не может быть…
Фрау Доппке отвела меня в сторону и начала свой рассказ.
– Я вижу, смерть Марии вас потрясла. Я расскажу вам о ней подробнее. Через две недели после вашего отъезда мы с герром Доппке отправились к нашим родственникам под Прагу. Там мы встретились с Марией и ее матерью, с которой у меня, признаться, были не очень хорошие отношения. Но на этот раз мы не ссорились. Мария выглядела неважно. Была бледной, худой. Она говорила, что перенесла тяжелую болезнь. Через некоторое время Мария немного оправилась, и они вернулись в Берлин. Мы тоже вскоре уехали в Восточную Пруссию, мой муж оттуда родом… Зимой, возвратившись в Берлин, мы узнали, что Мария умерла в начале октября. Услышав об этом, я тотчас же разыскала ее мать. От пережитого горя она так постарела, что выглядела шестидесятилетней старухой, а ведь ей было тогда не больше сорока шести. От нее я узнала, что после возвращения из Праги Мария чувствовала себя не очень хорошо. Выяснилось, что она в положении. Мария была очень обрадована, но почему-то не захотела сказать матери, кто отец ребенка. На все расспросы у нее был один ответ: «Потом узнаешь!» Она говорила, что должна скоро уехать, и уже готовилась к отъезду. Однако ей становилось все хуже и хуже. Врачи опасались за ее жизнь и настоятельно советовали сделать аборт. Но Мария не соглашалась. Когда ей стало совсем плохо, ее положили в больницу. У нее обнаружилась альбуминурия. Так, кажется, называется эта болезнь. К тому же она была очень слаба после перенесенной незадолго до того болезни… Перед родами она несколько раз теряла сознание. Пришлось прибегнуть к операционному вмешательству. Ребенка удалось спасти. Однако Мария истекла кровью и умерла. До самого конца она не верила, что может умереть. Перед тем, как окончательно потерять сознание, она сказала матери: «Узнаешь, кто он, – удивишься, но потом будешь довольна». Однако имя отца ребенка она не успела назвать. Еще до отъезда в Прагу Мария часто говорила матери о каком-то молодом турке. Но мать никогда его не видела. Лет до четырех дочь Марии находилась в больницах и диспансерах, а потом ее забрала к себе бабушка. Девочка слабенькая, болезненная, но очень симпатичная, не правда ли?
Ноги мои подкосила неожиданная слабость. Голова пошла кругом. Но я все-таки сумел даже изобразить нечто вроде улыбки.
– Вот эта девочка? – спросил я, показывая на окно вагона.
– Да… Прелестная девочка. Очень милая и послушная. Бедняжка, наверное, соскучилась по бабушке, – ответила фрау Доппке, глядя на меня недоброжелательным, почти враждебным взглядом.
Послышался сигнал отправления. Фрау Доппке вошла в вагон. Через несколько мгновений она уже появилась в окне рядом с девочкой, которая с равнодушной улыбкой смотрела на вокзал, а иногда и на меня.
Поезд тронулся. Я помахал им рукой. Фрау Доппке ответила мне ехидной улыбкой. Девочка отошла от окна…
Все это произошло вчера вечером. С тех пор прошло немногим более суток.
Всю ночь я не мог уснуть. Лежа на спине, беспрерывно думал о девочке, которую увез поезд. Перед моими глазами неотступно маячила ее голова, маленькая головка с развевающимися волосами… Я не заметил ни цвета ее глаз, ни – волос, не узнал ее имени. Она стояла совсем рядом, в двух шагах от меня, а я ни разу не удосужился на нее внимательно взглянуть. Даже не пожал ей на прощанье руку. Господи, я решительно ничего не знаю о собственной дочери! Фрау Доппке, разумеется, обо всем догадалась! Почему она глядела на меня так враждебно? Почему поспешила увести девочку? Трудно сказать… Теперь они в пути… Девочка, видимо, спит, и ее головка слегка покачивается под мерный стук колес.
Я все время думал о них. Но в конце концов силы мои иссякли, и тогда немедленно передо мной появился тот образ, который я так долго пытался изжить из своей памяти. Мария, моя мадонна, глядела на меня своими бездонно глубокими глазами. На ее лице не было ни тени укора. Только легкое удивление, нежность и сострадание. Я не мог выдержать этого взгляда. Десять лет, целых десять лет таил я в душе обиду на Марию, уже мертвую. Я даже осмеливался обвинять ее в измене! Вряд ли можно было нанести худшее оскорбление ее памяти. Десять лет я без всяких оснований сомневался в той, что дала цель и смысл моей жизни, и ни разу, предаваясь самым невероятным подозрениям, не подумал: а нет ли какой-нибудь веской причины для ее молчания? А ведь причина оказалась самая непререкаемая – смерть. Меня терзало запоздалое раскаяние. Я ясно сознавал, что до конца дней моих мне не искупить оскорбления, нанесенного ее памяти. Даже на коленях не замолить совершенного мной тягостного греха, ибо из всех грехов самый непростительный – подозревать в измене любящее сердце.
Совсем недавно я думал, что без фото не смогу. вспомнить ее облика. И вдруг я увидел ее с небывалой ясностью. Она стояла передо мной такая же грустная и горделивая, как на своем портрете. Лицо еще бледнее, глаза еще темнее, чем при жизни. Нижняя губа чуть выпячена, как будто она хочет сказать: «Ах, Раиф!» Неужели она умерла десять лет назад? Умерла в то самое время, когда я ждал ее, готовил для нее дом. Умерла, не сказав никому ни слова. Унесла свою тайну в могилу, даже смертью своей стараясь избавить меня от тягостных забот.
Только теперь я понял, почему обида на нее заставляла меня отгораживаться высокой стеной от всех окружающих. Все эти десять лет я любил ее неубывающей любовью. И не хотел впускать в свое сердце никого другого. Я любил ее даже больше, чем прежде. Я тянул руки к мадонне, хотел согреть ее ладони в своих. Заново переживая те несколько месяцев, что мы провели вместе, вспоминал каждый жест, каждое сказанное слово. Вот мы на выставке, вот разговариваем в «Атлантике», вот гуляем по ботаническому саду, а вот сидим друг против друга у окна. Этих воспоминаний могло бы хватить на целую человеческую жизнь, – а то, что они были ограничены коротким промежутком времени, делало их еще более живыми и волнующими. Я понял с необыкновенной ясностью, что все эти десять лет я не жил. Мои чувства, мысли и поступки, казалось, принадлежали какому-то другому, чужому человеку. Вчера вечером, когда, лежа в постели, я увидел перед собой Марию, я почувствовал, что жить отныне мне будет еще труднее. От меня осталась только жалкая телесная оболочка, только тень прошлого «я». С тех пор как Мария покинула меня, моя жизнь утратила всякую реальную сущность, я умер вместе с ней, а может быть, и прежде нее.








