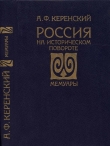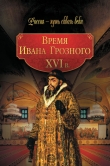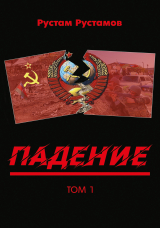
Текст книги "Падение. Том 1"
Автор книги: Рустам Рустамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Глава третья. Алтычай
Если от Дилижана проехать в сторону села Юхары Чамбарак, непременно доедете до Красного моста, там будет необходимо свернуть направо. По пути расположено много населенных пунктов с разными, можно сказать, причудливыми названиями, в том числе и село Алтычай.
Село это расположено в расщелине гор и разделяется рекой на две части: одна часть расположена на северном склоне гор, а другая – на южном. Здесь очень интересное течение реки. Она как бы течет в обратную сторону, почему-то имеет такое неправильное расположение русла, потому ее и назвали Обратной рекой, а в просторечии Обратной. В этой зоне были расположены вперемешку азербайджанские и армянские села.
Армянские села появились здесь после подписания Туркменчайского договора между Россией и Ираном в начале девятнадцатого века, когда началось переселение армян из Ирана и других государств на территорию северного Азербайджана. Второе массовое переселение армян произошло начиная с одна тысяча девятьсот сорок восьмого года, когда азербайджанцы были насильственно массово выселены из тех земель, и в этих местах были заселены армяне-репатрианты.
Река Обратная сливается с рекой Дилижан в местечке Дарлыг, что в буквальном смысле означает «узкость, теснота». Некоторые это место называют также Чайгарышан, а это, в свою очередь, переводится как «слияние рек». От этого места до озера Геокча расположены две области – Каракоюнлу и Геокча. Местность довольно интересная: есть горы с отвесными скалами, леса девственные, равнины бескрайные. И всюду родники с чистейшей водой. Короной всей этой красоты является озеро Геокча. Население, которое жило в этой местности, называло озеро просто – «тенгиз», что означает «море».

Эти места были свидетелями многих важнейших исторических событий. В этих местах каждая долина, каждая сопка, гора, участок леса, поля и пастбища имеют свое название. Практически все эти названия встречаются в древнем письменном памятнике огузских тюрков, другими словами, азербайджанцев – в книге «Китаби Деде Горгуд». Этому эпосу более тысячи трехсот лет – как письменному памятнику, а в устном виде существовал, может, три или даже больше трех тысячелетий.
В этих местах в памяти каждого камня впечатлена история столетий. Не раз покои этих мест были нарушены топотом конниц – как вражеских, так и своих. Однако по своей подлости, низости и мерзости событиям двадцатого века нет равных. Двадцатое столетие оставило самый кровавый и жесткий след. Начало же этим событиям было положено в первой половине девятнадцатого века, когда начались массовые переселения араманов, или голтугалтылар, как в этих местах называли армян, из Ирана и Турции на территорию Иреванского ханства после оккупации этих земель Российской империей. «Араманы» на диалекте этих мест означает «люди, не имеющие места обитания, прибывшие чужаки», а «голтугалтылар» означает «подмышечные». По смыслу эти слова дублируют друг друга.

С началом процесса переселения армян на эти земли наступили самые что ни на есть кошмары для местного населения. При поддержке властей армяне буквально выгоняли людей из собственных жилищ и сами занимали их жилища и дома. Суть политики Российской империи заключалась в том, чтобы создать «христианский коридор» – плацдарм между Османской Турцией и Россией. С приходом советской власти, «подарившей» народам свободу, дружбу и братство, в сути политики ровным счетом ничего не изменилось. Только все делалось в открытую, бесцеремонно и еще наглее: когда одни должны были соблюдать правила навязанной игры дружбы и братства, в то же время другим было дозволено все; жизнь и благополучие одних приносились в жертву капризам других. У Российской империи (только ли у нее?) всегда была особая «армянская» политика, если говорить откровенно, тоже нечестная, хотя и выгодная для армян: она всегда их использовала в своих имперских интересах. Нельзя сказать, что армяне не понимали этого, нет, прекрасно понимали, но с завидным упорством позволяли использовать себя; конечно, позволяя себя использовать, они получали определенную выгоду: самое главное – часть исторической территории Азербайджана и надежду расширить ее в будущем. Понятно, если бы армяне сами воевали и завоевывали эти территории и создавали свое государство; нет же – за них и для них делали это русские цари, проливая кровь своих и чужих. Проще говоря, армяне «гребли жар чужими руками» и делали это на протяжении всей истории. Эту науку они усвоили великолепно.

Вот и кладбище – последнее и надежное пристанище…
Глава четвертая. Возвращенцы
В полдень колхозный грузовик громыхая въехал в село. Машина была загружена нехитрой домашней утварью, свободного места было много. В кузове сидела женщина и двое детей, лет девяти и шести. Младший в своих объятиях держал в достаточной степени упитанного кота желтого окраса с большими белыми пятнами, разговаривал с ним, обращаясь к нему «Мастан». Кот вел себя смирно, точнее, уверенно: чувствовалось его полное доверие к тому, кто его держал в руках. Иногда открывал один глаз и смотрел на Малого, как бы спрашивая: «Не приехали ли еще?» И тот, в свою очередь, на полном серьезе говорил ему:
– Нет, мой сладкий, еще не приехали, и неизвестно, когда приедем. Но ты потерпи, я с тобой.
Последние слова он произносил подчеркнуто громко, чтобы мать с братом тоже услышали.
Дети уже устали, особенно младший: всю дорогу о чем-то канючил, просил то остановиться, то поесть, то еще чего-нибудь. Женщина всячески старалась успокоить его, однако эти попытки особого успеха не имели: тот ненадолго успокаивался, и потом все начиналось сначала, но уже просил чего-то от имени кота. Видимо, лопнуло терпение у старшего, и дал Малому подзатыльника, но думается, тут же пожалел о содеянном и отполз в передний левый угол кузова, где стояли друг на друге два широких ящика с курами. В свою очередь, этот подзатыльник для Малого оказался подарком судьбы, потому как сейчас можно было орать во все горло и капризничать по полной программе, притом имея на это моральное право, чем он немедленно и воспользовался. Мать, как всегда в таких случаях, начала ругать старшего и, естественно, жалеть Малого. К тому времени грузовик уже начал покидать пределы села. Окраинные дома вновь остались позади, и рев Малого стал еще сильнее. Тут и старший поддержал его и спросил у матери:
– Ты же говорила, что приехали! Куда же тогда мы едем?
На его вопрос мать ответила:

На этих и подобных им извилистых дорогах, тропках мы оставляли и оставляем следы
– Мы будем жить на окраине села, рядом с колхозным садом.
Тут Малой вступился и сказал:
– Мне пора помолиться.
Эту фразу он впервые услышал от дедушки Ибода, который в Казахе жил недалеко от них, часто заходил к ним, беседовал с отцом и всегда прерывал разговор этими словами и уходил к себе. Отец и мать говорили, что он курд, и, видимо, сами не придавали этому никакого значения, поскольку никакого разъяснения за этим не следовало. У дедушки Ибода детей не было; отец говорил, что у него было трое сыновей, ушли на фронт и не вернулись, но это было не совсем так.
Малой однажды случайно узнал страшную тайну. Он с Мастаном гулял в саду, оба устали, Мастан захотел спать, и Малой решил пойти домой, чтобы тот немного поспал. Когда подошел к дому, дверь была приоткрыта, и отец рассказывал о дедушке Ибоде; ему стало интересно, остановился и, притаившись за дверью, начал слушать. Отец говорил, что старший сын дедушки Ибода вернулся с фронта инвалидом, без обеих ног, осенью сорок четвертого года. Жил с ними до сорок девятого года, катался на маленькой тележке. Каждый день на своей тележечке доезжал до рынка, там у него была маленькая будочка, где чинил башмаки тем, кто приходил, и на эти деньги жила его семья. После того как в сорок восьмом году умерла жена дедушки Ибода, произошла другая беда. По приказу какого-то усатого, имя которого Малой не мог разобрать, осенью сорок девятого года собирали всех инвалидов по всей стране и увозили куда-то далеко, чтобы они там умерли. Рассказывая это, отец очень много плохих слов говорил об усатом и страшном человеке, мать пыталась успокоить его, чтобы не говорил плохих слов об усатом, потому как может кто-то услышать и сообщить синим фуражкам. Кто такие синие фуражки, Малой тоже не мог понять. Но отец не обращал внимания и говорил, что свое он отсидел. Малому тоже стало страшно и, когда отец закончил разговор о сыне дедушки Ибода, отошел от двери немного подальше и стал возвращаться с шумом, чтобы родители не догадались, что тот слышал, о чем они говорили тайком. Маленькую тележку, о которой говорил отец, Малой видел не раз. В доме у дедушки Ибода вдоль стен от входа стояли две тахты: на одной спал сам, а вторая всегда была убранной, на ней лежали матрац, ватное одеяло и небольшая подушка. У подножия тахты стояла, как понял Малой, та самая тележечка, на которой лежали две какие-то непонятные ему штучки с ручками, все хотел спросить у дедушки Ибода разрешение взять тележечку, чтобы поиграть, но как-то не получалось, а потом и вовсе передумал делать это.
А произошло вот что. Однажды, когда он пошел с Мастаном к дедушке Ибоду, увидел такую картину: дедушка Ибод сидел посреди комнаты на полу, то есть на земле, и плакал, а перед ним стояла тележечка, и на ней лежало много разных блестящих значков, а в руках он держал те самые штучки и прижимал их к щекам. Тогда Малой тихо-тихо ушел, чтобы не обнаружить себя дедушке Ибоду.
Так, во всем остальном, ему вообще было все равно, что такое «курд», только думал о том, что такое «фронт» и почему дети дедушки Ибода не вернулись оттуда, также о том, куда и зачем увезли его старшего сына. Все хотел спросить об этом у кого-нибудь, но почему-то не делал этого, откладывал, сам не зная почему. У старшего тоже не спрашивал, тот мог и не знать про все это; тем более Малой знал, что если старшего спросишь о чем-либо неизвестном ему, то может рассердиться и тумаков подкинуть. Самое главное, дедушка Ибод любил его и Мастана, всегда говорил, что кошек нельзя обижать, потому что они накликают смерть обидчику. Еще очень много рассказывал о каком-то герое, тоже курде, по имени Гачаг Наби. Как рассказывал дедушка Ибод, Гачаг Наби был очень смелым и добрым человеком, всюду успевал на помощь к тем, кого обижали. В этом ему помогал его Серый конь.
Однажды Малой решил разобраться с тем, что такое «помолиться»; пошел за дедушкой Ибодом и тайком наблюдал за ним. Дедушка Ибод, стоя на коленях и возводя обе руки к небу, что-то шептал. Из всех слов Малой разобрал только слово «Аллах». Конечно, не знал, кто такой Аллах, но понял, что, видимо, очень важный человек, раз уж дедушка Ибод обращается к нему, а не к Гачаг Наби. Ему очень хотелось узнать, кто же все-таки этот важный человек Аллах. Нужно было спросить у дедушки Ибода, но как? Случай представился сам собой. Однажды дедушка Ибод заметил его, когда тот подходил к его домику, и знаком руки позвал к себе. Закончив молитву, спросил, не хочет ли тоже научиться молиться, на что Малой ответил, что не знает, кто такой Аллах, и поэтому не может научиться. Дедушка Ибод сказал, что Аллах видит все; нельзя поступать плохо, иначе он накажет, все ему под силу. Малой слушал дедушку Ибода и спросил:
– Почему он убил тогда Гачаг Наби, ведь тот был хороший?
На что услышал в ответ от дедушки Ибода, что Гачаг Наби не умер, он просто погиб. Этим ответом Малой был озадачен, потому что ничего не понял. Как бы не видя его, но в то же время обращаясь к нему, дедушка Ибод продолжил:
– Гачаг Наби будет жить, пока стоят горы Зангезур, Горус, Сойуг Булаг, Мургуз и Саваланские. Он будет жить, пока течет река Араз. Эти горы оберегали его от холода, от дождя и, самое главное, от пуль врага. Река Араз его в своих объятиях переправляла многократно с одного берега Азербайджана на другой, где нуждались в нем люди.
Малой подумал, что дедушка Ибод разговаривает не с ним, потому многого не мог понять из того, о чем тот рассказывал, особенно про один берег Азербайджана или другой берег. У дедушки Ибода в глазах блеснули капельки слез, Малой отвернулся, чтобы дедушка Ибод мог спокойно поплакать: по себе знал, что, когда смотрят на тебя, трудно плачется, и подумал: «Наверно, дядя Гачаг Наби – родственник дедушки Ибода». Да, так и подумал о нем – в настоящем времени, а не в прошедшем. С этого дня вспоминал о нем только как о дяде Гачаг Наби.
Мать была в курсе, что за молитвы читает Малой, но на этот раз не стала ему мешать, а так обычно чем-нибудь стукнет его (тапкой или же, если подвернется, какой– нибудь веточкой), и тот, убегая подальше от нее, читает свою священную молитву еще громче и усерднее. Малой начал свою простую, но искреннюю молитву. «Ай, Аллах, говорят, ты можешь все, поэтому прошу тебя, сократи жизнь у кур моей матери и продли взамен жизнь моему Мастану. Пусть он живет долго, потому что я его очень люблю».
Мать всегда ругала его за эти молитвы, но тот не придавал этому значения. Конечно, Малой не утруждал себя вопросом, почему же, чтобы Мастан жил долго, куры должны подохнуть, притом все. Видимо, это было выше его понимания в то время. «А действительно, неужели для того чтобы кому-то было хорошо, радостно, весело – кто-то должен плакать?»
Пока шли мелкие разборки, грузовик свернул с шоссе на проселочную дорогу и, немного проехав между фруктовыми деревьями, остановился у небольшого домика, похожего на землянку.
– Вот и приехали, – сказала она детям и, видимо, сама была довольна, что закончилась эта изнурительная поездка.
Веселым голосом Малой, не обращаясь ни к кому, как бы разговаривая с самим собой, спросил:
– А где мы будем жить, и где наш отец?
Конечно, прекрасно понял, что будут жить в этом домике, но сказал это из вредности, чтобы задеть присутствующих.
Мать ответила, что их встретит отец, который уже наверняка здесь, так как отбыл гораздо раньше, чтобы перегнать домашнюю живность. И действительно, вскоре навстречу к ним вышел отец с каким-то мужчиной высокого роста, который широко улыбаясь поприветствовал прибывших.
– Добро пожаловать, Хатун баджи. Слава Аллаху, доехали, – сказал, протянул руку шоферу и спросил: – Как доехали?
Тот, в свою очередь, подал ему руку и сказал:
– Спасибо, Хабиб леле, все хорошо.
Малой наблюдал за всем этим и подумал: «Да, довольно интересно, потратив немного слов и совершив одно действие, можно все сказать». Мать быстро развернула сверток, достала небольшой кусок хлеба с маслом и протянула Малому со словами:
– На, отдай своему Мастану, чтобы не сбежал.
Малой с присущей ему грубостью ответил:
– Никуда он от меня не уйдет, ты думай о своих курах!
Но все-таки хлеб с маслом взял и скормил Мастану и тут же отпустил его гулять: был уверен, что его любимый Мастан никуда не уйдет. Далее, ни о чем не думая, пошел на обследование местности. Догнал его старший брат и как будто ни в чем не бывало спросил:
– Чего орал-то в машине? Спокойно не мог ехать?
Это было своеобразное принесение извинения и начало пути к примирению. Тот тоже, в свою очередь, спокойно ответил, что надоела эта поездка, да и вообще недоволен этим переездом. Чего только родителям не жилось в Казахе?! Там ведь так хорошо было. Теперь можно было считать инцидент исчерпанным, и они вместе пошли в сторону большого сада.
Обследование сада и просторного огорода рядом заняло не очень-то много времени. Дело в том, что навстречу к ним шел невысокого роста мужчина с пышными усами, держа лопату на плече. Мужчина дружелюбно приветствовал их и предупредил, чтобы не лезли в огород, так как только что закончил полив. Еще и попутно предупредил, что яблоки в саду ещё не созрели и ходить туда тоже нет смысла. «Чего уж, сказал бы, что никуда нельзя ходить, и все, а то к чему эти длинные разговоры. Тоже мне, заботу свою показывает», – подумал Малой, но ничего не сказал, только посмотрел на старшего, и тот, в свою очередь, посмотрел на него, сжимая и вытягивая губы вперед, кивнул головой. Малой все понял, это означало следующее: мы сейчас пройдем беззаботно и бессмысленно некоторое расстояние, и когда этот дяденька дойдет до нашего дома, там разгорится разговор, все забудут про нас, и тогда мы спокойно займемся вопросами садоводства. «Когда это мы ели зрелые яблоки?» – подумали оба.
В скором времени они оказались в саду, фруктовых деревьев было не то что много, а очень много, до безобразия. Попробуй обойти все яблони, не меньше трех дней надо. Они принялись за дегустацию фруктов, но после третьего, от силы четвертого яблока поняли, что есть их действительно невозможно. Малой, надкусив несколько яблок, швырнул их куда попало. Это было, скорее всего, из вредности и от досады, что невозможно было их есть. Немного походив по саду, решили вернуться к дому. Знали, что взрослые начнут свою беседу, а послушать их было довольно интересно. К тому же им давно хотелось кушать, и наверняка мать что-нибудь к этому времени уже сообразила.
Когда они подошли к дому, мужчины уже сидели за импровизированным столом, чуть подальше стоял самовар с заварным чайником на «голове». Мать чего-то колдовала у очага, на огне стоял большой казан. «Как было бы здорово, если бы хинкали!» – подумал про себя Малой. Старший вопросительно посмотрел на него, видимо, подумал о том же, и Малой мечтательно пожал плечами, что означало: «Не знаю, всякое может быть». В своих мечтаниях братья не обманулись, мать действительно готовила хинкали, в этом убедились, когда увидели, как мать аккуратно опускает нарезанные тонкие квадратики в кипящую на огне воду. «Хоть одна радость за день», – подумали братья. Когда мать увидела их, сказала:
– Идите еще поиграйте, потом подойдете. Еще не готово.
Братья, конечно, разгадали уловку матери: она просто хочет сначала покормить взрослых, и тем более гостей, а их – во вторую очередь. «Ну что же, пусть будет по-вашему, дорогие взрослые. Лично я вам это припомню», – подумал Малой и, чтобы не дать опомниться старшему, резко развернулся и пошел в сторону огорода. Старший, конечно, не понял поведения Малого и, вопреки своему обыкновению, пошел за ним. Никогда этого не сделал бы; наверно, его разобрало простое любопытство. Вскоре они оказались в огороде. Это было огромное поле, на одной половине которого росли огурцы, а на второй… арбузы.
Малой предложил брату поесть арбуза, и они принялись за дело. Откуда-то у них оказался нож. Дело в том, что старший был умелец, все время что-нибудь мастерил: то свисток, то богатыря из палочек на веревке, то еще чего– нибудь, и ничего удивительного в «появлении» ножа не было. Они оторвали два или три арбуза, но все они оказались неспелыми. Старший разочарованно сказал:
– Не рвать же нам весь огород. Видишь, спелых нет.
– Вижу. Давай не будем рвать весь огород, а найдем спелый. Ты не помнишь, как в Казахе на базаре продавцы проверяли арбузы? Так и мы проверим, найдем спелый, его и будем рвать.
Как известно, добрые дела даются нелегко. Человеку не обязательно продумать в деталях план конкретной подлости, ему просто достаточно захотеть делать ее, и все пойдет само собой, как по маслу. Ведь Малой не задумывался над тем, какую подлость сделать взрослым за хинкали, но, сам того не осознавая, сделал первую крупную подлость в своей жизни – если не перед мировым сообществом, то перед членами этого колхоза точно.
Братья вдохновенно взялись за поиски спелого арбуза при полном разделении труда. Старший делал вырезы в каждом арбузе сбоку и, видя, что арбуз неспелый, кусочек вставлял на место, а малой переворачивал их вырезанной стороной к земле. Таким образом «обработали» огромный участок, но так и не нашли ни одного спелого арбуза. Они бы еще долго поработали, но мать позвала их кушать и тем самым спасла вторую половину огорода. Нисколько не расстроившись безуспешным поиском спелого арбуза, пошли к дому.
Когда подошли на расстояние слышимости, поняли: опять воспоминания пошли в ход. Но на этот раз тема была им незнакома. Старые казахские темы они знали почти наизусть, потому как слушали не раз, а вот сейчас разговор шел о чем-то интересном. Говорили они о каком-то переселении из этих мест людей. Братья молча подошли и сели в сторонке от взрослых. В основном говорил высокий дяденька с усами; говорил очень громко, четко и, самое главное, понятно.
Мать подала детям хинкали в одной огромной медной тарелке, которая в то же время служила крышкой для казана. Такая посуда в моде в тех местах, где готовят аш – плов. Братья набросились на хинкали с особым усердием. Немного утолив голод, они стали есть помедленнее и начали краем уха прислушиваться к разговору взрослых. Взрослые говорили вроде бы о разных событиях, но в то же время последовательность разговора не нарушалась.
– Этого усатого дядю зовут длинный Хабиб, – сказал Малой и как ни в чем не бывало продолжал кушать.
Старший, зная манеру Малого «вешать» всем прозвища, сердито взглянул на него:
– Он сам тебе об этом сказал, или опять сочиняешь? Может, остановишься? Иначе получишь.
– А что я сочиняю? Так и есть, потому что шофер Али назвал его так.
– И что же он ему сказал? «Здравствуй, длинный Хабиб»?
– Нет, он сказал «Хабиб леле», а что тот длинный, я сам вижу, – не унимался Малой.
Старший, видимо, потеряв интерес к спору, промолчал и тоже стал кушать молча. У братьев споры по таким поводам возникали довольно часто. Старший никогда не говорил лишнего, пока твердо не убеждался в правоте своей. Малой же, в отличии от него, часто руководствовался эмоциями и говорил то, что видел. И хорошо бы за себя – нет же, за всех. Эти черты характера сопровождали каждого из братьев всю жизнь, и в дальнейшем между ними часто возникали недопонимания. Этому же служила еще одна подленькая черта характера Малого. Дело в том, что он никогда не унимался, и в самые трудные минуты, когда все ломали голову над поиском выхода из ситуации, он с серьезным видом говорил такую глупость, что хоть стой, хоть падай. Притом сам понимал прекрасно, что несет чепуху. А вот серьезные вещи мог поднести со смешком, шуточками. Это уже выводило из себя всех.
Нам нужно понимать одну элементарную вещь: характер закладывается задолго до детства, и поэтому не надо пытаться переделать другого человека, а принимать таким, какой он есть, и если это трудно, тогда нужно держать дистанцию.
Вскоре братья управились с едой, и Малой, запив двумя кружками воды принятую пищу, резко встал и пошел снова гулять. Он бесцельно бродил по округе и постепенно привыкал к мысли, что теперь ему придется жить здесь, а возмущаться и плакать – абсолютно бесполезное занятие. Ну, в принципе, не так и плохо здесь. Хоть больше не увижу этого копекоглу («сукина сына») Юнуса.
С Юнусом у Малого были особые счеты. Этот копекоглу Юнус торговал на базаре арбузами. По выходным они всегда почти всей семьей ходили на базар. Родители, проходя мимо него, приветствовали его и почти всегда останавливались на несколько минут для общего разговора. Честно говоря, в этих разговорах Малой не находил никакого смысла и поэтому однажды решил закончить эти бессмысленные потери времени раз и навсегда. Но увы, ничего не изменилось, стало даже еще хуже.
Дело в том, что у этого копекоглу Юнуса на правом виске были две довольно большие бородавки, и Малой, показывая на них, примерно высказался таким образом, что какие у него противные бородавки, и он поэтому брезгует им. Не успел Малой закончить свою мысль, тут же получил от отца подзатыльника и свалился на арбузы. Мать помогла ему подняться, но при этом сильно дернула его за руку, видимо, для того, чтобы лишний раз подчеркнуть его неправоту и свою солидарность с отцом. Малой, стиснув зубы, промолчал, даже и намека не было на плач, просто смотрел с того дня на копекоглу («сукина сына») Юнуса. Копекоглу Юнус, конечно, поймал его взгляд, но ничего не сказал, однако в последующем всегда мстил Малому словесно. Как только Малой с родителями приходил к нему, всегда, показывая на свои мерзкие бородавки, говорил ему: «Поцелуй бородавочки мои!» Малой не мог понять одного, почему же родители не одергивали этого подлого наглеца и зачем вообще ходили к нему, тот же все равно бесплатно ничего не давал. Малой как всегда молча и в каждый раз с еще большим презрением смотрел на него, и это еще больше выводило копекоглу Юнуса из себя. Видимо, был и в самом деле мерзким человеком: остановил бы родителей или хотя бы сделал замечание – так нет, с удовольствием смотрел и, мало того, дразнил при каждом случае. Малой вырос очень брезгливым человеком – думается, в этом была некоторая заслуга и копекоглу Юнуса.
Здесь Малой не мог не вспомнить тетю Мерджан – жену брата матери. Малому было, наверное, от силы три года, и его на лето отвезли к ним. Там же жила сестра матери, тетя Дилар. То лето у Малого, можно сказать, было самое лучшее. Тетя Дилар или тетя Мерджан всегда выпекали ему вкусный пирог, и он уплетал его, запивая свежим молоком. Брат матери, дядя Фарид, был пастухом, он пас коров. Почему-то он всегда ходил (ну да, как же, девать было некуда одежду) в очень старой и оборванной одежде. Малой про себя дал ему прозвище «оборвыш Фарид» и ждал случая, чтобы высказать это где-нибудь. И случай представился очень скоро. По осени его привезли в Казах домой, но, конечно, он не мог забыть оборвыша Фарида. Угораздило же тетю Мерджан вскоре приехать в гости к ним, и, естественно, она привезла любимые пироги. Малой, кушая пирог, спросил у тети Мерджан:
– Ай, Марджан, у вас был оборвыш Фарид, – впервые произнес вслух придуманное самим прозвище, – он еще живой? – и тут же упал к тахте и стукнулся головой о ножку ее. Сразу не понял, отчего упал, но потом сообразил: просто отец дал ему подзатыльника (ох уж эти отцовские подзатыльники, всегда настигнут, неважно, к месту или не к месту).
Тетя Мерджан бросилась к нему, взяла на руки и даже отцу сказала:
– Зачем бить-то, он же ребенок!
Отец жестко ответил:
– Ну и что? Ребенок! Пусть выбирает слова. А ты не слышишь, как он к тебе обращается?
Отец был прав: Малой переборщил с искажением имени тети. Отец уловил нотки издевки в произношении «ай, Марджан» и был прав: действительно, это очень грубо. По возвращении домой тетя Мерджан поделилась услышанным от Малого, и с того времени пастуха Фарида все стали называть оборвышем Фаридом. После этого случая он полюбил тетю Мерджан еще больше и, будучи уже взрослым, всегда обращался к ней не иначе как «ай, Марджан», и тетя его очень любила. (Я надеюсь, что тетя Мерджан смотрит с небес и, услышав снова от того Малого «ай, Марджан», улыбается своей красивой доброй улыбкой). Малому, можно сказать, всю жизнь везло в одном: если он придумывал кому-то прозвище, то оно сопровождало человека очень и очень долго. Дядя Фарид (да будет земля ему пухом) в этом «почетном» списке был вторым после сестры, кого прозвище, данное Малым, сопровождало всю жизнь.
Он вспомнил и старшую сестру, дочь отца от первого брака. Звали ее Сабина, но когда Малой заговорил, с его легкого языка она стала Донлу – только для узкого круга родственников. Конечно было жалко, что она осталась в Казахе. Все было хорошо, только они не ладили с матерью, часто ругались, и мать всегда гнала ее и говорила, чтобы та вышла замуж за кого-нибудь и родила себе ребенка. А та советовала матери самой уйти куда-нибудь, и даже бывало такое, что они таскали друг друга за волосы. В таких случаях Малой не знал, за кого болеть, но отец всегда успевал вовремя взять какую-нибудь палку и пройтись по их спинам, после этого они быстро унимались. Однажды он даже дубасил их рукояткой от топора, в таких случаях Малой жалел их обеих, но был бессилен что-либо изменить в их взаимоотношениях и тем более в отцовских действиях. Он прятался в кукурузах, которые росли во дворе или за большим персиковым деревом, и плакал. Но чтобы было не совсем грустно, ел при этом персики или абрикосы.
Малой думал почему-то, что здесь ему будет скучно жить, и сам не мог понять, почему он так думает, как вдруг его осенило: «О, Аллах, какая тоска! Здесь же в округе ни одного жилого дома нет и ни одного ребенка, и с кем же я буду…» – конечно, вы подумали «играть» – если бы… Драться!
В Казахе не было дня, чтобы он не подрался с кем– нибудь. Всегда ходил в синяках. Единственное, за что отец его не ругал, так это за драки, только бы не жаловаться ему. Мать, конечно, пыталась образумить его, но никакого эффекта не было. Как же, надо же было хоть чем-то «радовать» отца. Но справедливости ради нужно отметить, что Малой никогда не начинал драку первым. Первые осознанные драки у него начались еще тогда, когда он ходил в турецкой феске. Как она попала к ним, он не знал, но отец хотел, чтобы тот всегда ходил в ней, что Малой и делал. Ровесники дразнили его из-за фески, и он терпел, но не долго. Всегда, куда бы ни приходил он, дело заканчивалось дракой. Потом феска куда-то исчезла, скорее всего, во время очередной драки. Головной убор взамен феске нашли еще интереснее – папаху из каракуля. Папаха была очень красивая – маленькая, аккуратная и с красным равносторонним крестом на макушке.
Мне думается, что у мастера, когда он шил эту папаху, проснулась генетическая память, и он поместил на макушке этой папахи равносторонний Тенгрианский Крест Небесный. Такие папахи шили древние алтайские тюркские мастера. Крест Небесный на макушке оберегал его носителя.
Практически всегда из-за этого увлечения Малого старшему тоже приходилось ввязываться в нужные и ненужные драки. Нередки были случаи, когда Малой сцеплялся и со старшим братом, и при этом ему доставалось больше, но это его не останавливало. Как только он пошел в школу, за ним закрепилось «почетное» звание одного из немногих, кто дерется лучше всех в селе, конечно, в группе своего возраста.
Он сам не заметил, как в раздумьях ушел далеко от дома и оказался на берегу маленькой речушки. Речушка была маловодной, но текла быстро, вода в ней была прозрачной, и плавали там маленькие рыбешки. Наблюдая за маленькими рыбками, тоже, видимо, как и он, бесцельно бродящими в воде, думал о том, куда же спешит эта речка. «Вот бы пройтись по пути ее течения! Дураки же эти рыбки, поплыли бы куда глаза глядят, никто же им не запрещает, как мне родители: чуть куда уйду, мать начинает звать меня». Не замечая, сколько прошло времени, он решил вернуться обратно к дому. Когда он подходил к дому, увидел, что брат несется в его сторону со всей силы, а за ним, изображая подобие бега, отец. Когда брат поравнялся с ним резко бросил: «Беги». Он ничего не понял, но, послушав брата, пустился тоже в бег. Они бежали в сторону речки, откуда он только что пришел. «И зачем же я уходил, был же здесь», – подумал Малой. Когда добежали до речушки, брат легко перепрыгнул на другой берег, то же самое хотел повторить и он, однако это ему не удалось, и, споткнувшись, он шлепнулся в воду. Таким образом преодолев водную преграду в два приема, оказался рядом с братом. Как бы разговаривая сам с собой, но в то же время обращаясь к брату, сказал: