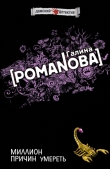Текст книги "Нинка"
Автор книги: Руслан Смородинов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Смородинов Руслан
Нинка
Нинкин муж был рецидивистом. То есть изредка приезжал на побывку к жене, потом совершал правонарушение и отправлялся восвояси.
Несмотря на краткость восхищений, он таки успел заделать трехпалую дочурку ангельской наружности. На трехпалость папаша не расстроился: Бога не помянул, но и пить не бросил, а только отметил: "Щипачом, увы, не будет..."
А дочка наотрез отказывалась выговаривать "эр". В этом, видимо, сказывался ее подсознательный протест против квартирующего папаши: раз нет буквы "эр", нет и "рецидивиста". Сам же папаша мнил себя большим педагогом, считая, впрочем, само это слово ругательством.
– Скажи "эр"! – кричал он на девочку. – Скажи "эр", сучья дочь!!
Детские плечики инстинктивно подымались – наверно, в надежде оградить перепонки от ненужных звуков, а изо рта лилось нечто жалобное, но не рычащее.
– Не "э-э-э", сучья дочь, мать твою в псарню, а "р-р-р-э-э-э"!..
– "Э-э-э", – пыталась дочурка и плакала.
– Не "э-э-э", – папаша поднял девочку за плечи и встряхнул, – а "р-р-р-э-э-э"!!
Ребенок издал нечто близкое свисту и подавился икотой. С тех пор трудности возникли вообще со всем алфавитом – девочка стала заикаться...
Про это мне рассказала сама Нинка. Большая, чуть ли не под два метра, блондинистая, некрасивая, искренняя, – таковой она объявилась на нашем курсе. Оказалось, что ее оставили на второй год. Причем оставили по ее же собственной просьбе – она пришла в деканат и заявила:
– Вы зря меня перевели на следующий курс. Я такая тупая, что не уяснила программу.
Ее отговаривали, взывали к аргументам, говорили, что далеко не все усваивают курс в должной степени, и это, однако, не мешает скакать с курса на курс вплоть до диплома. Нинка на это только беспокоилась:
– Нельзя так, нечестно...
Выяснилось также, что Нинка училась в институте уже тот срок, за который студент, лишенный беспорядочности, давно получает диплом: она то оставалась на второй год, то брала "академический" по причине непродолжительной свободы мужа.
Нинка явилась для нас чем-то вроде экскурсовода. Она рассказывала про те темные времена, когда в институте еще возникали мордобойные недоразумения по национальному вопросу. Она была свидетелем нескольких белогорячечных попыток суицида в общаге, после которых лестничные пролет вокруг лифта заварили наконец страховочными сетками. Она даже знала, чья голова оставила ту или иную выбоину в стене, уверяя, что сама выбоина еще хранит запекшиеся остатки:
– Вот эта трещина, – говорила Нинка, указывая на глубокую вмятину в метре от плинтуса, – оставлена Вовкой Кирзаевым. Его поэтическая голова не выдержала недельного запоя и с разбегу направила себя в самый центр будущего отпечатка. – Она поковырялась в трещине и извлекла нечто, похожее на комок волос, склеенный то ли олифой, то ли мозговой жидкостью поэта Кирзаева.
Кроме того, Нинка знала, где поблекшему во всех отношениях организму выгоднее сдавать бутылки и к какому преподавателю лучше напроситься на зачет. Короче, мы полюбили Нинку. А Нинка и без того всех любила...
Впрочем, мы забежали вперед. Для полноты картины надо отмотать несколько лет – к первому курсу. Помнится, шла пара старославянского. Преподаватель Вась-Вась Калугин, обладая незаурядным умом, наивно ожидал соответствующего уровня от каждого. Он не утруждал себя особой щепетильностью в разжевывании тех или иных нюансов и за одну лекцию нагрузил нас столь непосильной информацией, что даже пращуры наши удивились бы, наверно, обилию научности, скрытой в ихнем языке. Благо, старославянский я немного знал, а потому отставал от рассуждений Вась-Васи только страниц на десять-пятнадцать стандартного учебника. Большинство же вообще бросило конспектировать, поняв свою абсурдность затеи уразуметь зараз хотя бы одну из трех палатализаций. С перепугу у многих женщин начались месячные. Иные еще долго шарахались от слов "юс йотированный"...
После такой интенсивной лекции мои мозги взмолились об отдыхе. Еще меня мучил похмельный сушняк. Я зашел в столовку (в ней же находилось нечто вроде бара), взял два по сто пятьдесят "Столичной" и запить. Мысли покидали голову, просачивались в форточку и поднимались к облакам. Я глядел вслед уходящим идеям и завидовал их воспарению и скорой встречи с Богом. Только было немного стыдно за их пустоту и за их несоответствующую действительности тщеславность. И дабы снять эту неуютность, я взял еще сто пятьдесят, попутно поведав бармену о категорическом императиве:
– Все говорят – душа просит, а мне пред Богом стыдно. А когда полость зальешь – сам себе незаметнее становишься. И сразу несуразности меньше. Вот ты говоришь – совесть...
– Я говорю?..
– Ну не ты – они, – я указал на вывешенные портреты классиков русской литературы. – А что такое совесть? Это же категорический императив... Ты Канта читал?..
– Иди-иди, – заскучал бармен. – Тоже мне, императрический кооператив...
Мир несовершенен, подумал я. Прав Шопенгауэр, будь он трижды...
Зал пустовал. Из колонок исходило что-то негромкое и иностранное. В углу спала отнюдь не тощая кошка. Я взял пластиковый стакан и пошел к столику. И тут появилась она – Нинка. Точнее, сперва я увидел нечто большое в джинсах и тельнике, а лишь потом осознал женское по третьему размеру бюста.
– Привет! – улыбнулась она. – Первокурсник?
– Руслан меня зовут... Курю "Приму"... Женщину не познавал около месяца... На данный период читаю Евгения Шварца... А именно сейчас – пью водку. Потому что категорический императив и несовершенство мира...
– Достаточно. Подходит...
Мы взяли еще, сели за столик. Нинка поинтересовалась, почему я такой грустный?
– После старославянского, – отвечаю. – Представляешь, каково христианину узнать, что священное слово "Христос" начинается с буквы "хер"?..
Нинка рассказывала, как здорово в Литинституте, какие вокруг все выпивохи и таланты. Говорила, что учится и одновременно подрабатывает дворничихой. Причем метет те же самые дорожки, что некогда мел незабвенный Андрей Платонов. Поведала также, что любит тяпнуть, особенно на лоне. От слова "лоно" я возбудился и полез целоваться. Потом закричал:
– Все на лоно!
– На лоно! – загорелась Нинка.
Бармен неожиданно поддержал нашу затею, подразумевая, что нам уже давно пора на природу, к матери, в лоно. Мы забрались в какой-то детсадик на Малой Бронной. По пути взяли что-то красное. Пили его прямо из горла.
– Ты любишь Тютчева? – спрашивала Нинка.
– Люблю, – соглашался я.
– Дай я поцелую... Подожди. А Ходасевича?
– Тоже люблю.
– Умница... Подожди. А Георгия Иванова?
– Позднего – люблю...
Потом, кажется, нас выгнала сторожиха. Тем более, что Нинка сломала качели, а я погнул грибок и упал в песочницу. Изгнанные из лона, мы направились в ЦДЛ. Но туда нас не пустили, интеллигентно указав на наше бесподобие.
– Пива – и в общагу, – предложил я.
Мы шли в обнимку, взаимно уравновешиваясь. По счастью, с блюстителями порядка нам суждено было разминуться. Вышли на Тверской бульвар, прошли "Макдоналдс", приблизились к Пушкину. Нинка пыталась принять позу, запечатленную скульптором Опекушиным. Я отговаривал:
– Брось, так и по трезвому не устоишь...
Тут к нам подскочили двое: одна – с микрофоном, другой – с камерой. Да так неожиданно, что я поперхнулся.
– Скажите, – защебетала телевизионщица, – вы любите Пушкина?
– Не надо камеры! – встряла Нинка. – Мы имеет право расслабиться?..
Но профессионалка знала свое дело и без возмущения повторила вопрос.
– Люблю, – согласился я, откашлявшись.
– А за что?
Нинка уже тянула меня в сторону:
– Пойдем. А то покажут в рубрике...
– За то... – отчеканил я в расплывающееся пятно микрофона, – за то, что он "милость к падшим призывал"...
Мы с Нинкой удалились до "Ленсовета" и сели на "тройку". В троллейбусе я неожиданно вздремнул, а проснулся с головной болью. Неотвратимо надвигались мысли насчет добавить. Пришлось зайти в винно-водочный на Руставели.
Добрались до общаги. Нинка жила этажом выше. Разобраться с водкой решили у меня. Нинка пошла к себе за закуской. Мысленно я заказал амброзию и что-нибудь маринованное. Когда мыл стаканы, ко мне подошел сильно подвыпивший Стасик.
Стасик был коренным сибиряком и обладал удивительной фамилией Яуя. Писал милые рассказы в духе Андерсена. Главными героями в них выступали форточки и дверные ручки.
– Руслан, – говорит Стасик, – объясни мне, вселенная конечна или бесконечна? Вот, допустим, она конечна...
– Стасик, – перебил я, – это известная антиномия Канта. Разрешить ее можно только при некоторых условных ограничениях. Был такой математик Георг Кантор...
– Так Кант или Кантор?
– Кант сформулировал, Кантор разрешал.
– Руслан, не надо математики, там много переменных. Ты мне прямо скажи – мир конечен или нет?
Что я мог ответить?
– Стасик, – говорю, – мир, каков мы знаем, – это вообще наше представление. Сам по себе он не имеет протяженности.
– Как это?
– А вот так... Слушай, а что это тебя на такие вопросы тянет?
– Руслан, ты не поверишь. Как выпью – так сразу думать начинаю. Откуда это все безобразие взялось и имеет ли оно конец? И думаю до тех пор, пока не напьюсь до отключки.
– А вот теперь представь, что все разумное во вселенной напилось до отключки. Ну совершенно все. И отключка эта – вечная. Будет тогда безобразие?
– Ну это смотря с какой стороны посмотреть...
– Так некому смотреть. Все в отключке.
– Гм... Выходит, что и безобразия не будет.
– Вот в этом-то и все дело. Безобразие, протяженность, бесконечность и вообще размерность – это все наши выдумки. Говоря умным языком – категории. Априорные формы...
Стасик достал из кармана блокнот:
– Как ты говоришь? Категории?..
– Категории. А есть еще категорический императив...
– Тоже наша выдумка?
– Не совсем. Скажем так – онтологическая идея. Объективирующаяся в нашем сознании...
– Не спеши, я не успеваю записывать.
– И вот этот категорический императив – причина наших скорбей. Но он же – причина нашего творчества. Этакая сердоболинка.
Стасик закрыл блокнот и посмотрел на стаканы в моих руках:
– У тебя есть что-нибудь от этой сердоболинки?
– Не обижайся, – говорю, – я – с дамой. Так что разрешать эту онтологическую идею буду без тебя...
Нинка задерживалась. Я перевесил позапрошлогодний настенный календарь обратной стороной и вывел фломастером краткий лозунг. Надпись, декоративно украшенная тараканьими крапинками, призывала к приятным чудодеяниям: "Даешь оргазм!" То есть порыв к подвигу уже был, не было объекта его воплощения. И я начал волноваться. И в порыве волнения не заметил, как опустошил бутылку. Онтологическая идея была временно разрешена...
С похмелья особенно чутко понимаешь всю мучительность сознания. Невольно завидуешь неразумной сущности. Больная чувственность сосредотачивается в единство личности – личности жалкой и самоотвратительной. Изнемогающей от бренного организма и онтологической идеи...
Разбудила меня собственная икота. Новый день не предвещал ничего утешительного. На лекции идти не хотелось. Хотелось отрастить крылья и вознестись, опережая собственные стоны.
В дверь постучали.
– Открыто! – хотел отозваться я, но изо рта вышло нечто шипяще-клокочущее. Причем вся эта фонетика была заключена очередным иком: И-и-ик...
Вошла Нинка. В руке она торжественно несла початую бутылку водки:
– На, похмелись. Я уже... А где она?
– Кто?
– Ну, с кем ты был.
Я не на шутку взволновался: с кем это я был?
– Во, и плакатик в тему, – указала Нинка на мой письменный призыв к приятностям.
– Подожди, Нин, а с кем... и-и-ик... я вчера был? Я что-то не припоминаю...
– А я почем знаю?.. Я шла к тебе, несла закуску. А тут твой однокурсник, Станислав. Не надо, говорит, Руслану мешать. Он – с женщиной. Они разрешают категорические идеи и все такое. Ну я и не стала мешать. Пошла к Станиславу.
Ну, Стасик, – подумал я, – доброжелатель...
– Слушай, Нин... и-и-ик...
– Хватит икать!
– Сингультус, то есть икота по научному, – это такая чунгачанга, что по желанию не уймешь. И-и-ик... Разве что водкой залить можно.
Мы выпили. Вместе с бутылкой закончились и все мои судороги. Нужно было снова идти в магазин. Нинка предложила:
– Возьмем флакон и – на лоно. Вон там, метров двести, есть сквер и памятник голове.
– Какой голове? – не понял я.
– Никто не знает. Стоит постамент. На нем – голова. Ни те надписей, ни пояснений...
Впоследствии мы ходили к этому памятнику. Огромная безымянная голова алюминиевого цвета пребывала в скверике у вьетнамской общаги. Сперва мы думали, что голова символизирует собой Николая Островского. Этакое безглазье и зачесанные назад волосы – гильотинированный Павка Корчагин. Потом, однако, догадались: это был Киров, Сергей Мироныч. Район-то Кировский...
Тут явился Стасик собственной персоной и выразил желание сходить за водкой, если у кого обнаружатся средства. Я дал денег и ушел в душевую. Нинка за это время обещалась соорудить нечто насчет закуски.
Душевая находилась в подвале общежития. Раньше душевых было две мужская и женская. Потом одна из них пришла в негодность, и мыться стали по очереди. Как раз день был мужской. Однако в раздевалке я обнаружил женскую одежду, включая все нижнее. Судя по комплектам и доносившимся из душевой голосам, женщин было не менее двух.
– Эй! – закричал я. – Сегодня же – мужской день.
Дверь душевой открылась и выпустила облако пара. Потом из него образовалась голова грузинки с третьего курса:
– Сэгодня – жэнский...
Кстати, про эту грузинку ходила байка. Она, студентка Литературного института, весьма плохо знала русский. И однажды на экзамене профессор Славецкий решил ей помочь – спрашивает: "Натэлла, ответ на какой вопрос вы лучше всего знаете?" – "Это сложный ва-апрос", – невозмутимо ответила Натэлла...
– Послушай, какой жэнский, да? – передразнил я. – Сходи к вахтеру и посмотри графык, да. Сэгодня мужык должен быт чыстый, да.
– А подождать ты не можешь? – появилась другая голова славянской наружности.
– Извините, не могу – коллектив не простит. Так что я раздеваюсь и иду прямо в мою любимую третью кабинку. А за свои ежики в тумане можете не бояться – я сейчас индифферентен.
– А ты нас не изнасилуешь?
– Больше мне делать нечего, – говорю.
– А вот хамить необязательно! – сказала славянка и исчезла в облаке...
Водные процедуры пошли на пользу – я окончательно посвежел. Правда, в душевой меня искусали комары. Об этих паразитах ходили легенды. Поговаривали, что им не страшен никакой кипяток и ядохимикаты и что однажды от них пострадал драматург по фамилии Гольц. Мол, этот самый Гольц отмокал после продолжительного запоя и закемарил в позе роденовского "Мыслителя". Через час обескровленного и опухшего Гольца увезли на скорой. Больше его никто не видел. Хотя иные утверждали, что никакого драматурга по фамилии Гольц вообще не существовало в природе, а был поэт из Купишкиса. И не Гольц вовсе, а Кулекс Гнус. Другие утверждали, что "Кулекс Гнус" – это пьеса, написанная драматургом Гольцом и собирающая по сей день аншлаги в одном из провинциальных театров...
Вернулся я как раз вовремя. Закуска и водка были готовы. Предотвращая всякие "с легким паром", я закричал:
– Наливайте, а то сумерки в голове!..
Оказалось, далеко не все пошли на лекции. Вскоре в мою комнату стало набиваться страждущее студенчество. Саша Лекух, прозаик из темного хутора дружественной нам Украины, принес кусок засоленного порося. Сыктывкарский поэт Игорь Вавилов разыскал стулья. Пришлось еще раза два бегать за водкой. Попеременное тостирование сменилось хором. Каждый выбрал себе собеседника и делился переживаниями. Только Стасик обращался к чему-то абстрактному, запрокинув голову:
– Допустим, вселенная конечная...
– Не-е, Есенин мне не нравится, – говорил поэт-заумист Олег Ядыкин просто поэту Гене Юшкову. – Я вообще против балалаечнины в поэзии...
– Но если вселенная конечна, то за этим концом опять же что-то должно быть... – продолжал Стасик.
– Да ты пойми, – убеждал Игорь Вавилов Сашу Лекуха, – Пушкин и Лермонтов – это совершенно разные вещи. Пушкин – это попса, а Лермонтов рок!..
– Не надо мне Есенина цитировать! Я его и так знаю. Ты лучше настоящих поэтов почитай – Борис Пастернак, Темичджан Мормыш-Ула...
– А имеет ли это нечто конец или не имеет?..
– Вавилов, ты наивен! Неужели ты думаешь, что можно провести точную границу между поэзией и прозой? Ну, допустим, "лучшие слова в лучшем порядке". А в прозе – не так?..
– Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля.
– Значит, вселенная бесконечна...
– Не надо мне Есенина цитировать! Ты еще скажи, что Высоцкий – поэт... "Шура, поезжайте в Киев..."
– Что значит – внешнее усилие? Внешнее усилие – это в туалете.
– Сноб всегда считает себя просвещенным.
– Мальчики, не ссорьтесь!.. – вступалась Нинка.
– Но ничто не может быть бесконечным... – Стасик был возбужден и светился иконостасом.
Я откровенно загрустил. Литературоведения мне и на семинарах хватало, а от философии, того гляди, и так в запой уйду. Я загасил окурок и пошел в туалет. Писсуар своим видом говорил о возмутительности происходящего. На двери кабинки кто-то вывел каллиграфическим почерком:
А в деревне Серево
есть большое дерево:
под ветвями – котяхи...
Все бы вам – "ха-ха, хи-хи..."
Поистине, неистощима творческая сила. И неисчерпаемы причины, ее порождающие... А вообще, стены общественных туалетов уже давно стали напоминать мне самиздатовскую литературу. Та же безмеркантильность и тот же порыв к чистому искусству. Правда, тематика пока еще хромает...
Возвращаясь, я осознал, насколько пьян. Еще два-три тоста – и иссякну. Не заходя в комнату, я вызвал Нинку:
– Пойдем к тебе, – предлагаю.
– Зачем?
– Потискаемся.
– А как же остальные?
– А зачем мне сподвижники?..
Проснулся я уже за полночь. Кряхтя, доковылял до стола и надолго присосался к бутылке с водой. Казалось, кто-то скрутил мои мозги колючей проволокой. Меня трясло.
Нинка тоже не обрадовалась пробуждению. Жестом попросила воды.
Я оделся и пошел умываться – нужно было смыть с ресниц запекшиеся слезы. Были слышно, что во многих комнатах гуляют. Пора начинать соображать насчет подлечиться.
Возвращаясь, я остановился около лифта. Внезапно накатила невидимая волна, и все тело покрылось испариной. Невыносимо тошнило. И тут я отчетливо понял, что начинается "белочка". Большой шар огненного цвета бесшумно лопнул возле глаз. Рядом двигалось что-то плавное с полотенцем на голове. "А вот сэгодня – точно жэнский дэнь", – сказало оно. Где-то зазвонил будильник. По лестнице вверх пробежала кошка. Мне почему-то подумалось, что она набожна. Затем с верхних этажей промаршировал строй трубочистов в мохнатых папахах из невинных барашков. Они пели какую-то бодрую песню на непонятном языке. Но смысл ее был ясен – за сложнейшими музыкальными интонациями проглядывалось хроническое неблагополучие.
Я сполз по стене на пол. Еще один огненный шар беззвучно разорвался перед носом. Что-то рановато "белочка" явилась, подумал я. Какие-то плоскогорья и вершины заслонили видимость. А потом все померкло...
Осознал я себя склоненным над эмалированной раковиной и умывающимся. Причем – в умывальной комнате другого этажа. Как я сюда добрался – выяснять не было сил. Меня стошнило бесцветной пеной. Снова окатило обильным потом. Я прильнул губами к крану и жадно пил. Вода по вкусу и запаху напоминала свинец.
"Белочка", делирий, – думал я. Сантехник, сделавший эти краны, уже умер давно. Все мы смертны. "Прискорбна есть душа моя до смерти". Тоска... Тоска багрянистая. В нечистом исподнем. Боже-Боже! взывает к Тебе душа пылающая, купинка неопалимая. Спаси меня от этого помрачения. От этих дней, сваливающихся на мою несчастную головушку. От этих коней бледных и акридов прожорливых. Забери меня, где живут лучшие ощущения, и я буду послушно сидеть на ковре, покуда не явится знамение...
Умывайся, Руслан Брюзжащий, умывайся. Маета мает, сказал Екклесиаст, все – маета. Почисть камзол и иди опохмеляться, покуда приступ не повторился. "Белочка" приходит с похмелья. Триллер... Откуда эти водоросли?.. Да всю голову – под струю. Не дай мозгам закипеть, водица студеная. Не дай уколупнуть меня горячке проклятой...
Холодная вода подействовала благоприятно – делирий отступил. Но я знал, что это ненадолго. Нужно немедля похмелиться. Иначе грохнусь где-нибудь между этажами и подохну насмерть.
Болело плечо. Видимо, мое тело, отягощенное гравитацией, уже успело где-то упасть. Блуждая по проходам и пролетам, я наконец добрался до Нинкиной комнаты. Но дверь оказалась закрытой и хозяйки не было. Не знаю, что меня так огорчило, но я сел прямо на пол возле двери и чуть не заплакал. Хотелось как-нибудь пожалеть себе, приободрить. Вспомнилась притча, недавно рассказанная мне знакомым журналистом:
Умер один человек, и стоит он в раю у реки Жизни. И ступает ему навстречу Господь. И приветствует почившего: "Блажен ты, ибо твое есть Царство Небесное!" – и лице сияет у любови олицетворенной. – "Благодарю Тебя, Господи!" – падает ниц человече, но Любовь подымает его, говоря: "Видишь ты следы на песке вдоль реки Жизни?" – "Вижу, Господи". – "Это твой жизненный путь". Смотрит человек на следы, чувствами переполняясь. "А видишь ли ты, – спрашивает Господь, – другие следы рядом?" – "Вижу". – "А это – Мои следы, ибо ты просил Меня в молитвах не оставлять тебя". И идут они вдоль реки, встрече своей радуясь. Но вдруг мрачнеет человек, и никнет голова его. "Что огорчило тебя?" – спрашивает Благословенный. "Вот, Господи, Ты говоришь, что не оставлял меня, пока я жил". – "Истинно так". "Но почему же, почему именно тогда, когда мне было особенно трудно на моем жизненном пути, именно в этот период вдоль реки я вижу только одни следы? Почему Ты оставлял меня в самые-самые трудные минуты?!." И улыбается ему в ответ Любовь: "Нет же, нет. В самые трудные твои минуты Я нес тебя на руках..."
Воспроизведенная в памяти притча придала настроения. Я поднялся и увидел пред собою двухметрового пьяного детину с арбузом под мышкой. Голову этого сухопарого субчика знаменовала несвежая повязка. Промеж бинтовых складок пробивались давно не мытые волосы.
– Страдаем? – спросил он.
– Весьма.
– Деньги – не проблема. У меня сборник стихов вышел.
– Руслан меня зовут.
– Иннокентий Валаамский, – манерно представился детина и протянул мне руку. Арбуз выскользнул из-под мышки и глухо раскололся об пол.
– Катастрофа, – сказал я невыразительно.
– Фиг с ним. Не люблю сладкого, – ответствовал Кеша.
Как я потом узнал, Кеша был личностью весьма яркой. Редко кому удавалось видеть его трезвым. Даже в Литинститут он поступал в повседневном для себя состоянии, за что и не был принят, несмотря на вполне приличные баллы. Не желая мириться с притеснениями подобного трезвеннического толка, Кеша устроил сидячую голодовку у памятника Пушкину, чем не на шутку всполошил сановное писательское начальство. Кешу таскали по милициям, устрашали и задабривали, но наконец приняли-таки в институт. С тех пор Кеша стал головной болью обоих ректоров, осчастливленных возможностью занимать этот пост в период его учебы. Сидоров строго-настрого запретил охране пускать Кешу в общагу. Однако никакая охрана не могла сторожить все чердаки и пожарные лестницы. Есин прямо в институтском скверике выговорил Кеше все, что он о нем думает. Студент молча выслушал критику, а затем так же молча ударил ректора дипломатом по голове. Все это – в присутствии множества свидетелей. И только благодаря удивительно либеральному духу Литинститута и незлобивости Сергея Николаича сей проступок не имел удручающих для поэта Валаамского последствий.
Зарабатывал Кеша продажей лотерейных билетов. Когда-то он даже был женат на дрессировщице слонов. Циркачка, привыкшая к повиновению неразумной живности (а беспечного Кешу она наотрез отказывалась воспринимать как нечто разумное), всячески дискредитировала поэта. Например, заставляла стирать свое нижнее белье. "А что я мог поделать? – оправдывался пред нами Кеша. Она слонов укрощает, а слоны – больши-и-ие..."
Жил Кеша где попало. То ютился по общагам, то у очередных собутыльников. Деньги у него водились редко, и он то и дело занимал их у знакомых. Надо отметить, что и отдавал их Кеша исправно, хотя кредиты могли затянуться на существенный срок.
Одевался Кеша, говоря умным языком, контрарно, то есть или как оборванец, или как щеголь. Причем второе наблюдалось не часто и не надолго. Уже по окончании института он как-то заявился в студенческую столовку выпить со старыми знакомыми. Этакий франт во всем новом – в лакированный туфлях и зеленом драповом пальто. Ну и набрался, как положено. А тут обильные осадки вопреки всем прогнозам. Так что Кеша умудрился вываляться во всех окрестных лужах. Долго еще летали над зданием Литинститута матерные благословения в адрес ненастья...
Впрочем, обычно Кеша ходил в чем попало. А однажды выпросил у меня трусы, упирая на то, что его собственные сгнили прямо на нем. Правда это или нет – не знаю. Но выпрашивать что бы то ни было и у кого бы то ни было Кеша любил. Причем, похоже, не ради надобности, а ради одному ему известной игры...
В общем, Кеша говорит мне:
– Деньги – не проблема. Надо только сходить.
– Куда? – спрашиваю. – Ночь на дворе. К вьетнамцам, что ли?
– И ближе есть. Тут напротив хачик живет, водкой торгует круглосуточно.
Уже с водкой мы вернулись в мою комнату. Она была в удручающем состоянии. За день гулянки полы усеялись окурками, крошками, пустыми бутылками и какими-то фантиками. Возле ножки стола валялся раздавленный кусок сала. Рядом – помятый галстук в белый горошек. На одной из коек спал какой-то дедушка. Да и вообще, в комнате появились незнакомые личности. Один из них пел под гитару есенинское "Письмо матери".
– "... Будто кто-о-о-то мне в каба-а-ацкой драке садану-у-ул под сердце финский но-о-ож..." – подпевал Олежка Ядыкин. Он мотал головой и буквально плакал. Казалось невероятным, что еще днем Олег и слышать не хотел о Есенине.
Кстати, здесь была и Нинка.
– Куда ты делся? – спросила она, когда незнакомец окончил песню. Ушел умываться – и нету. Я так и подумала, что лучше тебя здесь подождать.
– Да так, – говорю. – От "белочки" бегал...
– У нас тут есть, – ободрила меня Нинка. – Феликс Иванович принес, указала она на спящего дедушку. Как выяснилось, спящий был каким-то писательским начальником. А приехал он в общагу в поиске жены. Молодая супружница не вынесла запоя благоверного и сбежала в казенный приют.
Нинка налила нам с Кешей "по штрафной". Но тут проснулся Феликс Иванович и бурно возразил против расточительности: нечего, мол, всяких пришельцев угощать. На что я возразил, что пришелец здесь именно он, а я в некотором роде его благодетель и покровитель. Недоразумение было исчерпано. Тем более что Кеша представил на обозрение только что купленные у хачика бутылки.
Востребовался тост, и я поднял стакан:
– Дорогие поселяне, я не капельмейстер, а потому скажу кратко. Вперед на битву с Бахусом! Пока морда гуинпленовой не станет...
Наконец-то я опохмелился. Стало значительно легче. Я даже почувствовал, как рассасываются мешки под глазами. Сказка про мертвую и живую воду – это явно про водку...
Потом мы пили еще. Действительность приобрела затейливые формы. Люди лишились очертаний и подобосущности. Казалось, мы плыли на заблудившемся корабле в поисках сбежавшего капитана...
Между тем Кеша рассказывал какую-то историю:
– А однажды мы пили с Ваней Новосельцевым. Сели с ним осенью, а закончили весной. Пили у него дома, на кухне. Баба евонная сбежала в Чебоксары. Закусывали солью: облизывали мизинец и макали в солонку. Так что если не пуд, то килограмм соли мы с ним точно съели. Но он, гад, взял мой носовой платок и выкинул в форточку. Взял – и выкинул. Вот так... – Кеша сделал махательное движение. – Представляете?..
– Богатые у тебя воспоминания остались от той зимы, – говорю.
Кто-то попросил, чтобы я спел. Но гитара меня не слушалась. Голос тоже. Это был признак приближающегося разрыва с сознанием. Еще сто-сто пятьдесят – и всё.
Для верности я выпил залпом целый стакан. Лег на койку и отвернулся к стене. Присутствующие не очень расстроились моим отрешением. Кеша продолжал свои реминисценции. По мере развития сюжета его речь обогащалась красочностью, но скудела смыслом. Наверно, итогом такой эволюции должна была быть полная ономатопея...
А я, я лежал и молился. Это была мольба без адреса и надежды. Самоисповедание. Немой крик совести. Категорический императив...
Алкогольное безумие продолжалось аж до вторника. Кеша будил меня утром и молча протягивал стакан. Феликс Иванович в один из дней отправился по этажам искать жену. Вернулся минут через сорок – без жены, без туфель и без пиджака, но в полноте недоумения. Очередные потери окончательно лишили Феликса Ивановича всякого энтузиазма, и с тех пор он уже не вставал с койки, а только мычал и тянулся к стакану. В воскресенье за ним приехали ответственные люди и увезли восвояси, разыскав, кстати, все его вещи. Потом явилась комендантша Ирина и посоветовала немедля привести комнату в порядок, ибо ответственные люди обещались пожаловаться на нас проректору. Мы перебрались к Нинке.
Нужно было постепенно урегулировать отношения между внутренним и внешним. Ко вторнику мы с Нинкой более или менее вернулись к благообразию. То есть водка сменилась сухим вином и пивом. Кеша не ожидал такого ослабления напора и ушел к ВЛКашникам – там какой-то "друг Платона Каратаева" праздновал рождение венка сонетов.
Вторник – день творческих семинаров. Пропускать было никак нельзя. Тем более, что в этот день на семинаре у Евгения Борисыча Рейна как раз обсуждалось Нинкино творчество.
Уже на входе станции "Дмитровская" нас нагнал Кеша и попросил тридцать рублей на пиво. Его состояние было близко к метафизическому.
– А где же твои деньги? – спрашиваю.
– Деньги есть – у меня сборник стихов вышел. Но я их схоронил в укромное место. Так что с собою нет.
– Ну так продай свой сборник стихов.
– А что, это мысль! – обрадовался Кеша. – Правда, книги я еще не получил, но вдруг получится...
Мы с Нинкой направились к кассе за жетонами. Кеша нашу добропорядочность осудил: нельзя, мол, так деньги на ветер; мол, великие и нищие писатели должны ездить в метро бесплатно.
– Каким образом? – удивились мы.
– По пальцу!.. – ответствовал поэт Валаамский.
Видя наше недоумение, Кеша направился к кабинке контролера. Но вместо того, чтобы предъявить женщине проездной, он выбросил вверх указательный палец. Жест явно напоминал американское "фак ю!", хотя мог быть истолкован и другим образом. В смысле: я – гениальный и нищий поэт, иду один, метро от этого не обеднеет; к тому же и сам я похож на это самое "фак", а потому не спорь со мной, женщина.