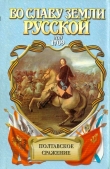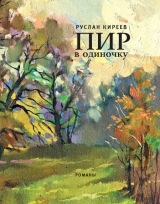
Текст книги "Пир в одиночку"
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Все! До дна! Причем в абсолютной (музыка смолкла) тишине, которую взорвал, едва племянник опустил стакан, сиплый дядин смех. По мягкой, горячей со сна щеке одобрительно пошлепала костлявая рука, изрисованная наколками. Появилась вторая бутылка, гулко стрельнула в потолок, и выползший из серебристого горлышка белесый дымок затуманил мало-помалу взгляд К-ова. Асимметричное дядино лицо еще больше скривилось, а в голом черепе блеснуло солнце. Только было это уже, кажется, не дома, уже шли куда-то, торопились, и Стасик со своей обмороженной ногой не хромал, как вначале, а весело приплясывал. Какие-то люди вырастали на их пути, и всем им дядя торжественно представлял К-ова. «Племяш мой!» – и с силой ударял по плечу, как бы доказывая этим, что племяш действительно его, не чужой, потому что чужого так не похлопаешь. К-ов улыбался. К-ов говорил что-то, и его, видел он, слушают. Им нравилось, как рассуждает он, и самому ему тоже нравилось – впервые в жизни.
В темной какой-то комнате оказались они, с дырой посреди грязного пола, и из этой темной дыры выпрыгивали, как живые, белые мешочки. Их жадно ловили, передавали из рук в руки и в конце концов, чудилось захмелевшему мальчугану, возвращали обратно. Вот только в тот ли день было это, на другой или, может, через неделю – К-ов не знал: все слилось в один беспрерывный праздник, закончившийся арестом дяди Стаей. Но что мешочки выпрыгивали – это точно, а потом вдруг появилась откуда ни возьмись бабушка. Она плакала и хлестала по лысой голове сына букетом гвоздик, им же подаренных.
Не в голос плакала – упаси бог – и хлестала не на виду у посторонних, а плотно закрыв двери. В этом была вся бабушка. Пусть муж пьет и швыряется пепельницей, пусть сын в тюрьме, пусть дочь колотит посуду – соседи не должны ни о чем знать. «Смотри, чтоб не видел никто!» – предупреждала строго, когда внук выносил после хабалкиного разбоя черепки и осколки.
Были тут и останки довоенного блюда – того самого, с синей каймой. Прорвав газету, высыпались со звоном, уже, правда, возле мусорного ящика, поэтому можно было б и оставить их здесь, среди обглоданных костей и ржавых жестянок, но маленький К-ов не решился. Вдруг увидят? Вдруг поймут, кому принадлежала разбитая посудина? Украдкой оглядевшись (из окна за ним наблюдала Тортила), принялся собирать стекляшки. Значит, и в нем тоже жил этот страх – страх, что все выйдет наружу. И мать-хабалка… И сдавленная радость среди траурных шепотков… И неукротимое желание быть таким, как все…
Он немало удивился, когда, уже взрослый, уже немолодой, уже после смерти бабушки, обнаружил это потаенное желание и в своем беспутном дяде, который, хрипло смеясь, всю жизнь, казалось, только и занимался тем, что бросал вызов скучной добропорядочности. И вдруг…
Под шестьдесят было ему – живой скелет, неровно обтянутый тонкой, желтой, как пергамент, заштопанной там и сям кожей, причем добрая половина из этих шестидесяти осталась за решеткой… Выйдя очередной раз на волю, поклялся жене – тоже в очередной раз, – что больше не попадет туда, вот только у жены за время последнего Стасикиного сидения другой появился муженек. Однако и прежнего не оставила в беде. Пока сидел, посылочки слала, а как освободился – пустила во времянку к себе. Где-то ведь да надо жить человеку! Она была доброй женщиной, доброй и жалостливой, несмотря на деньги, в которых никогда не знала нужды. С молодых лет работала на мясокомбинате, и не где полегче, а в разделочном, трудном самом цеху – не каждый мужик выдерживал. Ноги отекали, ревматизм пальцы скрутил, а на землистом лице лежала печать теперь уже неистребимой усталости. Зато платили хорошо… Но главное, конечно, была не зарплата.
На себя времени не хватало. Ходила в золоте, но без зубов (который уж год вставить собиралась!), со свалявшимися серыми волосами. Дочь вырастила – одна, без мужа. Когда со Стасиком сошлась, она уже была, так что он лишь удочерил ее и через месяц, с чувством исполненного долга, вновь отправился куда Макар телят не гонял.
Теперь Люба – так звали Стасикину жену – была уже бабушкой, Стасик же, которого К-ов без приглашения навестил в его времянке, хлопотал и суетился вокруг малыша не хуже настоящего деда. И салфеточку подоткнет, и чай попробует – не горячий ли, и в туалет сводит. А сам все подмигивал племяннику: как, мол?
Опустившись перед ребенком на корточки, бил себя кулачком в грудь. «Ну-ка, – хрипел, – кто это?» – и мальчонка бесстрашно выговаривал: «Дедушка».
Глаза старика лукаво сверкали. Вот так же, наверное, поблескивали глаза десятилетнего мальчугана, когда в голову ему ударил – впервые в жизни! – сладкий хмель. Нет, то не шампанское подействовало, хотя, конечно, и шампанское тоже, то были радость и счастье приобщения. Его приняли, его признали, с ним держат себя как с равным… «Ну что, племяш?» – спрашивал рецидивист с тридцатилетним стажем и снисходительно по плечу похлопывал – точь-в-точь, как тогда. А племяш-то сам не сегодня-завтра станет дедом, то есть давно обогнал словно бы застрявшего в тех годах горемычного своего дядю.
Тот не унывал, однако. Шуточками сыпал и прохаживался все, прохаживался по К-ову, в особенности – по его писательству. «Ты вон о дядьке своем напиши! О Хрипатом! Меня там Хрипатым зовут… Что, слабо?»
К-ов посмеивался, но дядя, и прежде удивлявший внезапной, как удар из-за угла, проницательностью, попал в точку. Едва ли не всех своих родственников запечатлел на бумаге предприимчивый беллетрист – всех, кроме Стасика. Почему? Ведь вот он, казалось бы, весь на виду – бери да описывай, ан нет! Уходит… Сочинитель долго не мог понять, в чем тут дело, пока не осенило: а Стасика-то нет вовсе! Он и хорохорится, и в грудку себя бьет, и выманивает из уст младенца золотое словечко дедушка, но какой, в самом деле, дедушка Стасик! Какой он муж, если через стенку другой сидит, накачивается пивом с воблой!..
Сколько помнил своего дядю К-ов, всегда он изображал кого-то. «Лидия Павловна говорит, – польщенно передавала сыну бабушка, – ты на инженера похож», – и Стасик, в сером дорогом костюме, в шляпе и с «Казбеком» в зубах, ощерялся, довольный.
К-ов не осуждал его. Не смел… Ибо и он тоже примерял на себя чужую одежку – разве нет? Разве не имитировал – в тех же книгах своих – легкий виватовский голос? Но время шло, он взрослел, он старел, и его, как и бабушку когда-то, стали беспокоить вдруг закрытые двери. О себе захотелось рассказать – о себе самом! – и своим непременно голосом. Вот тут-то и обнаружил всполошившийся романист, что своего голоса у него нету. И так начинал, и этак, но все на чужую речь сбивалось увертливое перо. Все краешком полотна довольствовалась фигура повествователя. А когда стронулась-таки с места, чтобы ближе к центру переместиться, то и ежилась, и спотыкалась что ни шаг, и все по сторонам озиралась: не пропустить ли кого вперед себя?..
Однажды Лушин сказал отцу, что с сентября – а до сентября оставалось месяца полтора – он хотел бы ходить в другую школу. «В какую другую?» – рассеянно переспросил бывший вдовец, так расторопно обзаведшийся новой супругой. Перед ним стояло блюдо с крупной, вымытой, влажно поблескивающей вишней, из которой он выковыривал шпилькой для волос косточки.
Шпильку, разумеется, дала жена. Она же усадила его за эту скучную работу; именно его, не пасынка – романист подробностью этой дорожил. Ему казалось, она хорошо передает атмосферу лушинского полуподвальчика после воцарения там новой хозяйки.
Нет, то не была традиционная злая мачеха, тайком от мужа измывающаяся над сиротой. Она не шпыняла мальчонку, не отнимала деньги, которые он выручал за свои авоськи, не загружала домашними делами, даже столь необременительными, как вытаскивание косточек из вишен. Но в то же время она не была матерью. Ибо родная мать вручила б шпильку и сыну тоже; сыну даже скорее, чем мужу. А впрочем… Впрочем, знал по собственному опыту К-ов, не всякая родная. Его, например, насколько помнил он, ни разу не повысила на него голос – это при ее-то вспыльчивости! Ни разу не потребовала: сделай то-то и то-то. И даже когда он посреди разгромленного дома бросил в лицо ей, дрожа от ненависти: «Хабалка! Хабалка!» – а потом, вслед за бабушкой, еще одно слово, не очень понятное ему, страшное, чужое (это ведь там где-то такие женщины, не у нас; из-за него-то мать и начала колотить посуду), – даже после этого она ничего не сделала ему. Только щека дернулась, будто кто-то пальнул в нее из натянутой между пальцами невидимой резинки…
Итак, двенадцатилетний Володя Лушин, улучив момент, когда родитель, с одной стороны, был при деле, так что на личное его время сын ни в коем случае не посягал, а с другой – мог и слушать и говорить, сообщил как бы невзначай о своем желании перейти в другую школу. Отец не понял. «В какую другую?» – и с хлюпаньем втянул губами бегущий по волосатой руке вишневый сок. «В женскую», – проговорил сын, но даже этот странный, этот невразумительный ответ не заставил папу отложить шпильку. «Почему в женскую?» – сказал он, беря багровыми пальцами треснувшую от спелости ягоду.
То было время, когда упразднялось раздельное обучение. В мужскую школу, где учились К-ов и Лушин, должны были осенью прийти девочки, а часть мальчишек отправляли на их место. Уходить, однако, никому не хотелось – в девичье-то царство! – но одно исключение было. Лушин… Володя Лушин… Он как раз мечтал уйти, но надо же сказать об этом! Надо, набравшись духу, подойти к классной руководительнице Анне Адамовне и кратко, веско объяснить ей, что он… Что он… Здесь мысль его буксовала. Никак не мог придумать Володя Лушин этих веских, этих единственных слов.
Выбрав момент, когда возле учительницы никого не было, стал, запинаясь, бубнить что-то. Анна Адамовна подняла голову. Пухленькое, ржавое от старческой пигментации ласковое лицо… Внимательно смотрела на сироту сквозь треснутые очки и, участливая бабуся, заранее соглашалась на все, что ни попросит он. А сирота явно просил о чем-то. О том, кажется, чтобы его здесь оставили. («Другая школа», – разобрала Анна Адамовна.) Об этом все просили. Но всем отвечали уклончиво, говорили, что пока, дескать, вопрос не рассматривался, Лушина же классный руководитель заверила, ласково прикрыв глаза: «Не волнуйся, Володя. Тебя мы не отдадим».
К нему вообще было особое отношение, щадящее – ни одной двойки не получил, как умерла мать, – но пусть бы лучше двойки, сообразил впоследствии К-ов, пусть колы, чем этот всеобщий заговор жалости. Туда хотелось ему, где о нем ничегошеньки не знали. Где не помнили, как однажды во время урока открылась дверь, кто-то невидимый поманил учительницу, и она, оцепенело вернувшись через минуту к столу, выговорила глухим, севшим вдруг голосом: «Володя… Ступай домой, Володя, маме плохо». С тех пор никто не издевался над ним, никто не срывал с баклажановидной головы кепочки, никто не выбивал из рук портфеля. Была такая забава: подкрасться сзади и шарахнуть изо всех сил по чужому портфелю – своим, крепко стиснув его обеими руками… А еще была забава выставлять в коридоре, перед входом в класс охранников. С разгону налетали они на каждого, кто приближался к двери, плечом отталкивали. Именно плечом – не руками. Руками запрещалось… Опередить их было не так-то просто, но К-ов сумел и, прорвавшись (его лишь задели слегка), перешел в почетный разряд болельщиков. Издали наблюдал за сокрушительными столкновениями. И тут появился Лушин. Ну, как появился… И прежде выжидательно топтался в сторонке, но его не замечали, а теперь заметили и нехотя расступились, пропуская. Его знали, не тронут… И действительно, главарь охранников, запыхавшийся крепыш, энергично махнул рукой: иди, можно. Тебе – можно… Лушин помешкал немного и быстро прошел. Но быстро не потому вовсе, что его могли отпихнуть, как других, – нет, никто не пошевелился даже, лишь следили зорко, не прошмыгнул бы кто следом, а – чтобы не задерживать игру. Тихо сел за свою парту, и, какой бы визг, какие б крики и возгласы ни доносились от двери, ни разу не посмотрел в ту сторону.
Вообще говоря, прямых доказательств, что Лушин намеревался уйти из школы, у К-ова не было. Эпизод с вишней действительно имел место, но гораздо позже, когда они уже в техникуме учились. К-ов запамятовал, что привело его в лушинский полуподвал, но что-то – привело, и он собственными глазами лицезрел главу семьи в фартуке и со шпилькой в обагренной соком руке. В романе, правда, эпизод этот перемещался во времени на несколько лет назад и служил фоном для неудавшегося семейного разговора. Неудавшегося, ибо сын надеялся, что отец сходит к директору, объяснит все, и тогда, может быть, его переведут. Но отец не пошел… Прямых доказательств не было, но чем пристальней всматривался романист в своего героя, тем больше убеждался, что он делал, наверняка делал попытки удрать из школы, где все знали его историю.
Тогда будущий сочинитель попыток этих не приметил. Никто не приметил – так поглощены были грядущими переменами. «Ничего-ничего, – стращали учителя. – Скоро вот придут девочки…»
В ответ смех раздавался. Несколько натужный, несколько вызывающий, но – смех. Ребята хорохорились и отпускали шуточки, расхрабрившийся К-ов тоже бросал реплики, причем в голосе его прорывались вдруг хриплые Стасикины нотки, но втайне все они, даже Ви-Ват, не говоря уже о К-ове, и волновались, и робели. Новая жизнь наступала! Почему-то казалось, что девочки, которые придут к ним, будут совсем другими, нежели живущие по соседству. В его ли дворе… В лушинском…
В этих никакой загадочности не было. По утрам тянулись, заспанные, в дворовую уборную, грязную, мокрую, разделенную дощатыми перегородками на три кабины. В перегородках щели светились. Время от времени их затыкали газетами, но мальчишки выковыривали их и вели наблюдения. Результаты обнародовались после на чердаке.
Пробирались на чердак украдкой от взрослых, поодиночке, предварительно набив карманы окурками. ( Стрелять бычкиименовался этот уличный промысел.) Иногда, впрочем, удавалось раздобыть и целехонькую папироску, а однажды К-ов небрежно извлек из-за пазухи непочатую коробку «Казбека», царский подарок дяди Стаей. Тут же протянул свою рыжую лапу Костя Волк, взял коробку (К-ов беспрекословно разжал пальцы), потряс над ухом и, убедившись, что полная, одобрительно причмокнул. Он был самый старший здесь, мужчиной был, что и демонстрировал наглядно. Вдохновенно и яростно предавался рукоблудию, а малышня, почтительно обступившая его полукругом, взирала на эту имитацию любви с почтительным и напряженным вниманием. После же, разбредясь по укромным местечкам, тоже проверяли себя на мужественность.
Но все это, понимали они, было лишь прелюдией, лишь разминкой, лишь генеральной репетицией перед тем главным действом, что свершалось, скрытое от глаз, между мужчиной и женщиной. Костя Волк повествовал о нем упоенно и со знанием дела. Ему верили. Ему внимали, поразевав пересохшие от волнения рты, в которых еще не все молочные зубы повыпадали, а после объединялись по двое, по трое и без особого труда заманивали на все тот же чердак дворовых девочек. Те были уступчивы, но неумелы, как и их малолетние соблазнители. Любопытство пробудилось в них раньше, нежели женский стыд…
Подрастая, девочки, однако, начинали сторониться бывших своих дружков. Теперь их не то что на чердак – на дворовую площадку не вытащить было. Припудрив носики, надев туфли-лодочки, уплывали ближе к вечеру за ворота, в таинственную взрослую жизнь, а их ровесники, недавние товарищи по чердачным забавам, самозабвенно гоняли во дворе мяч. Но и они тоже (К-ов по себе судил) все чаще грезили – не говорили вслух, не обсуждали публично, а именно грезили – о гордых красавицах, благосклонность которых рано или поздно завоюют. Мимолетную улыбку… Ласковый взгляд… Или (но думать об этом было уже дерзостью) легкий поцелуй – стыдливый, куда-нибудь в щечку. Как ни странно, они были идеалистами и мечтателями, романтиками были, – хотя, впрочем, отчего же странно? Не чердак ли, не коммунальная теснота вкупе с всеобщей верой в прекрасное и близкое будущее и сделали их таковыми?
В небольшой московской церквушке, давно уже не действующей, превращенной в музей, выступал хор. Вверху – черная шеренга мужчин, внизу, два или даже три ряда, – женщины, все в белых платьях, все строгие, даже суровые, все с большими нотными листами в руках.
К-ов попал сюда случайно. Хорошо ли они пели, плохо, он не знал, не понимал в этом, не имел органа, который откликался бы на такое. Вот когда дети пели, там понимал, здесь же не столько слушал, сколько напряженно и ревниво смотрел. Как глухонемой… Смотрел на некрасивые с черными, круглыми, одинаковыми ртами женские лица, и по телу его, тяжелому, придавленному к земле, медленно и редко ползли мурашки. Хотелось расширить себя, раздвинуть, преодолеть долгую сжатость свою, дабы освободить хоть толику пространства для того, что невнятно и мучительно угадывал он в этих белых, тонких, вытянутых к небу фигурках.
Потом он видел, как выходили они из церквушки, бедно и серо одетые, с усталыми лицами, неузнанные(сколько же их, оказывается, Тортиловых дочерей!) и уже не надеющиеся, что узнают.
Когда-то, очень давно, они с Лушиным еще в школу не ходили, во двор к ним приезжал на мотоцикле ухажерв шлеме и огромных, в пол-лица, очках. Это лишь и осталось в памяти: тарахтящий, вспугивающий голубей Дмитрия Филипповича мотоцикл с коляской да насмешливое бабушкино словечко ухажер.Вот только бабушка ошибалась, относя его к старшей Тортиловой дочери. Вовсе не ее, как выяснилось, охмурял мотоциклист, младшую, хотя до поры до времени скрывал это. Бабушка ошибалась, ошибалась, возможно, Тортила, тогда еще не вправленная, как в раму, в растворенное окно, да и сама виновница не подозревала, из-за чего ездит к ним добрый молодец, но старшая поняла все. Потом поняла и младшая – как было не понять, если он, набрав однажды полную грудь воздуха, предложил руку и сердце! Очень удивилась она, засмеялась и сказала: нет. Сразу ли сказала, некоторое ли время спустя, но сказала, и самолюбивый гонщик, надев марсианские очки, шлем нахлобучив, двинул на кавалерийских ногах к верной своей машине. (Так рисовал себе романист К-ов эту сцену.) Мимо старшей сестры прошествовал, сопя, и даже не кивнул на прощание – не узнал,но она ничего, она уже умела не ждать…
К-ов, особенно молодой К-ов, великим искусством этим владел плохо. Всякая грядущая перемена возбуждала и взбадривала его, вселяла надежду, что все теперь пойдет по-другому. В детстве таких ожидательныхдней было множество, но они как-то перемешались в сознании, слились в один: на дереве сидит он, на старой дворовой шелковице, что у водоразборной колонки, в густой ее кроне, которая, ворочаясь и шепча что-то, надежно хоронит его и от августовского зноя, и от взоров расхаживающих внизу, позванивающих ведрами соседей. То на одном, то на другом листе, уже предосенне обмякшем, вспыхивает солнце. Ветка, на которой примостился он, не слишком толста, она пружинит и раскачивается высоко над землей, но он уверен в ней. И еще уверен, что скоро произойдет что-то хорошее. Завтра… Послезавтра… Через три дня…
К-ов не помнил, чего именно ждал тогда на шелковичном корабле (мальчишки звали это могучее древо кораблем), о чем грезил. Быть может, о юных феях, которые, в ленточках и фартучках, должны были переступить первого сентября порог их мужской крепости?
И вот переступили. И вот стоит он, выгнанный из класса (с приходом девочек дисциплина, вопреки ожиданиям учителей, не стала лучше; напротив!) – стоит в коридоре, еще пахнущем после летней побелки известью, и, не отрываясь, смотрит в дверную щель на схваченные крест-накрест тощие косички. Белая лента вплетена в них, изумительно бел резной воротничок, а шейка – тоненькая-тоненькая… От умиления и нежности замирает двенадцатилетний мужчина К-ов, сделавший наконец свой выбор (другие давно уже сделали. Сразу… Половина мальчишек повлюблялась первого сентября), однако не подозревающая ни о чем обладательница косичек вскоре надолго заболела. К тому времени, когда она, поправившись, вернулась в школу, его верное, но нетерпеливое сердце было уже отдано другой.
Звали ее Таней Варковской. Не он один отдал ей сердце, еще кое-кто, но – поразительное дело! – не ревновали друг к другу, не ссорились, а любили этакой дружной семейкой, как любят знаменитую актрису.
Что, такой уж красавицей была Таня Варковская? Нерыцарский вопрос этот просто-напросто не приходил в голову, но позже, всматриваясь в снимок, на котором был запечатлен их класс, удивленный сочинитель не находил в своей избраннице ничего особенного. Глазастая серьезная девочка, чуть курносенькая, с колечками светлых волос… Перед взором его стояло (и с годами картина эта не потускнела), как быстро идет она по школьному вестибюлю, прямая, высокая, в мягких, без каблуков, туфлях – не идет, а плывет бесшумно, руки же неподвижны (совершенно!), а взгляд перед собой устремлен. Кто-то окликает ее, и она, замедлив шаг, поворачивает голову. Только голову, скосив под удивленно приподнятыми бровями живые, серые, готовые и приветливо улыбнуться, и обдать холодком глаза…
Не домой отправлялся он после школы, а в противоположную сторону – туда, где жила она. Однако не рядом шел и даже не по той, что она, стороне, а по другой и держался сзади. Но не очень далеко… Чтобы в случае чего прийти на помощь.
Увы! – никто не нападал на нее. Никто не преследовал. Лишь раз остановили двое мальчишек, совсем пацаны – она рядом с ними выглядела взрослой. К-ов ринулся через дорогу. Тут же, правда, замедлил шаг и, чуть прихрамывая, как прихрамывал из-за обмороженной ноги Стасик, едва ли не вплотную подошел. Глядел, посвистывая.
Мальчишки изумленно уставились на него. Ни тот ни другой не выказали, к разочарованию К-ова, ни малейшей агрессивности (и страха тоже), а Таня посмотрела холодно и отвернулась. Но он не уходил. Он стоял и наблюдал (посвистывая!), и лишь когда мальчишки двинулись своей дорогой, а Таня – своей, догнал ее и бросил со Стасикиной хрипотцой в голосе: «Чего они?»
Варковская молчала. Прямо перед собой глядела она, неподвижная в своей ровной и плавной поступи (сравнение с лебедем не явилось ему, хотя стишки строчил уже), потом губы ее приоткрылись, и он услышал: «Это брат мой».
Оконфузившийся мушкетер не нашел ничего лучшего, как снова засвистеть. Развязным и глупым чувствовал себя, ничтожным, и так было всегда, когда оказывался с ней рядом. (Почти всегда. Одно исключение все же имело место.) Лишь вдали от нее становился он ее достоин, в уединении, на том же, например, шелковичном корабле, где вырезал четыре заветные буквы: свои и своей избранницы инициалы.
Буквы эти сохранились. Он обнаружил их, когда, уже взрослый, уже женатый, уже живущий в Москве и приехавший ненадолго в свой город, забрался на корявое от старости, тучное дерево.
Предлог для этой экстравагантной выходки был, и предлог благовидный. Соседка, что снимала белье с балкона и заодно словоохотливо беседовала со стоящим внизу К-овым, которого не видела уже лет десять, с тех самых пор, когда бабушка переехала в приморский городок, где можно было, подрабатывая к пенсии, сдавать курортникам, – возбужденная встречей соседка упустила наволочку. Медленно спланировала она, шевеля, как усами, белыми тесемками, и застряла в ветвях шелковицы. В ту же минуту москвич скинул туфли, подпрыгнул, подтянулся на руках и оказался, к великому своему удовольствию, на нижней палубе.
Еще эту палубу называли женской. Из-за девочек… Девочки располагались тут, дворовые девочки, которые тогда еще не пудрили носики и не уплывали по вечерам за ворота в туфлях-лодочках. Сами они забраться не могли, их подсаживали, а они визжали и, вместо того чтобы держаться покрепче, испуганно оправляли задирающиеся платьица.
К-ов огляделся. Он узнал палубу, узнал рею, на которую ставил когда-то ногу (и поставил сейчас), узнал оплывшую культю другой ветки-реи, ампутированной; ее спилили, потому что заслоняла свет живущим на первом этаже. Однако и спиленная, отделенная от ствола, она никак не хотела падать, держалась, и восседавшему на дереве дворнику Егору пришлось, к злорадству мальчишек, немало потрудиться, чтобы столкнуть ее. Наконец она, шелестя и цепляясь за остающиеся жить упругие веточки, грузно рухнула. На ней оказалось множество ягод – и совсем еще зеленых, и уже покрасневших, и зрелых, матово-черных. Там, наверху, она утаивала их, берегла неведомо для кого, а теперь выставила – все, разом: нате, берите! Хабалкин сын, конечно, тоже набросился, и никаких аналогий, никаких глубокомысленных сравнений не было в легкой его голове, но много лет спустя, когда бабушка стала раздаривать незадолго перед смертью вещи, ему вдруг вспомнилась эта зеленая махина, такая беспомощная, с подрагивающими листьями.
С нижней палубы махнул на верхнюю, потом – на мостик(«Осторожно!» – вскрикнула соседка) и здесь замер. Вот так же сидел он когда-то, на этой самой ветке, только была она потоньше и попружинистей, а внизу звенели у колонки ведра и пахло землей, ныне упрятанной под асфальт… С каким удовольствием остался бы тут – на час, на два, но соседка нервничала на своем балконе, умоляла не лезть дальше (решила, должно быть, что это страх сковал его), и он, удало выпрямившись, схватил беглянку-наволочку за увертывающийся ус.
Женщина не знала, как благодарить его. Но она зря хлопотала: и без нее он был щедро вознагражден за свою спасительную акцию. Не сразу, правда, чуть позже, когда покинул двор и направился к дому Тани Варковской. Вдруг некая догадка блеснула в голове, блеснула ослепительно и кратко – от неожиданности он даже остановился.
Закон шелковичного дерева– так впоследствии назовет он открытое им явление. Не он ли, подозревал беллетрист, не таинственный ли и всесильный этот закон, и побудил его взяться за лушинский роман?..
Отложив рукопись, вышел, уже далеко за полночь, на балкон и, повернувшись спиной к пустынной улице, долго смотрел на оставленную им узкую от книжных стеллажей, погруженную в полумрак комнату. Лишь белые листки ярко освещались настольной лампой да тяжелые садовые ромашки.
В молочной бутылке стояли они, на самом краю стола. Дальше темнела распахнутая в другую комнату дверь, тоже пустую (жена с младшей дочерью уехала, старшая же вот уже полгода жила отдельно), а над дверью вырисовывался четырехугольник подаренной земляком-художником картины: уголок южного города. Оцепенело всматривался К-ов в свою комнату, но всматривался не с балкона, а откуда-то из будущего, из далекого-далекого будущего. И вспоминал – там, в будущем, – что так уже было однажды, очень давно, когда старость еще не скрутила его, когда молоды еще были дочери (младшая – совсем ребенок), стояли ромашки на столе и лежала рукопись. То был лушинский роман – К-ов узнал его. Роман этот давно вышел в свет (там, в будущем), и автор, с пристрастием перечитав его, понял: не то опять, совсем не то. Но для него это уже не имело значения. Ни там не имело, в будущем, ни здесь, пожалуй… Да, и здесь тоже, на сегодняшнем балконе, прохладном и сыром от недавнего яростного ливня. К-ов озяб, но взгляд его не в силах был оторваться от бесшумно уехавшей в прошлое уютной комнатки, легкое жилое тепло которой овевало сквозь огромные пространства его лицо.
Вернувшись к столу, он записал в дневнике, что жизнь можно уподобить переводным картинкам. Тусклы и неотчетливы они, невнятны, однако рано или поздно время смывает с них защитную пленку, и тогда выпукло и сочно проступает изображение. Время смывает, только время, но, оказывается, вовсе не обязательно физически перемещаться в будущее, можно (писал он) перенестись туда мысленно, как вот только что, на балконе.
О бабушке подумал он. В свои последние приезды к ней, когда она, по-прежнему экономная, даже прижимистая, стала раздаривать мало-помалу все хоть сколько-нибудь ценное, лишь крестик оставила себе, маленький золотой крестик (его она сняла уже в больнице незадолго до смерти и, приказав движением век нагнуться, надела дрожащими руками на внука) – в свои последние приезды к ней он часто ловил себя на том, что видит ее как-то очень ярко, очень компактно (словно в некой рамочке) и в то же время с подробностями, которые прежде ускользали от его рассеянного взгляда. Вот стоит она, прислонившись спиной к горячей батарее, худенькая, в накинутом на плечи пуховом платке, и вяжет, вяжет из цветных лоскутков круглые, расширяющиеся от центра коврики. (Два таких коврика, самые последние, и поныне лежат под пишущей машинкой К-ова.) А вот телевизор смотрит, не цветной, с маленьким экраном, смотрит напряженно и доверчиво, как ребенок, то вдруг тихо ойкая, то радостно смеясь, то чему-то умиляясь до слез, и светлые детские слезы эти медленно расплываются в извилистых морщинах. К-ов, с книгой на коленях, сидит поодаль, но не на экран устремлен его осторожный взгляд и не в книгу, а на вырастившую его восьмидесятилетнюю женщину. Господи, думает он, как же хорошо сейчас! Как счастлив он! Как завидует себе, теперешнему, – завидует из того, уже недалекого, уже грозно подкравшегося будущего, когда ничего этого не будет.
То, что доморощенный философ называл про себя законом шелковичного дерева, безусловно, имело в своей основе идею повторения – центральную идею вечнотекущей жизни (ибо повторенное однажды будет повторяться, и повторяться, и повторяться до бесконечности), но в этой мысли, собственно, ничего нового не было, открытие же К-ова заключалось в том, что настоящее отзывается (и, стало быть, повторяется) не только в прошлом, как это было, например, когда он, отважный спасатель наволочки, сидел на пружинящей, утолстившейся за полтора десятилетия ветке, – не только в прошлом, но и в будущем, которое еще не наступило. И которое в реальности, конечно, ничего этого уже не повторит. Разве что как образ… Как воспоминание…
Вернув соседке упорхнувшую наволочку, в смятении покинул столичный житель бывший свой двор. К дому Тани Варковской отправился. Тоже бывшему…
Сколько раз прогуливался здесь поздним вечером под светящимися низкими окнами! Если никого не было поблизости, придерживал шаг, а то и вовсе останавливался, заглядывал в щель между белыми занавесочками. Иногда везло, и он, с обрывающимся сердцем, лицезрел сквозь стекло свою царицу. То за столом сидела она, сосредоточенная, под большим абажуром (уроки делала?), то мимо проплывала, кому-то улыбаясь на ходу. Еще прекрасней казалась она в эти мгновения. Еще недоступней… А раз, едва ли не в полночь, когда улица совеем опустела и он мог торчать у окна сколько угодно, она появилась вдруг в юбке и лифчике. Остановилась, беззвучно и живо говоря что-то, но он уже отвернулся, уже испуганно, с пылающим лицом шагал прочь.