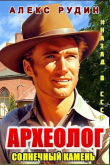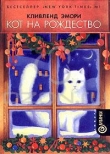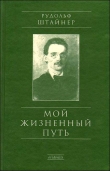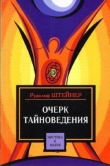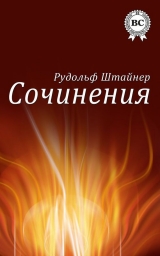
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Рудольф Штайнер
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Но разве мы не в силах мерить новое меркою старого? Не придется ли каждому человеку соразмерять то, что произведено его моральной фантазией, с традиционными нравственными учениями? Для того, что должно проявиться как нравственно-продуктивное, это такая же нелепость, как если бы мы вздумали соразмерять новую форму, возникшую в мире природы, со старой и сказали: так как рептилии не соответствуют протоамниотам, то они суть неправомерная (болезненная) форма.
Итак, этический индивидуализм не противоречит правильно понятой теории развития, но непосредственно вытекает из нее. Геккелевское родословное дерево в линии восхождения от первичных животных вплоть до человека как органического существа надлежало бы, не прерывая естественной закономерности и не нарушая единого процесса развития, прослеживать дальше вверх – до индивидуума как некоего в определенном смысле слова нравственного существа. Однако нигде нельзя было бы из сущности какого-либо одного рода предков вывести сущность последующего рода. А если верно, что нравственные идеи индивидуума явным образом произошли из нравственных идей его предков, то столь же верно и то, что этот индивидуум обречен на нравственное бесплодие, до тех пор пока у него самого не появятся моральные идеи.
Тот же самый этический индивидуализм, который я развил на основе предшествующих воззрений, мог бы быть выведен и из теории развития. Убеждение в итоге было бы тем же самым; иным был бы лишь путь, на котором оно добыто.
Появление совершенно новых нравственных идей из моральной фантазии не является для теории развития чем-то внушающим большее удивление, чем происхождение нового животного рода из другого. Но только, будучи Монистическим мировоззрением, эта теория как в нравственной жизни, так и в природной должна отрицать всякое достигаемое путем голых умозаключений, а не переживаемое в мире идей потустороннее (метафизическое) влияние. При этом она следует тому же принципу, которым она руководствуется, ища причины новых органических форм и не ссылаясь при этом на вмешательство какого-то вне-мирового Существа, вызывающего к жизни каждый новый род сообразно новой творческой мысли посредством сверхъестественного влияния. Подобно тому как монизм не может для объяснения живых существ пользоваться какой-то сверхъестественной творческой мыслью, так же невозможно для него выводить и нравственный миропорядок из причин, лежащих за пределами переживаемого мира. Он не может считать сущность какого-нибудь воления исчерпанной в нравственном смысле лишь оттого, что он свел его к продолжающемуся сверхъестественному влиянию на нравственную жизнь (божественное мироправление извне) или к временному особому откровению (дарование десяти заповедей) или к явлению Бога (Христа) на земле. То, что происходит благодаря всему этому с человеком и в человеке, становится нравственным лишь после того, как оно в человеческом переживании становится индивидуальным достоянием. Нравственные процессы для монизма суть такие же мировые продукты, как и все прочее существующее, и причины их следует искать в мире, т. е. в человеке, поскольку человек является носителем нравственности.
Этический индивидуализм оказывается таким образом увенчанием того здания, которое Дарвин и Гсккель стремились воздвигнуть для естествознания. Он есть одухотворенное учение о развитии, перенесенное на нравственную жизнь.
Кто в скупости сердца заведомо отводит понятию естественного произвольно ограниченную область, тому остается совсем немного, чтобы не находить в ней места для свободного индивидуального поступка. Последовательно рассуждающий сторонник теории развития не может впасть в подобную узость. Он не может завершить естественный порядок развития на обезьяне, а за человеком признать «сверхъестественное» происхождение; ища естественных предков человека, он должен искать уже в природе – дух; он не может также остановиться на органических отправлениях человека и считать естественными только их, но должен и нравственно свободную жизнь рассматривать как духовное продолжение органической.
Сторонник теории развития, согласно своей основной точке зрения, может утверждать лишь то, что современная нравственная деятельность происходит из иных разновидностей мирового свершения; характеристику этой деятельности, т. е. определение ее как свободной он должен предоставить непосредственному наблюдению над ней. Ведь он утверждает только, что развитие людей берет свое начало от предков, стоящих еще на нечеловеческой стадии. Как устроены люди это должно быть установлено посредством наблюдения над ними самими. Результаты этого наблюдения не могут впасть в противоречие с правильно понимаемой историей развития. Голословное утверждение, будто эти результаты таковы, что они исключают естественный мировой порядок, не могло бы быть приведено в согласие с новейшим направлением естествознания *. (* Вполне оправдано то, что мы называем мысли (этические идеи) объектами наблюдения. Ибо хотя мысленные образования в процессе мыслительном деятельности н не вступают в поле наблюдения, они все же могут стать впоследствии предметом наблюдения. Как раз этим путем и получена нами наша характеристика человеческой деятельности.)
Этическому индивидуализму нечего опасаться со стороны понимающего самое себя естествознания: наблюдение выявляет в качестве характеристики совершенной формы человеческой деятельности свободу. Эта свобода должна быть признана за человеческим велением, поскольку оно осуществляет чисто идеальные интуиции. Ибо последние являют не результат какой-то действующей на них извне необходимости, но суть нечто покоящееся на себе самом. Если человек находит, что поступок является отображением подобной идеальной интуиции, то он ощущает его как свободный. В этом отличительном признаке поступка и заключается свобода.
Как же с этой точки зрения обстоит дело с упомянутым уже выше (стр. 486) различием между обоими положениями: «Быть свободным – значит мочь делать то, чего хочешь» и другим: «Быть в состоянии по собственному усмотрению желать и не желать чего-либо – вот собственный смысл догмы о свободной воле». – Гамерлинг обосновывает свою концепцию свободы воли как раз на этом различении, объявляя первое положение правильным, второе же нелепой тавтологией. Он говорит: «Я могу делать, что хочу». Но сказать: я могу хотеть, чего хочу, – это пустая тавтология. – Могу ли я сделать, т. е. превратить в действительность то, чего я хочу и что я, следовательно, предпослал себе в качестве идеи моего делания, – это зависит от внешних обстоятельств и от моей технической умелости (см. стр. 621). Быть свободным – значит быть в состоянии из себя самого предопределить лежащие в основе деятельности представления (побудительные основания) посредством моральной фантазии. Свобода невозможна, если что-нибудь вне меня (механический процесс или всего лишь умозаключаемый внемировой Бог) определяет мои моральные представления. Я, следовательно, свободен лишь тогда, когда я сам произвожу эти представления, а не тогда, когда я могу реализовать положенные в меня каким-то другим существом побудительные основания. Свободное существо – это то, которое может хотеть то, что оно само считает верным. Кто делает что-либо иное, чем он сам того хочет, тот должен быть побужден к этому иному мотивами, которые лежат не в нем самом. Такой человек поступает несвободно. Выходит, что если кто-то может по собственному усмотрению хотеть то, что он считает правильным или же неправильным, то это значит, что он может по собственному усмотрению быть свободным или несвободным. Это, конечно, так же нелепо, как видеть свободу в умении делать то, что ты должен хотеть. Но последнее и утверждает Гамерлинг, когда он говорит: совершенно верно, что воля всегда определяется побудительными основаниями, но нелепо говорить, будто она вследствие этого несвободна: ибо большей свободы, чем осуществлять себя по мере собственной силы и решимости, нельзя в ее случае ни пожелать, ни помыслить. – Ну да: тут можно пожелать как раз еще большую свободу, которая и есть собственно свобода. Именно: свободу самому определять основания своего воления.
Человек под влиянием обстоятельств позволяет себе иногда отказываться от осуществления своих желаний. Но позволять предписывать себе, что он должен делать, т. е. хотеть того, что не он сам, а другой считает правильным, – к этому его можно склонить лишь в той мере, в какой он не чувствует себя свободным.
Внешние силы могут помешать мне сделать то, что я хочу. Тогда они попросту обрекают меня на ничегонеделание или на несвободу. Но лишь в том случае, когда они порабощают мой дух и изгоняют из моей головы побудительные основания, а на место их хотят внедрить свои, тогда они замышляют мою несвободу. Церковь ополчается поэтому не только против поступков, но в особенности против нечистых мыслей, т. е. побудительных оснований моего поведения. Она лишает меня свободы, когда нечистыми кажутся ей все побудительные основания, которые задает не она. Церковь или какое-либо иное сообщество порождает несвободу, когда священники или наставники делают себя повелителями совести, т. е. когда верующие должны получать от них (из исповедальни) побудительные основания своего поведения.
Дополнение к новому изданию 1918 г. В этих рассуждениях о человеческом волении представлено, что может пережить человек в своих поступках, чтобы посредством этого переживания прийти к сознанию: мое воление свободно. Особенно важно здесь то, что право называть воление свободным достигается посредством переживания: в волении осуществляется идеальная интуиция. Это может быть только результатом наблюдения, но оно и есть таковой результат в том смысле, в каком человеческое воление наблюдает себя в ходе развития, цель которого заключается в достижении такой обусловленной чисто идеальной интуицией возможности воления. Последняя может быть достигнута в силу того, что в идеальной интуиции не действует ничего, кроме ее собственной, на себе самой основанной сущности. Когда в человеческом сознании присутствует такая интуиция, она развивается не из процессов организма (см. стр. 582), но органическая деятельность отодвигается на задний план, чтобы очистить место идеальной. Если я наблюдаю воление, являющееся отображением интуиции, то из этого воления устранена органически необходимая деятельность. Такое воление свободно. Эту свободу воления не сможет наблюдать тот, кто не в состоянии узреть, каким образом свободное воление состоит в том, что интуитивным элементом прежде всего ослабляется, оттесняется необходимая деятельность человеческого организма и ее место заполняет духовная деятельность пронизанной идеей воли. Только тот, кто не в состоянии осуществить это наблюдение двучленное свободного воления, верит в несвободу всякого волення. Кто может осуществить его, тот достигает прозрения, что человек несвободен постольку, поскольку он не может довести до конца процесс оттеснения органической деятельности, но что эта несвобода стремится к свободе, а последняя представляет собой отнюдь не какой-то абстрактный идеал, но заложенную в человеческом существе направляющую силу. Человек свободен в той мере, в какой он в состоянии осуществлять в своем волении тот душевный строй, который живет в нем, когда он осознает образование чисто идеальных (духовных) интуиции.
XIII. ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ (ПЕССИМИЗМ И ОПТИМИЗМ)
Вопросу о цели или назначении жизни (ср. стр. 614) соответствует другой вопрос – о ее ценности. Мы встречаемся в этом отношении с двумя противоположными воззрениями, а в промежутке между ними – со всеми мыслимыми попытками примирения. Одно из этих воззрений гласит: наш мир – наилучший из мыслимых и возможных миров, а жизнь и деятельность в нем – неоценимейшее из благ. Все в нем предстает гармоничным и целесообразным взаимодействием и достойно изумления. Даже кажущееся злым и скверным познается с высшей точки зрения как добро, ибо являет благотворную противоположность добра; мы тем лучше можем оценивать последнее, когда оно выделяется на первом. Зло не есть нечто доподлинно действительное; мы ощущаем как зло только меньшую степень блага. Зло есть отсутствие добра, а не что-нибудь такое, что имело бы значение само по себе.
Другое воззрение утверждает: жизнь полна мучений и бедствий, страдание повсюду перевешивает удовольствие, горе превозмогает радость. Бытие – это бремя, и небытие следовало бы при всех обстоятельствах предпочесть бытию.
Главными представителями первого воззрения, оптимизма, надлежит считать Шсфтсбери и Лейбница, а второго, пессимизма, – Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана.
По мнению Лейбница, этот мир есть лучший из миров. Лучше его не может быть. Ибо Бог добр и мудр. Добрый Бог хочет сотворить лучший из миров; мудрый знает его; он может отличить его от всех других и худших. Только злой или немудрый Бог был бы способен сотворить худший мир, чем наилучший из возможных.
Кто исходит из этой точки зрения, тот с легкостью может предначертать человеческой деятельности направление, которое она должна принять, чтобы внести свою лепту во благо мира. Человеку надлежит лишь разузнать решения Бога и вести себя сообразно с ними. Если он знает, каковы намерения Бога относительно мира и человеческого рода, то и поступки его окажутся верными. И он будет чувствовать себя счастливым оттого, что может присовокупить к прочему добру еще и свое. Итак, с оптимистической точки зрения жизнь достойна жизни. Она должна побуждать нас к участию в ней и содействию ей.
Иначе представляет себе дело Шопенгауэр: Он мыслит себе мировую основу не как всемудрое и всеблагое Существо, а как слепой порыв, или волю. Вечное стремление, непрестанная жажда удовлетворения, которое никогда не может быть достигнуто, – вот основная черта всякого воления. Ибо стоит лишь достигнуть какой-либо желанной цели, как тотчас же возникает новая потребность и т. д. Удовлетворение может всегда иметь лишь ничтожно малую длительность. Все остальное содержание нашей жизни есть неудовлетворенное тяготение, т. е. недовольство, страдание. Если слепой порыв наконец притупляется, то мы лишаемся всяческого содержания; бесконечная скука наполняет наше существование. Поэтому относительно лучшим является подавление в себе желаний и потребностей, убийство воления. Шопенгауэровский пессимизм ведет к бездеятельности, его нравственная цель – универсальная лень.
Существенно иначе пытается обосновать пессимизм и использовать его для этики Гартман. Следуя излюбленному стремлению нашего времени, Гартман пытается обосновать свое мировоззрение на опыте. Из наблюдения жизни хочет он получить ответ на вопрос, что перевешивает в мире – удовольствие или страдание. Он устраивает перед разумом смотр всему, что является людям как добро и как счастье, чтобы показать, что все мнимое удовлетворение при более точном рассмотрении оказывается иллюзией. Иллюзия – когда мы верим, что в здоровье, юности, свободе, обеспеченном существовании, любви (половом наслаждении), сострадании, дружбе и семейной жизни, чувстве чести, почете, славе, господстве, религиозном назидании, занятиях наукой и искусством, уповании на потустороннюю жизнь, участии в культурном прогрессе, – что во всем этом мы имеем источники счастья и удовлетворения. При трезвом рассмотрении каждое наслаждение приносит в мир гораздо больше зла и несчастья, чем удовольствия. Неприятность похмелья всегда больше, чем приятность опьянения. Страдание значительно перевешивает в мире. Ни один человек, даже относительно счастливейший, если спросить его об этом, не согласился бы второй раз прожить эту убогую жизнь. Поскольку, однако, Гартман не отрицает присутствия в мире идеального элемента (мудрости) и даже признает за ним одинаковое право наряду со слепым порывом (волею), то он может предположить за своим Первосуществом сотворение мира только с той целью, что страдание мира должно быть приведено им к мудрой мировой цели. Но страдание существ, заселяющих мир, есть не что иное, как страдание самого Бога, ибо жизнь мира в целом тождественна с жизнью Бога. Всемудрое же Существо может видеть свою цель только в избавлении от страдания, а так как всякое бытие есть страдание, то – и в избавлении от бытия. Препровождение бытия в гораздо лучшее небытие – вот цель сотворения мира. Мировой процесс есть постоянная борьба против страдания Бога, которая завершится наконец уничтожением всякого бытия. Итак, участие в уничтожении бытия – вот в чем состоит нравственная жизнь человека. Бог сотворил мир, чтобы избавиться через него от своего бесконечного страдания. Мир «надо в некотором смысле рассматривать как зудящую сыпь на абсолютном», посредством которой бессознательная целительная сила последнего освобождает себя от внутренней болезни, «или же как болезненный вытяжной пластырь, который накладывает на себя всеедпное Существо, чтобы извлечь сначала наружу внутреннюю болезнь, а затем и совсем устранить ее». Люди суть члены мира. В них страдает Бог. Он их сотворил, чтобы раздробить свое бесконечное страдание. Боль, которой страдает каждый отдельный из нас, это только капля в бесконечном море божественной боли (Гартман, «Феноменология нравственного сознания»).
Человек должен проникнуться сознанием того, что погоня за индивидуальным удовлетворением (эгоизм) есть безумие, и должен руководствоваться единственной задачей: посвятить себя – путем бескорыстной самоотдачи мировому процессу – избавлению Бога. В противоположность шопенгауэровскому пессимизм Гартмана ведет нас к самоотверженной деятельности во исполнение возвышенной задачи.
Но как обстоит дело с обоснованием этих взглядов на опыте?
Стремление к удовлетворению – это порыв жизненной деятельности выйти за пределы своего жизненного содержания. Существо голодно, т. е. оно стремится к насыщению, когда его органические функции требуют для своего дальнейшего функционирования притока нового жизненного содержания в форме пищи. Стремление к почету состоит в том, что человек считает свою личную деятельность значимой только тогда, когда к ней присоединяется признание извне. Стремление к познанию возникает тогда, когда для человека в мире, который он может видеть, слышать и т. д., чего-то недостает до тех пор, пока он его не понял. Исполнение стремления вызывает в стремящемся индивидууме удовольствие, неудовлетворение – страдание. При этом важно наблюдать, что удовольствие и страдание зависят лишь от исполнения или неисполнения моего стремления. Само стремление ни в коем случае не может считаться страданием. Поэтому если выясняется, что в момент исполнения стремления тотчас же возникает новое, то я не вправе утверждать, что удовольствие породило для меня страдание, ибо при всех обстоятельствах наслаждение оборачивается желанием его повторения или получения нового удовольствия. Лишь когда это желание наталкивается на невозможность его исполнения, я могу говорить о страдании. Даже и в том случае, когда пережитое наслаждение вызывает во мне требование большего или более утонченного переживания удовольствия, я могу говорить о вызванном благодаря первому удовольствию страдании только в тот момент, когда у меня нет средств пережить большее или более утонченное удовольствие. Только когда страдание наступает в форме естественного последствия наслаждения, как, например, при половом наслаждении у женщины, влекущем за собой муки родов и труд ухода за детьми, я могу находить в наслаждении источник страдания. Если бы само стремление вызывало страдание, то устранение стремления должно было бы сопровождаться удовольствием. На деле же имеет место обратное. Отсутствие стремления в нашем жизненном содержании порождает скуку, а скука связана со страданием. Но так как стремление может естественно длиться долго, пока не наступит его исполнение, а до тех пор принуждено довольствоваться надеждой на него, то надо признать, что страдание не имеет ничего общего со стремлением как таковым, но зависит исключительно от неисполнения его. Итак, Шопенгауэр при всех обстоятельствах не прав, когда считает желание или стремление (волю) само по себе источником страдания.
В действительности же верно даже как раз обратное. Стремление (желание) само по себе причиняет радость. Кто не испытывал наслаждения, доставляемого надеждой на осуществление отдаленной, но сильно желанной цели? Эта радость сопровождает работу, плоды которой достанутся нам только в будущем. Такое удовольствие совершенно не зависит от достижения цели. Когда затем цель бывает достигнута, тогда к удовольствию, испытываемому от стремления, присоединяется удовольствие от исполнения как что-то новое. Но если бы кому-нибудь вздумалось сказать, что к неудовольствию от несбывшейся цели присоединяется еще и неудовольствие от обманутой надежды и делает в конечном счете неудовольствие от неисполнения большим, чем возможное удовольствие от исполнения, то ему следовало бы возразить, что на деле возможно и обратное: ретроспективный взгляд на наслаждение, испытанное, когда желание было еще далеко от исполнения, нередко действует успокаивающе на неудовольствие, причиненное неисполнением. Кто в момент крушения надежд восклицает: я сделал все, что в моих силах! – тот объективно доказывает на себе правоту этого утверждения.
Упоительное чувство того, что ты посильно старался сделать возможное, ускользает от внимания тех, кто сопровождает каждое несбывшееся желание утверждением, будто несостоявшейся оказалась не только радость от его исполнения, но разрушено и само наслаждение желания.
Исполнение желания вызывает удовольствие, а неисполнение – страдание. Отсюда нельзя заключить, что удовольствие есть удовлетворение желания, а страдание – неудовлетворение его. Как удовольствие, так и страдание могут возникнуть в каком-нибудь существе, не будучи вовсе следствием известного желания. Болезнь есть страдание, которому не предшествует никакого желания. Если бы кто-нибудь вздумал утверждать, что болезнь – это неудовлетворенное желание здоровья, то он совершил бы ошибку, приняв само собой разумеющееся и не доведенное до сознания пожелание не заболеть за положительное желание. Когда кто-нибудь получает наследство от богатого родственника, о существовании которого он не имел ни малейшего понятия, то этот факт наполняет его удовольствием без предшествовавшего желания.
Итак, тот, кто вознамерился бы исследовать, на чьей стороне перевес в тяжбе удовольствия и страдания, тому следовало бы принять в расчет как удовольствие от самого желания и от исполнения желания, так и удовольствие, выпадающее нам без того, чтобы мы его домогались. А на другой странице книги счетов будут фигурировать: страдание от скуки, от неисполненного стремления и, наконец, то, которое настигает нас без всякого желания. К последнему роду принадлежит также страдание, причиняемое нам навязанной, не нами самими выбранной работой.
Теперь возникает вопрос: как найти верное средство, чтобы вывести из этого дебета и кредита баланс? Эдуард фон Гартман придерживается мнения, что этого можно достичь взвешенной силой нашей рассудительности. Правда, он говорит («Философия бессознательного», 7-е изд., т. 2): «Страдание и удовольствие существуют лишь в той мере, в какой они ощущаются». Отсюда следует, что для удовольствия нет иного мерила, кроме субъективного мерила чувства. Я должен ощутить, дает ли во мне сумма моих чувств неудовольствия, сопоставленная с моими чувствами удовольствия, перевес радости или же страдания. Несмотря на это, Гартман утверждает: «Если… ценность жизни каждого существа может быть измерена только по его собственной субъективной мерке… то этим отнюдь еще не сказано, что каждое существо извлекает из всех эмоций своей жизни правильную алгебраическую сумму или, другими словами, что его общее суждение о своей собственной жизни правильно по отношению к его субъективным переживаниям». Но тем самым рассудительная оценка чувствования вновь становится мерилом его ценности*. (* Кто намерен вычислить, перевешивает ли общая сумма удовольствий или же неудовольствий, тот как раз упускает из виду, что он подсчитывает нечто такое, что нигде не переживается. Чувство не знает счета, и для действительной опенки жизни важно действительное переживание, а не результат вымышленного счета.)
Кто более или менее точно примыкает к системе представлений таких мыслителей, как Эдуард фон Гартман, тому может показаться, что, для того чтобы прийти к правильной оценке жизни, следует устранить факторы, искажающие наше суждение о балансе удовольствий и страданий. Он может попытаться достичь этого двумя путями. Во-первых, если он станет доказывать, что наше желание (влечение, воля) вторгается в качестве помехи в нашу трезвую оценку значимости чувства. Мы должны были бы, например, сказать себе, что половое наслаждение является источником зла; но то обстоятельство, что половое влечение в нас так властно, соблазняет нас к тому, чтобы разыгрывать перед собой удовольствие, которого в такой мере вовсе не существует. Мы хотим наслаждаться; оттого мы не признаемся себе, что страдаем от наслаждения. Во-вторых, если он начнет критиковать чувства и попытается доказать, что предметы, с которыми связаны чувства, оказываются иллюзиями перед лицом разумного познания и что они разрушаются в тот момент, когда постоянно растущая сила нашего ума прозревает эти иллюзии.
Он может представить себе ситуацию следующим образом: если какой-то честолюбец собирается выяснить, преобладало ли в его жизни до того момента, как он начал размышлять об этом, удовольствие или страдание, то ему следует избавиться в своей оценке от двух источников ошибок. Поскольку он честолюбив, то эта основная черта его характера явит ему радости, испытанные им вследствие признания его заслуг, через увеличительное стекло, обиды же, причиненные ему оттеснением его на задний план, через уменьшительное. Когда он испытывал пренебрежение к себе, он чувствовал обиду именно оттого, что был честолюбив; в воспоминании эти обиды предстают ему в смягченном свете, но тем глубже запечатлеваются в нем радости из-за признаний, к которым он так падок. Для честолюбца, конечно, является настоящим благодеянием то, что дело обстоит именно так. Иллюзия ослабляет испытываемое им чувство неудовольствия в момент самонаблюдения. Тем не менее его оценка неверна. Страдания, предстающие ему теперь под неким покровом, ему действительно пришлось испытать во всей их силе, и таким образом, он фактически неверно заносит их в книгу счетов своей жизни. Чтобы прийти к правильному суждению, честолюбцу пришлось бы в момент наблюдения избавиться от своего честолюбия. Он должен был бы рассматривать своим духовным взором собственную протекшую до этого момента жизнь без всяческих линз. Иначе он уподобится купцу, который при подведении заключительного баланса своих счетов вписал бы себе в актив свое деловое усердие. Но приверженец означенной выше точки зрения может пойти еще дальше. Он может сказать: честолюбец уяснит себе в конце концов, что признание, за которым он гонится, есть вещь, не имеющая ценности. Он сам придет к пониманию или будет приведен к нему другими, что для разумного человека не может быть никакого толку в людском признании, ибо поистине «относительно всех тех вещей, которые не являются жизненными вопросами развития или уже окончательно решенными наукой», всегда можно поручиться, «что большинство бывает не право, а право меньшинство». «Такому суждению препоручает счастье своей жизни тот, кто делает честолюбие своей путеводной звездой» («Философия бессознательного», т. 2). Когда честолюбец скажет себе все это, он должен будет признать иллюзией то, что его честолюбие являло ему как действительность, следовательно, также и чувства, связанные с соответствующими иллюзиями его честолюбия. На этом основании можно было бы сказать: со счета ценностей жизни должно быть скинуто также и то, что в чувствах удовольствия проистекает из иллюзий; остаток представляет тогда собой свободную от иллюзий сумму жизненных удовольствий, и эта сумма так мала по сравнению с суммой страданий, что жизнь перестает казаться наслаждением, а небытие следует предпочесть бытию.
Но между тем как совершенно очевидным является то, что вызванное вмешательством честолюбивого влечения заблуждение приводит при установлении баланса удовольствия к ложному результату, сказанное о познании иллюзорного характера предметов удовольствия выглядит тем не менее весьма спорным. Выделение из баланса жизненных удовольствий всех связанных с действительными или мнимыми иллюзиями чувств удовольствия попросту исказило бы его. Ибо честолюбец действительно испытывает радость, когда его признает толпа, безотносительно к тому, сочтет ли впоследствии он сам или кто-нибудь другой это признание иллюзией. Испробованное радостное ощущение нисколько не становится от этого меньше. Исключение всех подобных «иллюзорных» чувств из жизненного баланса не только не делает правильным наше суждение о чувствах, но вычеркивает из жизни действительно имеющиеся налицо чувства.
И отчего бы в самом деле этим чувствам быть исключенными? Тому, кто их имеет, они доставляют удовольствие; кто их преодолел, у того в силу переживания этого преодоления (не вследствие самодовольного ощущения: вот, мол, какой я человек! – а из объективных источников удовольствия, лежащих в преодолении) наступает хоть и одухотворенное, но от этого ничуть не менее значительное удовольствие. Когда из баланса удовольствий вычеркиваются некоторые чувства, поскольку они связаны с предметами, разоблаченными как иллюзии, то при этом ценность жизни делается зависимой не от количества удовольствий, а от их качества, а это последнее – от ценности причиняющих удовольствие вещей. Но если я хочу определить ценность жизни по количеству удовольствий или страданий, которые она мне приносит, то я не вправе вводить сюда еще и другую предпосылку, с помощью которой я определяю в свою очередь ценность или никчемность удовольствий. Когда я говорю: я хочу сравнить количество удовольствий с количеством страданий и посмотреть, которое из них больше, то мне следует учесть все удовольствия и страдания сообразно их реальным величинам совершенно независимо от того, лежит ли в основе их иллюзия или нет. Кто приписывает удовольствию, основанному на иллюзии, меньшую ценность для жизни, чем удовольствию, оправдываемому разумом, тот делает ценность жизни зависимой и от других факторов, кроме удовольствия.