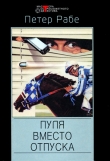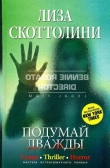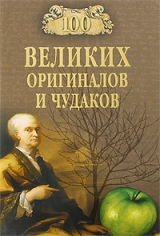
Текст книги "100 великих оригиналов и чудаков"
Автор книги: Рудольф Баландин
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
А. Н. Кручёных
Перед Первой мировой войной в русской литературе, словно в предчувствии великих потрясений, началось брожение умов. Литературные объединения со своими манифестами появлялись беспрестанно, вскоре лопаясь, как пузыри на воде в дождь.
Это была, отчасти под влиянием западных авангардистов, культурная революция, предвосхитившая революцию социальную, которая в феврале—марте и октябре—ноябре (гоголевское «мартобря») была – в два этапа – не буржуазной и не социалистической, а самой настоящей анархической.
В стремлении ускорить ход времени, до срока ворваться в будущее, революционеры от культуры предлагали «отрешиться от старого мира», а заодно и «сбросить Пушкина с корабля современности». Груз прошлого, как считали эти молодые люди, не даёт рвануться вперёд. Вот и показывали они «Кукиш прошлякам». Так называлось небольшое сочинение одного из них, названного поэтом Геннадием Айги «Неизвестнейшим из знаменитейших». Он был другом и отчасти наставником Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова.
Валентин Катаев в книге воспоминаний «Алмазный мой венец» написал о нём:
«Левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, вьюн по природе, автор легендарной строчки „Дыр, бул, щыл“. Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых.
Вьюн – так мы его будем называть – промышлял перекупкой книг, мелкой картёжной игрой, собирал автографы никому не известных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал своим пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи, притом приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кривлялся своим острым лицом мальчика-старичка…
Он весь был как бы заряжён неким отрицательным током антипоэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии.
По сравнению с ним сам великий Будетлянин иногда казался несколько устаревшим, а Командор просто архаичным». (Здесь Будетлянин – Велимир Хлебников, а Командор – Владимир Маяковский.)
…Сейчас, когда я пишу о том времени, начинаю воспринимать себя каким-то ископаемым чудищем, чудесным образом дотянувшим до наших дней. А ведь ещё не стар, хотя был мимолётно знаком и с этим «Неизвестнейшим», и с другом В. И. Вернадского Б. Л. Дичковым. Прошлые эпохи не уходят безвозвратно, а в разных обликах и формах, в памяти людей присутствуют в настоящем.
Итак, автором «Кукиша…» был человек с вполне подходившей ему фамилией: Алексей Елисеевич Кручёных (1886–1968). Он действительно закручивал круто. Писал (уже после революции):
«Мы дали предельно-резкую словесную гамму. Раньше было так:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел…
Здесь окраску даёт бескровное пе… пе… Как картины писанные кисилем и молоком, нас не удовлетворяют и стихи, построенные на
па—па—па
пи—пи—пи
ти—ти—ти и т. п.
Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок,
А вот образец иного звуко– и словосочетания:
дыр бул щыл
убещур
скум
вы со бу
р л эз
(кстати, в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина)
не безголосая томная сливочная тянучка поэзии (пасьянс… пастила…) а грозная баячь, будалый будала…».
Здесь приведено всё так, как в его тексте. Такое впечатление, что он, подобно младенцу, пытался говорить на одном ему понятном языке, выпевая причудливые звукосочетания.
Странные бывали у него псевдонимы. Например: «Зудахарь А. Круч.» или «Зудийца А. Круч.». А назудачил он, в частности, зудотворение «Отрава», начинающееся так:
Злюстра зияет над графом заиндивелым
Мороз его задымил,
ВЗ-З-Знуздал!!
Гудит земля, зудит земля…
Зудозем… зудозем…
Ребячий и щенячий пупок дискантно вопит:
У-а-а! У-а-а!.. а!..
Собаки в санях сутулятся
И тысяча беспроволочных зертей
И одна вецьма под забором плачут:
ЗА-ХА-ХА-ХА! а-а!
За-хе-хе-хе! – е!
ПА-ПА-А-ЛСЯ!!!
Читаешь такие стихи, и невольно подумаешь: а не всем ли нам, читателям, показывал Алексей Кручёных кукиш? Не потешался ли над нами? А может быть – над самим Словом?!
Как вспоминал писатель Анатолий Мариенгоф, Сергей Есенин одному из своих друзей «писал дурашливые письма с такими стихами Кручёных:
Утомилась, долго бегая,
Моя вороха пелёнок,
Слышит: кто-то, как цыплёнок.
Тонко, жалобно пищит:
„Пить, пить“.
Прислонивши локоток,
Видит: в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок».
Тем не менее Есенин воспринимал творчество Кручёных с иронией, а то и насмешливо. Действительно, их поэтические дарования несопоставимы. Сергей Есенин писал без выкрутас, которые для подлинной поэзии не только излишни, но и вредны.
…Прошу прощения за личные воспоминания. В конце 1967 года от одной из сотрудниц я случайно узнал, что её сосед по квартире – Алексей Кручёных. Она предложила мне встретиться с ним, предупредив, чтобы я не заводил разговор о творчестве Гоголя, которое он прекрасно знает.
На меня Алексей Елисеевич не произвёл впечатления чудака с безуминкой в глазах. У него было как бы пергаментное лицо с тонкими чертами, длинные пальцы рук профессионального пианиста или карточного шулера. Он был похож на бывшего учителя гимназии. Несмотря на преклонный возраст, рассуждал просто и здраво, сообщил, что в молодости интересовался детскими рисунками. Высоко оценил недавно вышедшую книжку Юрия Олеши «Ни дня без строчки».
Тут я не выдержал и вставил: мол, это название использовал Гоголь в своей гимназической тетрадке. Кручёных удивился и признался, что не знал этого. (Позже я выяснил, что гимназист Гоголь в данном случае воспользовался выражением времён Античности.)
Кручёных подарил мне свою брошюру: «На борьбу с хулиганством в литературе» (1926). В ней он ополчается на «есененщину» (кстати, попенял Мариенгофу, что приведённый выше стих опубликовал без указания автора; и у Кручёных не «пищит», а «пищить»).
Против «есененщины» выступал он вполне здраво. Что ни говори, а после страшной Гражданской войны, во время НЭПа хулиганство стало не только привычным делом, но и модой. Как писал Кручёных: «Имажинизм тихо и уныло скончался, оставив после себя неприятные следы разбитых носов и пивных бутылок, или выродился в откровенную идеологию поножовщины, чубаровщины и хулиганства».
Владимир Маяковский по-разному отзывался о творчестве Алексея Елисеевича. В статье «Как делать стихи» возмущался «дурно пахнущими книжонками Кручёных, который обучает Есенина политграмоте так, как будто сам Кручёных всю жизнь провёл на каторге, страдая за свободу, и ему большого труда стоит написать шесть (!) книжечек об Есенине рукой, с которой ещё не стёрлась полоса от гремящих кандалов».
Но там же Маяковский отметил: «Стихи Кручёных: аллитерация, диссонанс, целевая установка – помощь грядущим поэтам».
Говорят, Кручёных неплохо играл в карты (естественно, на деньги), обыгрывая, в частности, Маяковского. Некоторые футуристы, которые были не прочь вслед за Кручёных, Давидом Бурлюком, Хлебниковым и Маяковским влепить «Пощёчину общественному вкусу» (название сборника), полагали, что делать это следует не так резко. Особенно сильно раздражал Алексей Кручёных.
Он выдумывал головоломную, одному ему ведомую звукопись «заумного» языка. Утверждал: «Мысль и реч (именно так, без смягчающего знака. – Р.Б.) не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определённого значения (не застывшим) заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег кайд и т. д.)».
Выражение «го оснег кайд» – понятно для него, автора. А для читателя? Что в этом выражении заумного? Трудно сказать. Кому-то может показаться по-другому: не за-, а недо– или безумное. Да и при чём тут ум? Сочетание звуков может передать эмоцию, но не мысль. Тут впору вспомнить завершение стихотворения Николая Заболоцкого «Снежный человек»:
Там, наверно, горного оленя
Он свежует около ключа
И из слов одни местоименья
Произносит, громко хохоча.
Надо отдать должное смелости Алексея Елисеевича: он порой рисковал получить от слушателей аплодисменты… по собственным щекам. Вот как описала его выступление газета «Русское слово» от 15 октября 1913 года:
«Кручёных прочёл два доклада. Усевшись на дырявом кресле спиной к публике, он потребовал чаю. Выпил стакан, остатки выплеснул на стену и, заявив: „Так я плюю на низкую чернь“ – удалился. Публика посмеялась. Второй доклад г. Кручёных был, к сожалению, гораздо многословнее. Резюмировать его можно кратко: „Темна вода в облацех?“».
Дело было в Москве на Большой Дмитровке в помещении Общества любителей художеств (не потому ли Кручёных выкинул такое коленце?) на «Первом вечере речетворцев». Выступление Кручёных Лифшиц вспоминал на свой лад: «Только звание безумца, которое из метафоры постепенно превратилось в постоянную графу будетлянского паспорта, могло позволить Кручёных, без риска быть искрошенным на мелкие части… выплеснуть в первый ряд стакан горячего чаю, пропищав, что „наши хвосты расцвечены в жёлтое“ и что он, в противоположность „неузнанным розовым мертвецам, летит к Америкам, так как забыл повеситься“. Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие».
Насчёт выплеснутого в публику стакана горячего чаю Лифшиц, безусловно, солгал ради красного словца. За такое «художество» тотчас последовала бы расплата. А всё завершилось рукоплесканиями, а не рукоприкладством. Даже кто-то из выступавших (по Лифшицу – Кручёных) огорчился, ибо «сладострастно жаждал быть освистанным».
Алексей Елисеевич в своих неопубликованных воспоминаниях пояснил происходившее вполне резонно: «Конечно, мы били на определённую реакцию аудитории. Мы старались запомниться слушателям».
Поэт Вадим Шершеневич писал (приблизительно в 1935 году):
«Примечательной фигурой в ватаге первых футуристов был Кручёных.
Как странна судьба человека! Кручёных, который отрицал долго и упорно прошлую культуру, отрицал её не тактически, а всем существом, теперь усиленный библиофил. Всегда в его портфеле редкие книги.
Маленький человек с украинским акцентом, Кручёных был всегда очень трезв в жизни и сумасшедш в стихах. Он создал целую теорию заумного языка. Осуществлял её неуклонно и занятно.
Кручёных был крайним „левым флангом“ футуризма. Был неистощим на книги… Это поэт и критик, вернее, публицист, весь жар которого немного остынет, если его писания собрать в толстый том. Книги Кручёных должны быть маленькими, так как каждая из них написана одним росчерком пера.
Говорят, что во время империалистической войны, не желая быть мобилизованным. Кручёных пару лет провёл в вагоне железных дорог, не желая нигде осесть.
В поэзии Кручёных фигура занятная и недостаточно освоенная».
Что значит «недостаточно освоенная»? Можно ли вообще осваивать А. Кручёных? Кому? Зачем? Как?
На эти вопросы ответило время. Вот небольшой сборник «Трое»: В. Хлебников, А. Кручёных, Е. Гуро, оформление К. Малевича. Из них два имени сохранились (Хлебников, Малевич), а два оставшихся известны лишь узкому кругу специалистов. Так распорядилась судьба.
М. М. Зощенко
К известному ленинградскому врачу явился пациент с жалобой на отсутствие аппетита, апатию, приступы безотчётной тоски, меланхолии. Врач, не обнаружив у него признаков психической болезни и узнав, что химические лекарства не помогают, посоветовал:
– Рекомендую три раза в день, перед завтраком, обедом и ужином читать по одному рассказу Михаила Зощенко.
– Увы, мне это не поможет, – ответил пациент. – Я и есть Зощенко.
Этот анекдот похож на правду. Действительно, у замечательного писателя, которого публика воспринимала как весельчака и смехотворца, со временем стали проявляться признаки нервного расстройства.
«Чем ближе я знакомился с Михаилом Михайловичем, – вспоминал Е. Л. Шварц, – тем больше уважал его, но вместе с тем отчётливо видел в нём нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа».
О преодолении своего недуга Зощенко написал в оригинальном научно-художественном исследовании «Перед восходом солнца» (подзаголовком могло бы стать признание автора: «Как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым»). Оно было опубликовано в журнале «Звезда» в 1943 году и заслуживает внимания, потому что явилось оригинальным даже для этого оригинального писателя.
Зощенко признался, что ещё с юности испытывал приступы хандры и тоски («Я был несчастен, не зная почему»). В Первую мировую войну на фронте он почувствовал облегчение, но затем душевный недуг стал накатываться с новой силой. По совету врачей писатель лечился пилюлями, водами, разными процедурами. Не помогли курорты и санатории. Причина болезни крылась в каких-то событиях собственной жизни. Михаил Михайлович вспоминал случаи, вызвавшие у него сильные переживания. Но пёстрая мозаика историй не складывалась в единую картину.
Обратившись к трудам учёных, он пытался понять тайны глубин сознания, куда не проникает свет разума. Узнал, что существует рефлекс – «своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребёнок получает извне. Эта реакция, этот ответ и является защитой организма от опасностей… Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освящённый тысячелетиями, охраняет маленькое существо».
От первого знакомства с окружающим миром, когда у ребёнка складываются и закрепляются рефлекторные связи, во многом зависят особенности психики взрослого человека. А проникнуть в далёкий забытый мир детства помогают сновидения.
Однажды писатель увидел во сне тигров и руку, тянущуюся из стены. Рассказал о кошмаре врачу. И услышал ответ: «Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука – это хобот. Хобот – это фаллос. У вас сексуальная травма». Таково было толкование сновидения по Зигмунду Фрейду, и врач следовал именно ему: «В каждом поступке ребёнка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон расшифровывал как сон эротомана».
Михаилу Михайловичу подобный подход к психике здорового человека показался сомнительным. Фрейд видел источник нервных страданий в столкновении атавистических влечений с чувством культурного человека. Вытесненные в глубины подсознания, они прорываются в сферу разума, вызывая душевные болезни.
Н. А. Заболоцкий
Николай Заболоцкий (1903–1958) был человеком странным, но не чудаковатым. Никогда он не изображал себя «поэтической натурой» или мыслителем, утомлённым многознанием. Полагал: «каждое слово… является носителем определённого смысла… „Дыр бул щыл“ – слова порядка зауми, они смысла не имеют».
Александр Введенский – один из ленинградских «заумников», любивших эпатаж, – написал на него эпиграмму:
Скажи, зачем ты, дьявол,
Живёшь, как готтентот.
Ужель не знаешь правил,
Как жить наоборот.
Он вместе с Заболоцким вошёл в литературную группу ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства), призывавшую к культурной революции, подрывающей «старое искусство до самых корней». Этот «подрыв» они выражали, в частности, чисто внешне, стараясь оригинальничать в одежде, поступках. Этого Заболоцкий не одобрял и «жить наоборот» не старался. А не чудить там, где чудачества поощряются, – явная оригинальность.
Впрочем, по свидетельству драматурга Евгения Шварца, когда обэриуты постриглись под машинку, Заболоцкий отчитал их за столь нелепый поступок. Мол, стрижка портит волосы. Священники и женщины не стригутся, а лысеют редко. Стрижка – школьный предрассудок… Но через несколько дней сам пришёл в редакцию стриженный наголо.
Как вспоминал Шварц: «Он имел отчётливо сформулированные убеждения о стихах, о женщинах, о том, как следует жить». И был исполнен «не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал». Одно из его загадочных утверждений: «Женщины не могут любить цветы».
Как это понимать? Желание поразить парадоксом? Ведь известно, с какой радостью принимают женщины цветы, как восхищаются их формой, ароматом… Хотя, если подумать, почти всегда это относится к сорванным, а значит, лишённым жизни цветам, а не к растущим на свободе. Значит, сказывается не столько любовь к цветам, сколько – к украшениям, своим удовольствиям, прихотям.
В апреле 1941 года Заболоцкий писал жене: «Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа». А ещё через три года: «Когда после работы выходишь из этих прокуренных комнат и когда сладкий воздух весны пахнёт в лицо – так захочется жить, работать, писать, общаться с культурными людьми. И уже ничего не страшно: у ног природы и счастье, и покой, и мысль».
Самое удивительное: написано это – из «исправительно-трудового лагеря», из заключения, к тому же несправедливого, по лживому и подлому доносу.
Многие ли из нынешних, на кажущейся свободе, могут сказать так? Прочувствовать своё кровное родство с природой? Она теперь превращена в безликую «окружающую среду», которую предпочитают наблюдать из автомобиля или на фешенебельных курортах.
А ведь только природа способна одарить нас новыми мыслями и впечатлениями, радостью жизни и надеждой на бессмертие. Обо всём этом писал поэт в замечательных стихах.
У него проявлялся чудесный дар проникать мыслью в душу зверя или растения. Это было ошеломительно ново. Немногие смогли понять и по достоинству оценить его поэмы «Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья». Представьте, к примеру, такую картину:
Там кони, химии друзья,
Хлебали щи из ста молекул,
Иные, в воздухе вися,
Смотрели, кто с небес приехал.
Корова в формулах и лентах
Пекла пирог из элементов,
И перед нею в банке рос
Большой химический овёс.
Наглотавшись этой самой «химизации», мы не умиляемся её чудесам. Но для поэта сельское хозяйство – не способ изъятия силой у природы её богатств, а сотрудничество человека с животными и растениями, духовное единство и даже единомыслие. В его иронии – бездна потаённой мудрости:
Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки —
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поёт.
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведёт.
В его стихах – поразительное сочетание науки и поэзии. Такого сплава достигали очень немногие. А когда попытаешься проникнуть мысленно в глубинную суть предметов и явлений, постичь сокровенную тайну жизни и смерти, смысл своего пребывания в этом мире, то вновь придут на память слова поэта:
И боюсь я подумать,
Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды.
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моём.
Человек разумом своим, волей, действием способен преодолевать ограничения, предусмотренные природой, вырываться на волю. Как? Благодаря фантазии, мечтаниям, поэтическому воображению. А ещё – с помощью знаний и труда, используя законы мироздания для своих целей, покоряя земные стихии: «Мы, люди – хозяева этого мира, / Его мудрецы и его педагоги».
Он восхищался творческой мощью человека. Есть у него стихотворение «Творцы дорог». Сразу не поймёшь, что рассказано здесь о заключённом, о том времени, когда Заболоцкий как «политически неблагонадёжный», отбывал трудовую повинность, прежде испытав пытки, издевательства следователей и их пособников. Он едва не лишился рассудка. Но выдержал всё, не стал клеветником и доносчиком. Человек, не теряющий человеческого достоинства, – свободен, и свободу отнять у него можно только вместе с жизнью.
Истинная свобода – духовная. Её никогда не терял Заболоцкий. Она пронизывает его произведения. Подневольный – по воле судьбы – рабочий с лопатой, рядовой строитель дороги видит и слышит то, что недоступно «вольным» бездельникам:
Есть хор цветов, не уловимый ухом.
Концерт тюльпанов и квартет лилей.
Быть может, только бабочкам и мухам
Он слышен ночью посреди полей.
В такую ночь соперница лазурей,
Вся сопка дышит, звуками полна,
И тварь земная музыкальной бурей
До глубины души потрясена.
Это не прелестная идиллия. Сюда, в тайгу, врубились люди с аммоналом, экскаваторами, кирками:
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но всё, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится берёзам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Да, много человек «наломал дров», много нанёс незаживающих ран природе, искалечил и замусорил мир вокруг себя. И всё-таки он – великий творец (хотя, увы, творящий слишком много неразумного). А тому, кто приучен, как мышка, отсиживаться в норке или шмыгать только по хоженым-ухоженным тропкам:
Не дорогой ты шёл, а обочиной,
Не нашёл ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный.
Неизвестно, во имя чего.
Автор был профессионально знаком с медициной. В 1920 году 17-летним юношей он прибыл из Уржума в Москву и поступил на медицинский факультет университета. Выбор был определён соображениями физиологическими: медикам давали паёк с ежедневным фунтом хлеба.
По душевной склонности Николай Заболоцкий учился ещё и на историко-филологическом факультете. Вернее, пытался посещать два учебных заведения. Однако паёк приходилось отрабатывать всерьёз… Впрочем, трудности жизни никогда не пугали и даже, вроде бы, не огорчали поэта – он был выше этого.
Как вспоминал друг его юности М. Касьянов, Москва стала для Заболоцкого первым поэтическим университетом. Они по вечерам посещали театры, Политехнический музей, где проходили поэтические вечера, частенько сиживали в кафе поэтов. Однажды спускались в толпе по ступеням Политехнического. Рядом с ними двигался Маяковский, с триумфом прочитавший свою поэму «150 000 000». В толчее Владимир Владимирович наступил на ногу Касьянову. Николай воскликнул: «Миша, береги свою стопу! На ней печать гения! А ещё лучше, сдай её в музей».
Как знать, возможно, московская буйная, полуголодная, бесшабашная юность раскрепостила в Николае Заболоцком задатки юмориста и сатирика. Ведь по складу своего строгого характера и обстоятельного ума он более всего склонен был к философским размышлениям. А тут – и озорство, и философизмы, доведённые до абсурда. Так, обращаясь к своему другу, Николаю Степанову, он пишет «Похвальное слово о Колином телосложении», где буддийский «пуп мудрости», предмет созерцания, превращается в нечто грандиозное:
Наконец, в средине чрева,
Если скинешь ты тулуп,
Обнаружить может дева
Колоссально мощный пуп.
Это чудо мирозданья
У тебя, как котлован.
Там построить можно зданье —
Кафетерий и чулан.
Приказав служанке Софе
Торговать в твоём кафе,
Ты там будешь кушать кофе,
Развалившись на софе.
Мы к тебе туда на святки
Будем ездить из Москвы
И играть с тобою в прятки,
Прячась в заросли и рвы.
Будем баловаться с Софой,
У балкона сеять рожь…
Коля, будет катастрофой,
Коль постройки не начнёшь!
Подобные сочинения Заболоцкий в собрание своих стихотворений не включал. А ведь остроумие нередко является одним из проявлений мудрости – но без мудрёностей. Да и какая развёртывается фантасмагория: оказывается, в собственном пупе можно построить для себя здание, и откушивать там кофе, и в прятки играть с друзьями…
Как бы отнёсся Заболоцкий к нынешнему времени? К нашему обществу, перешедшему к реализации призыва «Обогащайтесь!»? На эти вопросы он ответил загодя. Поэт пережил подобный скоротечный этап истории СССР под названием НЭП – торжество буржуазных идеалов, спекуляции, алчности, безнравственности.
В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя
В бокале плавало окно…
Он показал картину «Вечерний бар», где «бедлам с цветами пополам», «рыдает пьяный толстопузик, / Другой кричит: Я – Иисусик / …К нему сирена подходила, / И вот, тарелки оседлав, / Бокалов бешеный конклав / Зажёгся, как паникадило». А после «жирные автомобили… легко откатывали прочь…»
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.
Но тут же иная картина:
Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре…
Вон бабка с неподвижным оком
Сидит на стуле одиноком…
И вновь – «отрепья масла, жир любви», а там в пьяном угаре вдруг пустятся в пляс безрукий и «слепая ведьма», исполнив «танец-козерог, / Да так, что затрещат стропила / И брызнут искры из-под ног!»
Бредовый мир: ополоумевшие люди, алкогольный дурман, истеричное веселье, скотское житьё… Но в этой круговерти есть и недвижная опора. «Стоят чиновные деревья… Они в решётках, под замком». И подстать им – ряды одеревенелых чиновников, подлинных хозяев этой нелепой жизни:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках…
О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!
Вот оно, неистребимое чиновное племя. Оно превращает мир в одну мышиную нору, оно требует себе всевозможных благ, оно плодится и размножается. Что делать? Ведь чиновник существует не сам по себе, он паразитирует в определённой благоприятной среде.
Заболоцкий, как натуралист, вглядывается в копошение этих существ, выясняя их экологию. Изучает новый быт, новый «народный дом», новую свадьбу. И видит во всём этом слишком много старого, замшелого, низменно-мещанского. Здесь царят самые непотребные материальные потребности, включающие непременно хмельное веселье:
И под железный гром гитары
Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
…Кто из нас не испытал на себе топотанье бешеных пар, гремящую музыку, от которой весь дом будто ходит ходуном. И люди нынче не те, и музыка другая, а что-то давнее неистребимо.
Эту безысходность прочувствовал и выразил Заболоцкий и на склоне дней, незадолго до смерти, в 1957 году. Ему довелось уже испытать годы лагеря и ссылки, возвращение в Москву, известность, лицемерное ниспровержение «культа личности», обещание скорого пришествия коммунизма… Но вновь и вновь с тревогой видел он всё ту же жажду власти и материальных благ, наглую суету новых хозяев жизни.
Свои мысли и чувства выразил он в небольшом стихотворении «Птичий двор». Тут радостно копошатся крикливые петухи, писклявые цыплята, визгливые индейки, важные утки, преисполненные гордости гуси. И не ведают, что имеют крылья и способны взвиться ввысь. Над ними бескрайнее небо…
А они, не веря в чудо,
Вечной заняты едой,
Ждут, безумные, покуда
Распростятся с головой.
Вечный гам и вечный топот,
Вечно глупый, важный вид.
Им, как видно, жизни опыт
Ничего не говорит.
Их сердца послушно бьются
По желанию людей,
И в душе не отдаются
Крики вольных лебедей.
Словно написано это для нас, нынешних. Но отметим и не сразу видимый подтекст. В сущности, каждый человек обязательно попадёт под нож или, если угодно, под косу смерти. Вот и надо бы задуматься о смысле жизни (или её бессмыслице?), о сути смерти, а главное о том, как жить?
…Казалось бы, пройдя трудный жизненный путь, Заболоцкий должен был или сетовать на судьбу, или желать покоя. Однако и то и другое было ему чуждо. Он жил в героическую и трагическую эпоху России. И не отделял свою личную судьбу от судьбы родины и народа. Именно это помогало ему достигать вершин не только поэтического ремесла (чему можно выучиться), но и высокой поэзии, одухотворённой вдохновением и озарённой разумом.