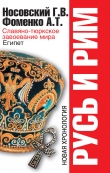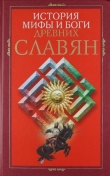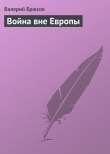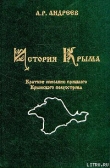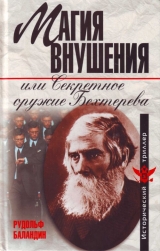
Текст книги "Магия внушения, или Секретное оружие Бехтерева"
Автор книги: Рудольф Баландин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Стадный инстинкт
То, что мы условно называем «стадным инстинктом», может при более внимательном анализе оказаться комплексом условных и безусловных рефлексов. Не исключено, что здесь проявляется нечто соответствующее «коллективной рефлексологии» В. М. Бехтерева (о ней еще пойдет речь).
Психологи давно обратили внимание на то, что состояние сознания у человека, находящегося в толпе, порой значительно изменяется, когда в массе пробуждаются сильные эмоции: воодушевление, восторг, скорбь, негодование, паника или смех, который тоже бывает заразительным.
Все это не просто механическое подражание. Возникает соответствующее настроение, изменяющее состояние сознания. Оно является наведенным, можно даже сказать, вынужденным, хотя сам человек не всегда это способен заметить, в особенности если он находится в хохочущей толпе.
О стадном инстинкте впервые упомянул немецкий ученый В. Троттер около ста лет назад. По его мнению, этот инстинкт относится к разряду первичных, основополагающих и дальнейшему разложению на отдельные составляющие не подлежит. 3. Фрейд постарался и в этом случае усмотреть первичность полового влечения.
«У ребенка, – отмечал он, – долгое время и незаметно никакого стадного инстинкта или массового чувства. Таковое образуется вначале в детской, где много детей…» При чем и в этом случае, по его мысли, ведущее место занимает чувство ревности, соперничества, которое приходится подавлять, вытесняя эту враждебную к окружающим установку чувством общности, отождествлением себя с другими.
Другой его пример: толпа восторженных поклонниц, осаждающая любимого артиста. Вместо взаимной ревности, вражды и соперничества, «они действуют как единая масса…они смогли отождествлять себя друг с другом из одинаковой любви к одному и тому же объекту». Однако толпа может быть столь же единодушной и в ненависти (суд Линча, самосуд), а также в горести или веселье.
Вспомним о древнегреческих мистериях и оргиях в честь бога Диониса, покровителя виноградарства и виноделия. «В шествии Диониса, – по словам А. Ф. Лосева, – носившем экстатический характер, участвовали вакханки, сатиры, менады… Опоясанные змеями, они все сокрушали на своем пути, охваченные священным безумием. С воплями «Вакх», «Эвое» они славили Диониса-Бромия («бурного», «шумного»), били в тимпаны, упиваясь кровью растерзанных диких зверей, высекая из земли своими тирсами мед и молоко, вырывая с корнем деревья и увлекая за собой толпы женщин и мужчин».
Считается, что происходили пьяные оргии. Не исключено, что в вино добавляли какое-нибудь наркотическое зелье. Пьяная толпа способна перейти в буйное состояние в результате «эмоционального резонанса» взаимного возбуждения. Безумие заразительно.
Но если уж речь зашла об инстинкте, обратим внимание на поведение животных, а не людей, психика которых во многом зависит от воспитания, а то и образования. Вот свидетельство французского биолога Реми Шовена, наблюдавшего миграцию личинок саранчи на Корсике: «Личинки, собиравшиеся в стаю, проявляют чудеса координации: все они ориентированы в строго определенном направлении; если одна из них прыгает, то все остальные подражают ей». С наступлением вечера вся эта масса расползается в разные стороны, но, как только начинает пригревать солнце, они собираются вместе и продолжают свое движение.
Такое перемещение в одном направлении, общее подскакивание проще и убедительней всего объяснить действием стадного инстинкта. Ведь личинок никто ничему не обучал. Ночью они расползаются, скорее всего, потому, что ориентируются главным образом с помощью зрения (когда им замазывали глаза, насекомые расползались в разные стороны). Но для направленной миграции огромных полчищ некоторых животных зрение не играет решающей роли.
Еще в III веке римский автор Клавдий Элин написал о многоножках, «занимающих невидное место в ряду животных», которые порой могут выгонять людей из их хижин, как это было в городе Ритиуме.
Во Франции в 1900 году грузовой состав, пересекавший лес и двигавшийся на подъем, вдруг забуксовал и начал катиться назад. Оказалось, рельсы сделались скользкими от огромного количества раздавленных многоножек, пересекавших путь.
В американском штате Западная Виргиния в 1818 году недалеко от города Литлтона несметные полчища многоножек стали выползать из леса, двигаясь на юго-запад. Это был сплошной движущийся ковер, вытеснивший скот с пастбищ и прогнавший людей с огородов. Общее число многоножек оценивалось в 65 миллионов.
«Хотя некоторые стороны этого явления еще не объяснены, массовые миграции многоножек, по-видимому, следуют за их интенсивным размножением и возникающей перенаселенностью». Такое суждение Дж. Клаудсли-Томпсона не затрагивает вопроса о причинах, побудивших многоножек двигаться более или менее организованными полчищами в одном направлении, невзирая ни на какие преграды и, в конце концов, находя себе смерть, а вовсе не пищевые плацдармы.
В подобной ситуации стратегия сообщества, ориентированного на поиски благоприятных территорий из-за возникшей перенаселенности, должна быть совершенно иной. Следовало бы двигаться в разных направлениях и рассеиваться. Тогда было бы значительно больше шансов для многих из них сохраниться и размножаться. Передвижение единой массой практически исключает такую возможность. Например, те миллионы американских многоножек, нами упомянутых, погибли у подножия крутого обрыва под палящими лучами солнца.
В некоторых случаях многоножки выстраиваются в длинную цепочку и следуют в таком порядке одна за одной, словно гигантская живая лента. (Сходным образом передвигаются по морскому дну лангусты.) Когда пересекаются пути таких «гусеничных поездов», начинается путаница, связи рвутся, но затем вновь восстанавливаются в новых порядках.
Создается впечатление, что для многих (хотя и не всех) видов животных, принадлежащих к разным классам, все– таки существует нечто подобное стадному инстинкту или коллективному бессознательному. Это чувство заставляет множество особей действовать как единое целое, как сверхорганизм.
И все-таки вряд ли допустимо говорить о каком-то всеобщем качестве животных. Ведь даже одни и те же виды саранчи или многоножек в одних случаях существуют разрозненно, а в других переходят в иное, измененное состояние… не сознания, конечно, а скажем так: предсознания.
Что происходит в таком случае? Смена стратегии индивидуального поведения и подчинение ее стратегии поведения коллективного, группового, общественного.
Мы уже говорили, что даже низшие животные под действием определенных веществ меняют свое поведение. Если паук не способен сплести нормальную, целесообразно сконструированную паутину, то это определенно свидетельствует о том, что ее создатель находится в «нетрезвом», измененном состоянии индивидуального предсознания.
В таких случаях у животного дают серьезные сбои наследственные умения, закрепленные на генетическом уровне. Затрудняется или искажается их реализация вследствие аномальной работы нервной системы. Животное становится менее организованным, его поведение – неупорядоченным. Достаточно точная аналогия с человеком, находящимся под действием наркотиков, в частности, в сильном опьянении.
…Массовое скопление сравнительно примитивных животных – многоножек, гусениц – вряд ли допустимо считать сверхорганизмом. Их объединение является временным, разделения функций у данных особей нет.
Другое дело – совокупность так называемых общественных насекомых. Она вполне может называться сверхорганизмом. Хотя возникает вопрос: имеется ли у такого сверхорганизма что-либо подобное сверхразуму? В чем он выражается и каким может быть его носитель?
С высшими животными ситуация не так очевидна. При достаточном развитии головного мозга млекопитающие приобретают все более отчетливые признаки индивидуальности. Помимо всего прочего для них огромное значение приобретает воспитание и обучение в детском возрасте.
…Есть интересная работа Н. Н. Ладыгиной-Котс «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» (М., 1935) – двухтомник с обилием интересных фотографий. Уже тогда со всей очевидностью выяснилось, что дитя шимпанзе, воспитанное в человеческой семье, воспринимает себя человеком. Увидев чучело шимпанзе, он проявил агрессивность. Его поведение до двухлетнего возраста во многом соответствовало поведению ребенка человека. Это проявилось в некоторых видах игр, во внешнем выражении главных эмоций, в волевых действиях, в элементарных интеллектуальных процессах (любопытство, наблюдательность, узнавание).
«И, в итоге, оказывается, – сделала вывод Ладыгина– Котс, – что, чем более витально важные биологические черты мы берем для сравнения, тем чаще шимпанзе получает перевес над человеком; чем более высокие и тонкие психические качества входят в центр нашего аналитического внимания, тем чаще шимпанзе уступает в них человеку». Не менее интересен другой ее вывод: «У шимпанзе мы не находим ни одной психической черты, которая не была бы свойственна человеку на той или иной стадии его развития».
Чем дольше длится психическое и интеллектуальное развитие детеныша животного, тем больше воспринимает и запоминает он те индивидуальные впечатления, которые выпадают за это время на его долю. Обычно совместно воспитываются несколько малышей, которые приучаются к действиям в коллективе. Им совершенно не обязательно обладать «стадным рефлексом»: нечто подобное у них вырабатывается в детстве.
Заманчиво объяснить социальное поведение животных стадным инстинктом, который выработался у них в процессе миллионолетий совместной жизни многих особей. Тем более, что проблема происхождения и закрепления инстинктов остается неясной. Когда ссылаются на всемогущий естественный отбор, то стараются не думать о том, что для отбора психического признака требуется, чтобы он существовал и передавался по наследству. Но как он мог возникнуть и закрепиться на генетическом (молекулярном) уровне?
У общественных насекомых поведение особей зависит от их положения в сообществе, где они выполняют четко определенные функции. У них должен существовать соответствующий врожденный инстинкт. Но в данном случае он прочно сопряжен с программой действий, примерно так, как у младенца врожден сосательный рефлекс, связанный с ощущением тепла и чувством удовольствия, привязанности.
Так может быть, с этого и начинается инстинкт общения, сближения?
Не исключено, что «стадного рефлекса» или «стадного инстинкта» не существует. Скорее всего, нервная система «настроена» таким образом, чтобы реагировать не просто на внешнюю среду вообще, а на отдельные ее элементы в особенности. Некоторые подобные реакции врожденны, другие вырабатываются в процессе индивидуального опыта. В первом случае нередко говорят о закреплении опыта поколений, хотя поныне продолжаются споры о том, каким образом он закрепляется: путем естественного отбора или наследования, перевода на генетический уровень результатов повторяющегося из поколения в поколение направленного индивидуального опыта.
Вероятно, реализуются оба этих пути. С умозрительных позиций целесообразности, нервная система должна бы уметь «настраиваться» на устойчивые воздействия окружающей среды, соответствующим образом регулируя наследственные признаки, безусловные рефлексы.
Относительность в психологии
Для человека прием визуальной и звуковой информации играет важнейшую роль. Как писал американский ученый К. Изард: «Лицо – это центр передачи и приема социальных сигналов, которые являются решающими для развития индивида» (надо бы добавить, конечно, звуковые, тактильные и обонятельные сигналы).
Мимика, выражающая основные эмоции (гнев, страх, радость, удивление, горе, отвращение), более или менее одинакова для разных рас и народов, культур и традиций. В некоторых случаях она свойственна приматам, высшим обезьянам.
«Генетическая обусловленность реакций лицевых мышц, выражающих эмоциональные переживания, подтверждается ранним созреванием их двигательных комплексов, – пишет психофизиолог Н. Н. Данилова. – Все мышцы лица, необходимые для выражения эмоций, формируются у плода уже к 15—18-й неделе жизни. А к 20-й неделе у эмбриона можно наблюдать мимические реакции. К моменту рождения ребенка механизм лицевой экспрессии уже полностью сформирован и может быть использован в общении. На врожденный характер мимики указывает и ее сходство у слепого и зрячего младенцев. Но с возрастом у слепорожденного ребенка реактивность лицевых мышц угасает. (По-видимому, многие рефлексы нуждаются в последующем закреплении на основе индивидуального опыта. – Р.Б.).
Лицо человека и даже его схематическое изображение – значимый стимул для новорожденного. Об этом можно судить по длительности его фиксации глазами, по частоте обращения внимания на него, по появлению вегетативного компонента ориентировочного рефлекса… Ребенок предпочитает рассматривание человеческого лица любому другому стимулу (шахматной доске, изображению различных животных)».
Обратим внимание на то, что у слепорожденных младенцев со временем угасает активность лицевых мышц. Значит, мимика человека формируется при участии личного опыта визуального общения с окружающими людьми. И когда такой опыт отсутствует, возникает, – по отношению к мимике – измененное состояние индивидуального сознания, которое выражается в отсутствии или слабом проявлении реакции лицевых мышц. И у человека при наркотическом опьянении нарушаются мимические реакции и визуальные контакты с окружающими.
Нечто подобное относится и к поведению людей из так называемого высшего общества. Об этом писала Ладыгина– Котс: «Далеко не случайно насквозь рассудочная интеллектуальная культура Запада, иссушающая мозг и сердце, вытравляющая проблески непосредственного и живого проявления чувств и мыслей, возвела в идеал системы воспитания манер «джентльмена» – статуеобразную неподвижность туловища, масковидность лица, параличную оцепенелость и ограниченность жестикуляции.
Эта манера держаться в «благовоспитанном» обществе как бы специально создана для того, чтобы при взаимном общении люди не могли непроизвольно вывести на периферию своего телесного облика затаенные истинные мысли и чувства, вскрывающие субъективное отношение человека к людям и к переживаемым событиям. Наоборот, подкупающая прелесть зверей, как и детей, состоит именно в наивной непосредственности выявления их поведения, вызывающей наше доверие к ним, располагающей к ним наше сердце».
Представьте себе, что кто-то при общении в «высшем обществе» позволил бы себе адекватно реагировать на события: резко жестикулировать или кричать, громко рыдать или хохотать во весь голос. Окружающие восприняли бы это как очевидное проявление измененного состояния сознания, вызванного то ли наркотическим опьянением, то ли нервным срывом, то ли ущербным воспитанием.
Когда наш замечательный путешественник и ученый-гу– манист Миклухо-Маклай общался с папуасами, то нередко попадал в экстремальные ситуации. Но даже когда появлялась угроза его жизни, он был невозмутим. Такое поведение изумляло туземцев, убеждая их в том, что этот человек – особенный, возможно даже явившийся с Луны. Миклухо-Маклай, сдерживал проявления своих естественных реакций на окружающих и ситуацию. То есть, вызывал у себя измененное состояние сознания.
В обществе пьяных трезвого человека воспринимают обычно негативно, как ненормального (в чем-то подобно тому, как относятся к пьяному трезвые). Так же воспринимается прямодушный в обществе лицемеров.
На это обстоятельство обратил внимание еще Джонатан Свифт при описании дивногоострова Лапуты. Попав в высшее лапутянское общество, его Гулливер отметил измененное состояние внешности и психики этих людей: «Все разглядывали меня с величайшим удивлением. Но и сам я не оставался в долгу у них: никогда еще мне не приходилось видеть смертных, которые вызывали бы такое удивление своей фигурой, одеждой и выражением лиц. У всех головы были скошены направо и налево; один глаз косил внутрь, а другой глядел прямо верх. Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд вперемежку с изображениями скрипки, флейты, арфы, трубы, гитары…» Все они были чрезвычайно рассеянны и погружены в глубокомысленные размышления.
Все это считалось нормой в высшем обществе лапутян. Нормальный человек Гулливер выглядел в этой среде ненормальным, подобно тому, как у лилипутов он был великаном, а у великанов – лилипутом.
Если речь идет о сообществе животных, то критерий изменения состояния сознания – естественное поведение в природной среде. Для человека такой принцип не подходит. Он пребывает в искусственной, техногенной (от древнегреческого «технос» – искусство, ремесло) среде, в социально иерархированном обществе, структура которого определяется не биологическими и даже не психологическими или интеллектуальными признаками, а, прежде всего, социально– политическими, экономическими, кланово-кастовыми.
В искусственной среде и поведение личности должно быть искусственным. Это выглядит совершенно естественно. Если в жаркую погоду «дикарь» предпочитает носить только набедренную повязку или даже обходиться без нее, то такое поведение на улицах города вряд ли будет воспринято большинством, за исключением убежденных нудистов, как нормальное. Ну а одетый индивид в обществе дикарей выглядит нелепо, а на пляже нудистов – неприемлемо.
Кровавые жертвы богам
Древние цивилизации Америки несколько тысячелетий развивались практически в полной изоляции от культур Старого Света. Тем удивительней и поучительней многочисленные сходства между ними. Структура общества, экономика, верования не имели принципиальных отличий. То же относится к употреблению пьянящих напитков, наркотических средств и переходов в измененные состояния сознания.
Наиболее цивилизованные племена, обитавшие в Америке, приносили обильные человеческие жертвы и даже практиковали ритуальный каннибализм. Храмы их были поистине залиты кровью людей. Женщинам отсекали головы в осенние праздники, посвященные богине-матери. Детей убивали в честь бога дождя и плодородия – Тлалока. Слезы жертвы означали, что пойдут желанные дожди, а если этого не происходило, приносились новые жертвы.
Мужчин убивали особенно часто. Нередко для этого отбирались наиболее достойные юноши. Участники ритуальных церемоний проливали во имя богов собственную кровь, нанося себе раны.
Пожалуй, наиболее жестокие ритуальные убийства и истязания получили широкое распространение в сравнительно поздние эпохи, в период упадка развитых цивилизаций Нового Света. Связано это было с широким распространением способов и средств наркотизации сознания.
В книге «Затерянный мир майя» (энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации») сказано: «Таинственная связь между живыми людьми, богами и предками достигалась во время разнообразных ритуальных актов, которые должны были дать возможность выхода из мира людей в мир духов. Участники ритуальных действий специально доводили себя до такого состояния, когда в помутившемся сознании возникают видения, что означало для них выход в мир иной. Майя употребляли настой из сока некоторых растений, в том числе ядовитых и содержащих галлюциногенные вещества, чтобы вызвать видения, но главным образом для того, чтобы достичь состояния, предшествующего главному сакральному действию – кровопусканию».
Учитывая то, что ритуальные священнодействия совершались у майя часто и по разным поводам, у многих людей, прежде всего из числа жрецов и их прислужников, должна была развиваться наркомания. Кроме того, майя изготавливали пьянящие напитки типа пива, а также курили наркотические растения (считается, что дикорастущий табак обладает более сильным действием, чем его культивируемые сорта).
Возможно, именно находясь в измененном состоянии сознания, когда теряется различие между мнимостью и явью, древнемексиканский автор пришел к заключению:
Мы приходим только грезить, приходим только спать.
Неправда, неправда, что на землю мы приходим жить.
В другом тексте:
На месте власти, на месте власти господствуем.
Это веление моего главного Господина.
Зеркало, благодаря которому возникают вещи.
Они уже идут, они уже готовы.
Опьяняйся, опьяняйся!..
Признаться, только профессиональный комментарий способен растолковать смысл этих слов. Создается впечатление, что их произносили в состоянии опьянения, да и заключительные слова звучат недвусмысленно. В оправдание майя надо сказать, что в народе пьянство не было широко распространено. Как писал в XVI веке испанский хронист, епископ Юкатана Диего де Ланда, у майя алкогольный напиток – «вино сильное и очень вонючее» – использовался только во время религиозных церемоний.
По целому ряду свидетельств, ацтеки нередко употребляли галлюциногенный гриб в религиозных обрядах. Не случайно два-три тысячелетия назад в этих краях изготавливали статуэтки, на которых жрец как бы возникал из большого гриба. Испанские конкистадоры писали, что при коронации ацтекского правителя Монтесумы участников церемонии и зрителей угощали «чудодейственным» грибом, чтобы внушить мысль о божественном происхождении царя.
Значительно более определенны сведения о применении с древних времен на территории Перу и Боливии кокаина для того, чтобы вызвать прилив сил, снять усталость и избавиться от чувства голода. Точнее сказать, использовали, конечно же, не сам алкалоид кокаин, а содержащие его листья растения коки. Их в этих местах жуют и теперь.
Возбуждающие вещества, скажем кофе и чай, давно вошли в быт многих народов, так же как употребление спиртных напитков (последние даже не всегда считают наркотиками). Вопрос в том, насколько массовым следует считать такое явление, как оно воздействует на общественное сознание, насколько значительны последствия и кому они выгодны. Короче говоря, надо иметь в виду наркотизацию общественного сознания, вызывавшую его направленные изменения.
Принося в жертву детей, которых нередко оставляли высоко в горах, инки давали им то ли крепкое пиво, то ли наркотические сильнодействующие вещества. У найденных через полтысячи лет мумий нередко сохраняется безмятежное или сонное выражение лица. Отправляемым в мир иной, мир богов, детям оставляли их любимые игрушки, а то и выпавшие молочные зубы. Некоторые из этих детей были здоровы, хорошо развиты и принадлежали к обеспеченным семьям. Почему же их приносили в жертву?
Здраво рассуждая, приходишь к выводу: от хорошей жизни люди не станут ублажать богов, обрекая на смерть любимых детей.
В пору кризиса, духовного упадка, в обществе распространяются суеверия. Люди начинают полагаться на чудо или на милость высших сил, отдавая им порой самое дорогое, что у них есть. Так, вполне определенно, проявляется наркоцивилизация. Человек готов отрешиться от реальных ценностей ради мнимых, воображаемых и желанных в будущем, причем не добытых своим трудом или на войне, а как бы ниспосланных свыше, волею случая, по милости богов.