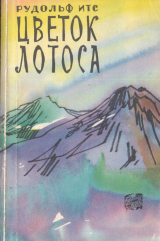
Текст книги "Цветок лотоса"
Автор книги: Рудоль Итс
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Своего родного места Терентий не узнал. Вместо стойбища Тигеля были головешки. Дома, в котором он жил, тоже не было. Стояла одинокая банька, из трубы которой шел дым. Кругом ни души. Шатаясь, Терентий подошел к бане, потянул дверь. Крик радости вырвался из груди. Перед ним были жена и сын.
Тигель со своим родом бежал в верховье Еловки, а когда исход восстания стал очевидным, он убил детей, жен, покончил с собой, не желая попасть живым в руки казаков. Брат Тигеля погиб вместе с Харчиным. Казаки сожгли стойбище рода, сожгли и дом Терентия, но семью его не тронули. Никто из камчадалов не сказал, что Терентий был на их стороне.
Некогда обжитое место стало пустынным и мрачным.
Терентий погрузил оставшиеся пожитки на свои знаменитые сани, посадил жену, сел сам. Сын встал на лыжи, и они направились в стойбище, где вылечили Терентия.
*
Прошло еще восемь лет. Терентий вновь отстроился. Сын вырос, стал красивым двадцатилетним юношей. Его широкоскулое лицо напоминало о монгольской крови матери, от отца он унаследовал высокий рост и физическую силу. Вместе с ним выросла и та девочка, которая помогала ухаживать за раненым Терентием.
Восемь лет дети росли вместе и были неразлучны. По камчадальскому обычаю родители не вмешиваются в дела молодых, но оба – Терентий и отец девочки хотели, чтобы дружба детей стала прочной. Они обрадовались, когда сын Терентия – Семен – ушел в дом к будущему тестю, чтобы, как это принято, некоторое время отработать в семье невесты и получить согласие ее семьи на брак. После этого Семен со своей невестой Дуней должны были месяц прожить в доме Терентия, и наконец у родителей Дуни отпраздновать свадьбу.
В ночь накануне свадьбы вблизи стойбища появились казачьи отряды. Они не остановились у дома Терентия, а проехали дальше, к дому тойона.
С тойоном этого рода у Терентия сложились плохие отношения. Причиной тому были знаменитые сани.
В первые же дни, когда Терентий приехал на новое место, тойон предложил ему полуземлянку в обмен на сани. Терентий отказал. Тойон не на шутку разобиделся и перестал бывать у Терентия. Терентий тоже не заходил к нему. Шли годы. Казалось, тойон перестал интересоваться санями, но когда Терентий проезжал на них, тойон провожал его недружелюбным взглядом.
Прибывший казачий отряд заночевал у тойона.
Утром Семен вместе с отцом, матерью и Дуней поехал на санях к дому тестя, на другую сторону реки. Их встречала толпа гостей. Женщины пели то веселые, то грустные песни. Выступивший вперед шаман произнес заклинание, поворожил над головой сухой рыбы и отдал ее старухе, стоявшей рядом. Друзья и родственники Терентия смеясь подбежали к молодой. Они надели на нее хоньбу – длинную теплую одежду вроде халата, а поверх еще четыре меховых куртки – кухлянки. Дуня, радостная и торжественная, стояла, широко разведя руки, и не могла шагу ступить без посторонней помощи. Ее подхватили, усадили в нарту, и все поехали вдоль берега к полуземлянке.
Из жилища встречать Дуню вышел ее младший двоюродный брат. Он помог ей слезть с саней и повел ее по холму полуземлянки к входному отверстию. Старуха с рыбьей головой в руках обогнала их и первой сошла по лестнице. Она положила голову рыбы на пол. Подбежавшие парни и девушки обвязали молодую ремнями и спустили вниз. Становясь на пол, Дуня с силой наступила на рыбью голову. Затем все спускались по лестнице и старались также наступить на эту голову. Когда гости собрались внутри жилища, старуха подскочила к рыбьей голове и, что-то шепча, яростно затопала по пей, а потом подняла ее и бросила в костер.
Рыбья голова, кухлянки, которые сняли только внутри жилья, спуск молодой на ремнях – все это, по поверьям камчадалов, должно было предохранить невесту от злых духов и обеспечить счастье будущей семье. Терентий не верил этому, но ни он сам, ни его сын не нарушали традиций ставшего им родным народа.
Обряд закончился. В костер подбросили веток, он разгорелся. Полуземлянка стала быстро нагреваться. Гости рассаживались поудобнее, чтобы приступить к свадебному пиршеству. По традиции в этот день угощение в доме тестя готовил молодой муж.
В самый разгар веселья громкий лай собак нарушил пир. По лестнице спускался казачий сотник. Следом за ним шел тойон и казаки.
Было ясно, что пришли они не на свадьбу. Хозяин поднялся и подошел к сотнику:
– Я исправно плачу ясак, тойон подтвердит. У нас свадьба. Садись, гостем будешь.
Сотник окинул глазами всех сидящих и остановил свой взгляд на изуродованном шрамами лице Терентия.
– Я пришел за ним, он изменник и должен умереть!
– Нет! Он мой гость, он здесь мой гость!
Сотник положил руку на шашку, а казаки обступили споривших. Терентий смело подошел к ним:
– Ты пришел за мной? Но в чем моя вина?
Терентий и не предполагал, что тойон донес на него.
– Дело давнее, но ты-то, Шадрин, знаешь! Пришел царский указ: в каждом селении казнить одного русского и двух камчадалов, виновных в большом бунте. Из всех русских ты наибольше повинен.
Терентий горько усмехнулся:
– Что же, сотник, когда вешали друга Федора Харчина после всех, он сказал: «Жаль, что мне придется висеть последним!» Я готов, но уйдем отсюда, не мешай людям в их маленькой радости.
Терентий направился к лестнице. В эту минуту угрюмо молчавший Семен остановил его:
– Стой, отец, я сейчас!
Занесенный с ловкостью истого охотника нож выпал из руки Семена, перехваченной сильной рукой отца. Сотник, перепугавшись, отскочил от Терентия, схватился за шашку, но, видя, что опасность миновала, успокоился.
– Ты не спеши, Терентий! Управитель приказал передать, ежели твой сын со своей женой отправятся добровольно в столицу, тебе будет дарована жизнь.
Еще в 1700 году Атласов сделал попытку вывезти с Камчатки в столицу одного местного жителя. Камчадал не перенес перемены климата, трудного и долгого пути и умер. Через девять лет новая попытка окончилась также трагически. В 1722 году царский двор прислал предписание послать нескольких камчадалов в Москву, но никто из них не доехал до места. О всех попытках этих знали в камчадальских стойбищах и пуще смерти боялись такой поездки. Сейчас весной 1739 года Иркутская Канцелярия решила снова повторить попытку, не удавшуюся прежним правителям. Управителю Камчатки было дано приказание отобрать молодые камчадальские пары и отправить их в Петербург.
Услышав слова сотника, Терентий побледнел:
– Слушай, сотник, я довольно уже пожил. Моя жизнь немного стоит, чтобы за нее отдавать две молодые жизни. Пойдем отсюда!
Семен горячо перебил отца:
– Нет, отец! Постой! Нас ведь не будут казнить, нас просто повезут в столицу.
Сотник одобряюще кивнул, но Терентий хмуро проговорил:
– Сын, ты не знаешь, что такое этот путь. Никто еще из жителей Камчатки не доезжал даже до Томска.
– Но ведь в моих жилах течет твоя кровь!
– В твоих моя, а в жилах твоей Дуни?
Семен умолк и взглянул на сетчатую перегородку, 'где сидели женщины. Он ждал. Его тесть, думая о чем-то своем, ни к кому не обращаясь, быстро заговорил по-камчадальски. За перегородкой кто-то всхлипнул, затем плач утих и голос Дуни произнес короткую фразу. Сотник ничего не понял. Терентий ласково, но горько улыбнулся, Семен радостно смотрел на отца.
– Дуня сказала: «Я поеду со своим мужем!»
*
В декабре 1739 года, на десятом году царствования вздорной и жестокой императрицы Анны Иоанновны, в Петербурге наступили сильные морозы, каких давно не бывало. Даже спирт, выставленный в стеклянной банке за окно на ночь, замерзал. Нева и ее притоки были прочно скованы льдом.
В такую стужу прибавилось хлопот у любимца императрицы временщика Бирона. В числе прочих занятий он должен был увеселять свою благодетельницу. С его легкой руки русский двор был наполнен шутами и шутихами, которыми нередко становились дворяне, навлекшие неудовольствие Бирона или «повелительницы всея Руси».
В один из дней декабря Бирон вошел в приемную, где его ожидали приближенные. Изобразив на своем лице страдание, Бирон воскликнул:
– Я несчастнейший человек! Здесь в России множество людей не столь помышляют о заслугах моих, сколь питают ко мне ненависть и неблагодарность, Я же верою служу России и матушке нашей императрице и не Щажу живота своего на их благо. Однако вот уже несколько дней матушка-императрица ничем не развлекается, а я не могу примыслить способа развеять грусть на ее челе. Кто в моих помыслах мне поможет?
Картинно всплеснув руками, Бирон направился к выходу, но тут вкрадчивый голос одного из приближенных остановил его:
Мне сообщили, что перед Голштинским замком искусные мастера изо льда соорудили двух львов в два раза больше натуральной величины. Что если, пользуясь случившейся стужей, соорудить на Неве против крепости Петра и Павла ледяной дом, сделать ледяные пушки и устроить празднество на потеху и радость матушки-государыни?
Бирон подозвал к себе говорившего, что-то шепнул ему и быстро пошел в покои императрицы.
На другой день во дворце знали о новой затее Бирона, и к концу дня было составлено два императорских указа.
В первом приказывалось в самое короткое время соорудить на Неве между Дворцом и Адмиралтейством Ледяной дом в несколько комнат, всю обстановку в которых сделать изо льда.
Во втором Кунсткамере было приказано сделать зарисовки и эскизы с предметов и костюмов разных народов России, чьи коллекции были собраны в музее, и передать в ведение церемониймейстера двора различные костюмы, музыкальные инструменты, орудия и утварь, главным образом сибирских народов.
27 декабря вышел третий указ. Губернаторам всех национальных окраин России предписывалось к 6 февраля 1740 года доставить в Петербург по одной молодой паре от всех нерусских национальностей в их»«туземной одежде, на туземном транспорте» для придворного маскарада– «шествия народов России», которое должно быть в день «потешной свадьбы».
Пусть кто-то другой предложил устроить Ледяной дом, но справить «потешную свадьбу» шута князя Голицина и шутихи Бужениновой придумал сам Бирон. «Новобрачные» отправятся на ночь в этот дом, а по пути их будут сопровождать молодые пары разных народов России и пусть тогда иностранцы видят, как богат и велик двор Анны Иоанновны, – так решили во дворце императрицы, готовясь к необычной потехе.
Из Москвы и Подмосковья, из всех предместий Петербурга сгоняли мастеров на строительство Ледяного дома. Во все концы империи самая спешная почта развозила указ о срочной отправке молодых пар.
Где-то около Урала Семена с Дуней повстречал курьер, везущий указ о «потешной свадьбе», и провожатые, узнав в чем дело, заторопились.
В конце концов сани почтовой тройки подъехали к Москве. Закутавшись в тулупы, в них сидели Семен и Дуня двое камчадалов, вынесших долгий и тяжелый путь. Двое других, ехавших с ними, были похоронены вскоре после Иркутска. В узлах сохранилась праздничная одежда Семена и его жены да тут же поперек розвальней стояли знаменитые сани Терентия. Тойон, предавший гостя своих сородичей, так и не получил заветных сапой.
Отдых в Москве был коротким. Кони понесли камчадалов на север, в Петербург. Надо было торопиться. Приближался день, из-за которого со всех концов России сгоняли людей.
Зима все так же свирепствовала. К исходу третьего февраля Ледяной дом был сооружен.
Сложенный из ровных больших кусков прозрачного льда, стоял он на ледовой площадке Невы. Солнце отражалось в нем и играло на гранях стен.
Дом был длиной в семнадцать, шириной в пять и высотой в шесть метров. По фасаду в нишах стояли ледяные копии шести греческих богинь. Статуи меньшего размера стояли на крыше. Верхняя часть дома была выложена плитками льда, подкрашенного в зеленый цвет. Дом окружала ажурная ледяная изгородь, а за ней причудливые деревья с тонкими хрустальными листьями. Над входом стояли две небольшие остроконечные башни с часами, механизм которых виднелся сквозь прозрачные стенки. Слева от дома в натуральную величину стоял ледяной слон с седоком, одетым в персидский костюм. Слон выбрасывал вверх струи воды, а крепостной, спрятанный внутри него, подражал крику животного. В доме все было сделано изо льда: кровать с балдахином, столы, стулья, посуда, стаканы, рюмки, зеркала, различные кушанья. Даже дрова и свечи были ледяные. Облитые нефтью они горели ярким пламенем.

Ночью, когда вспыхивали огни внутри дома и когда поставленные у ворот два ледяных дельфина выбрасывали огненные фонтаны зажженной нефти, все сооружение производило фантастическое впечатление. Было удивительно и необычно, что шесть трехфунтовых ледяных пушек и две ледяные мортиры стреляли настоящими ядрами. Море огня и света пробивалось сквозь ледяные стены.
И никто не задумывался, сколько труда вложили в это неповторимое и бессмысленное сооружение талантливые руки русских мастеровых. Это они заставили стрелять ледяные пушки, ходить часы, играть всеми красками глыбы льда.
Когда Семен увидел этот дом, он спросил:
– Зачем это? Солнце весны растопит лед, и все пропадет. Зачем?
6 февраля около трехсот гостей съехались к дому церемониймейстера двора князя Волынского. Отсюда начиналось шествие потешного поезда «новобрачных». Шута и шутиху посадили в железной клетке на слона. Слон выступал впереди. За ним на санях, запряженных оленями, собаками, быками, козлами, свиньями, и верхом на верблюдах попарно ехали калмыки, башкиры, остяки, якуты, камчадалы, финны, ряженые дворцовые шуты и шутихи.
Семен с Дуней ехали на своих санях, запряженных собаками. Они проезжали мимо дворца. Императрица, опершись на руку Бирона, вместе со всеми заливалась смехом. Гневно блеснул взгляд Семена. Он помнил слова отца быть осторожным и только ждал, чтобы эта пытка скорее кончилась.
Поезд от дворца направился по главным улицам мимо особняков знати и прибыл на манеж Бирона. После пиршества и танцев все поехали к Ледяному дому. Шута и шутиху, под пушечную пальбу, отвели в спальню и оставили на ночь, поставив часовых, чтобы они не сбежали.
«Великая потеха» закончилась. Семен и Дуня смогли отдохнуть на людской стороне дворца. На другой день их переодели в русские платья, так как придворные забрали себе «на память» не только те костюмы, сани, утварь и упряжь, которые привезли с собой посланцы разных окраин, но и то, что было взято в Кунсткамере, вернув музею лишь небольшую часть его коллекций. Кто-то взял и знаменитые сани Терентия – камчадальские сани с русским орнаментом на кузове и копыльях.
Семен и Дуня не долго были в числе дворцовых слуг. Вскоре после смерти Анны Иоанновны и свержения Бирона они уехали на родину. Семена взяли помощником переводчика Второй камчатской экспедиции Петербургской академии наук.
Через много месяцев Семен и Дуня снова были дома. Все так же стоял дом Шадриных на самом краю стойбища, но уже много дней не горел в нем очаг.
Похоронив жену, Терентий не дождался сына.
Отец Дуни положил руку на плечо Семена, по щекам которого катились тяжелые редкие слезы.
– Твой отец был очень хорошим человеком, хорошим русским человеком. Он любил сопку Шивелуч и Еловку. Мы увезли его туда и похоронили по-русски… На самой вершине поставили крест. Он был хороший, он ждал тебя, он знал, что ты вернешься. Ты его и наш сын, ты тоже будешь хорошим.
Больше он ничего не мог сказать и только беспрерывно раскуривал трубку.
На вершине Шивелуч ветер зимой наметал снега, а летом шевелил травы на одинокой могиле того русского, который жил вместе с камчадалами и любил этот парод. Через столетия он завещал будущей освобожденной России эту дружбу.
*
У саней Терентия было много владельцев. В семидесятых годах XVIII века во главе Русской академии паук стояла княгиня Дашкова. От нее в Кунсткамеру вместе с другими предметами поступили в дар старинные камчадальские сани с мотивами русского орнамента на копыльях и кузове, сани Терентия. Тогда в специальной книге было записано, что это сани из «Ледяного дома»…
В фондах музея эти сани стоят в ряду других саней камчадалов и коряков, эвенков и кетов, народов, населяющих бескрайние просторы Севера нашей Родины. Они отличаются от других русскими ромашками и петушками, нанесенными рукою их мастера.
ЦВЕТОК ЛОТОСА

В других залах погасли огни, а мы все стояли у раскрытого шкафа «Буддийский культ» китайского отдела музея. Мой спутник, китайский профессор Ма Су-цзян, внимательно разглядывал редкую буддийскую книгу. В ней было всего восемь листов, необычных листов. Каждый лист – тонкая пластинка зеленого нефрита с выгравированным изображением одной из восьми буддийских святынь. Восемь святынь – восемь листов, оправленных в парчу и картон. На первом листе священный цветок – лотос. В природе лотос имеет нежно розовый цвет, но на всем буддийском Востоке его считают белым цветком.
Ма Су-цзян впервые приехал в нашу страну, и только сегодня я встретился с ним, хотя уже много лет мы вели переписку. Зная, что он один из старейших этнографов народного Китая, я всегда представлял его человеком степенным, убеленным сединой. Он оказался необычайно молодым на вид, невысокого роста, очень подвижным, с черными как смоль волосами и живыми глазами. Он много ездил по южным районам своей страны и до сих пор принимает участие во всех экспедициях в Тибет и Сычуань.
Когда мы осмотрели весь музей, он попросил разрешения открыть этот шкаф и достать буддийскую книгу. Его внимание не привлекали древние нефритовые вазы или редкий военный наряд императора, он задумчиво переворачивал страницы книги. Беседа наша прервалась, я силился понять, что могло заинтересовать китайского гостя, и внимательно смотрел то на него, то на книгу. Древние китайские мудрецы говорили: «Видеть, чтобы видеть, не значит видеть и знать» – и я спросил Ма Су-цзяна, почему его так заинтересовала эта книга.
Он бережно закрыл ее и, отдавая мне, сказал:
– Странно, я всегда думал, что эта книга существует только в одном экземпляре. Странно. О, простите, мой друг, вы же ничего не знаете, если вы свободны, пойдемте ко мне.
Я охотно согласился, и мы продолжили нашу беседу в небольшом номере ленинградской «Астории».
Ма Су-цзян усадил меня в кресло, достал из чемодана папку и протянул мне. В ней лежало несколько цветных фотографий. На всех был изображен один и тот же горный пейзаж, тропинка, большой камень около нее с какой-то тибетской надписью. Хозяин, пододвигая чашку душистого зеленого чая, сказал:
– Посмотрите на этот снимок, я сделал его давно на пути в Лхасу, в предгорьях Тибета, у Счастливой реки.
Я пристально всматривался в фотографию. Свет настольной лампы ярко освещал снимок, и запечатленный пейзаж оживал передо мной. Осень. Солнце, пройдя половину своего пути, рассыпало лучи на поблекшие травы и согревало чистый прозрачный воздух. У горного ручья стояла молитвенная мельница – бронзовый барабан с выгравированным текстом молитв, – которую тибетцы называют хурде. Поверни, путник, ручку, барабан сделает оборот – молитва прочитана. Вьется тропинка, а рядом с ней стоит отполированная тысячелетней работой воды и ветра скала. Солнечный луч освещал тибетские письмена, старательно высеченные на камне. Под скалой груда набросанных камней. Тропинка в трех-пяти местах от нее прерывалась узким и, видимо, глубоким ущельем. На той стороне ущелья она круто спускалась вниз. Несколько досок и бревно у самого края свидетельствовали о том, что здесь когда-то был мостик.
Я вернул фотографию и спросил, что написано на скале, надеясь, что Ма Су-цзян расскажет мне и об этом пейзаже и о буддийской книге, так заинтересовавшей его в музее.
Ма Су-цзян отпил несколько глотков чаю, уселся поудобнее и начал рассказывать. Мы расстались на рассвете.
*
– Вы спросили у меня, что значат эти надписи, я отвечу. Вы их можете увидеть и в Монголии и в Тибете – во всех местах, где были ламы и люди, исповедующие ламаизм. Это мистическая формула: «Ом, мани падмэ-хум», что значит: «О ты, сокровище на лотосе». Эта надпись – обращение к Будде. Я знаю, вы, мой друг, наверное, хотите знать и другое: почему я так пристально разглядывал книгу, где я видел такую же? Потерпите. Я расскажу, расскажу вам все, что знаю сам. Я расскажу вам об одном эпизоде из тяжелого прошлого Тибета.
Почти четверть века назад в тех местах, что вы видели на снимке, только тропинки служили путем для паломников, шедших в Лхасу из разных концов Тибета. Обычно к осени все тропы заполняли яки и мулы. Скотоводы перегоняли стада с севера на юг. Но в тот день, когда я доехал до этой скалы, копыта моего коня уже скользили по обледенелым камням, а сам я утолял жажду растопленным снегом. Редко, раз в тридцать дней, я встречал прохожих.
Мой путь лежал в Лхасу, и я уже был близок к цели. Вдруг мой конь осадил назад и тревожно заржал. С шумом, резко рассекая воздух могучими крыльями, над головой пролетела огромная птица и опустилась на скалу. Я не успел разглядеть ее, так как мое внимание привлек человек, сидевший скорчившись на краю обрыва у разрушенного мостика. Он сидел вполоборота ко мне. Я видел посиневшее лицо с орлиным носом и длинные черные волосы, ниспадающие на спину. Обхватив жилистыми руками голову, тибетец покачивался из стороны в сторону и чуть слышно что-то шептал. Он не обратил на меня никакого внимания.
На нем была овчинная нагольная шуба, подпоясанная так, что вокруг верхней части тела образовалось нечто вроде большого мешка. Шуба во многих местах была залатана. Войлочная широкополая шляпа с высокой тульей валялась у ног. Темно-коричневые суконные сапоги с подошвами из сыромятной кожи были сильно поношены. За поясом у него торчала связка ключей, нож и обломок сабли.
Я подъехал ближе и, не слезая с коня, тронул человека кнутовищем. Он перестал качаться и перевел на меня взгляд. Казалось, он ничего не видел. Черные глаза не выразили сначала ничего, затем в них появился страх.
Тибетец вскочил и с криком «амбань» бросился прочь. Его крик вспугнул птицу, она взлетела и закружилась над нами.
Тибетец принял меня за гоминьдановского чиновника и, наверное, убежал бы далеко, если бы не обледенелые камни. Он поскользнулся и упал. Я догнал его.
Моих объяснений человек не слушал. Я поднял его, он дрожал и отворачивал от меня лицо.
Мы подошли к скале. Птица слетела с вершины и теперь сидела совсем рядом. Наконец я сумел разглядеть ее. Это был снежный гриф. Он не боялся людей, так как никто в Тибете не преследует эту птицу.
Вспомнив о повадках грифа, я содрогнулся и, переждав, когда человек успокоится, спросил его по-тибетски, не случилось ли с ним несчастье, не задела ли беда кого-нибудь близких, не погиб ли кто. Тибетец внимательно посмотрел на меня и в свою очередь задал вопрос:
– Ты разве геген-перерожденец, в которого переселяются души умерших? Откуда ты знаешь о моем горе?
– Нет, я не геген, – сказал я ему, – но я вижу здесь грифа.
Тибетец поднял камень и с трудом бросил его в птицу:
– Кыш, спутник несчастья, я еще не сейчас умру, подожди, уже скоро.
– Зачем ты говоришь о смерти, разве ты знаешь, когда она придет? Ты болен, я помогу тебе.
Тибетец тяжело вздохнул и закашлялся. Полы его шубы отвернулись, открыв исхудавшее голое тело.
– Слушай, китаец, ты умный человек, ты знаешь про птиц. Я тоже кое-что знаю. Давно, очень давно, когда еще мои волосы были не так жестки от горной пыли, я научился в монастыре письму. Но затем я стал пасти скот своего настоятеля и часто уходил на зимние пастбища, а в монастырь пошел мой первый сын. Ты хороший человек, но не предлагай мне помощи, когда внутри все жжет и нет спасения. Мне уже раз обещали помочь, помочь моему сыну, – тибетец заплакал и закашлялся вновь. – Я знаю, что сегодня умру, – продолжал он, – я не геген из Гумбума, я знаю точно.
Тибетец замолчал.
Я слышал старинную историю о гегенах из Гумбума. Однажды, когда в монастырях Гумбума произошли беспорядки, виновные – восемь гегенов – предстали перед судьей, присланным императором из Пекина. Судья обратился к ним:
– Вы, гегены, все знаете, что было, что есть и даже что будет! Скажите мне, когда вы должны умереть.
Перепуганные гегены ответили:
– Завтра!
– Нет, сегодня! – воскликнул посланец императора и велел тотчас отрубить им головы.
Тибетец сильно кашлянул и поднес ко рту горсть снега.
Я достал из вьючного мешка легкую металлическую чашку, несколько кусков аргала – сушеного помета яков, чтобы развести огонь, и мешочек с продуктами. У меня с собой были необходимые припасы кочевого тибетца: плитка коричневого чая, цзамба – поджаренная ячменная мука и немного сушеного сыра – чура. Однако воду вскипятить на слабом огне не удалось, и пришлось пить ее теплой с растолченным чаем, сыром и цзамбой.
Я предложил тибетцу отведать приготовленной пищи. Он посмотрел на меня и покачал головой:
– У меня нет своей чашки, а тибетец никогда не будет пить из чужой, таков обычай.
Аргал стал сильно дымить. Мой собеседник, часто кашляя, рассказал свою историю. Он уже не боялся меня, ведь я предложил ему пищу.
За много лет до года «дерева-дракона», то есть до 1904 года, из Сычуани, где жили его разорившиеся родители, он попал в одно кочевье в Тибете. Родители продали его за двух яков и одного барана. Мальчик оказался в трудолюбивой бездетной семье. С ним обращались как с родным.
Каждое лето вся семья со стадами своего бокба – хозяина откочевывала в горы. К зиме все снова спускались в долину. Жилищем им служила легкая палатка. Ее делали из черной, сотканной из шерсти яка, материи. Палатка была невысокой, почти квадратной, с чуть покатой крышей. Дневной свет и лучи солнца проникали через широкое отверстие в крыше, туда же уходил зимой дым очага. В палатке не было ничего, что могло быть подстилкой для ночлега. Пронизывающий ветер срывал с колышков полог и врывался в жилье, обжигая спящих на холодном земляном полу.
Было бедно и всегда темно от дыма и копоти в жилище новых родителей мальчика.
В глубине палатки на небольшом возвышении стояли два вырезанных из дерева смеющихся толстых человечка– ламаистские идолы. Таких веселых и толстых людей мальчик никогда не видел.
Однажды весной мальчика отвели в монастырь, и с тех пор он больше не видел своей новой семьи. После одного очень тяжелого перегона стад через хребет Тангла родители не вернулись назад.
Мальчик думал, что в монастыре он станет служителем бога, а он стал черным монахом. Его, как и многих других, не научив толком читать и писать, выгоняли с раннего утра на монастырские поля. Скоро его отправили на дальнее пастбище пасти скот.
Через пять лет он уже не вспоминал о монашеской жизни и, нарушив все обеты, женился. Его жена родила сначала одного, а затем и второго сына. Очень скоро она умерла. Тогда в их палатке не было ни цзамбы, ни сыру, ни чаю: перед самыми родами приехали посланцы от монастыря и забрали за долги все, что было дома. А жене так нужно было подкрепить свои силы.
«Подрос старший сын Нангам, – продолжал рассказывать тибетец, – и настоятель потребовал, чтобы я отдал его в монахи. Он обещал освободить меня от податей, если я отдам сына и несколько мер ячьего подшерстка, самого мягкого и самого тонкого. Сына взяли, но где набрать такой шерсти! Мы обязаны были платить налог. Если бы можно было освободиться на год от податей, мы с младшим Энчи не стали бы жить у хозяина – настоятеля монастыря. Я мечтал об этом, и мои мысли передались старшему сыну. Не знаю, что он думал тогда, но вот что случилось на другой год в третий день первой луны».
Тибетец помолчал, а затем продолжал:
«Сопровождая настоятеля монастыря, Нангам попал в Лхасу в день, когда туда для подготовки великого праздника мёнлама – «великих благопожеланий» – съехались высокие духовные лица. Взяв Энчи, я решил с толпой паломников тоже отправиться в Лхасу. Добрались мы уже к вечеру. Много-много людей с разных сторон шло к горе Марбори, к дворцу далай-ламы.
Мы шли вместе с толпой и оказались впереди, перед самой стеной Красного дворца. На обращенной к восходу стороне здания, с крыши к земле была протянута толстая веревка. Мне она представилась бесконечной. Все смотрели вверх. На крыше дворца трое людей, казавшихся снизу маленькими, что-то надевали на себя.
Зазвучали трубы, все замолкло, и только громкий голос прозвучал над площадью:
– Кто спустится вниз, получит освобождение от податей на год! – и снова наступила тишина.
Вот первый человек на крыше подошел к веревке, лег на нее животом и поехал вниз головой. Толпа замерла. Смельчак благополучно спустился, поднялся на ноги и подошел к служителю. Тот дал ему табличку с разрешением далай-ламы не платить налогов в течение целого года. Затем съехал второй.
Когда появился третий, толпа уже не замирала в ожидании, и многие завидовали смельчакам. Третий показался мне знакомым. Он спустился уже до половины веревки и стремительно несся дальше. Была близка земля, близка и спасительная табличка. Вдруг канат ослабел, человек закачался и, сорвавшись, рухнул на каменные плиты. Смотревшие в ужасе отпрянули назад, а я с Энчи стоял, словно оцепенев. Потом я кинулся к телу и упал на колени:
– Нангам, сын мой!..
А над нами уже кружились грифы и ягнятники. Так я потерял первого сына, – закончил тибетец, и на его бледном лице слегка задрожали веки, – а второго сына и все, что у меня было, я потерял сегодня».
Покинув Лхасу, тибетец с младшим сыном Энчи решил найти настоятеля своего монастыря и получить освобождение от податей, ведь старший сын-то погиб. По монастырь был пуст. Страшная болезнь – черная оспа – выгнала монахов из келий. На земле валялось много трупов. Здесь, в монастыре, откуда тибетец ушел ни с чем, заразился оспой Энчи. Лекарств не было, и отец пошел к прорицателю.
Прорицатель сидел на базарной площади и вертел молитвенное колесо. Отец нес Энчи, лицо которого покрывали черные оспенные корки. Он остановился перед прорицателем.
– Человек, – сказал прорицатель, – твой сын болен страшной болезнью, его не пустят в твое стойбище, в общую палатку и изгонят из селения. Я тебе скажу, что надо сделать. Найди белого яка, возьми его с собой и вместе с сыном иди в Лхасу. Там есть много дворцов и много лам. Там есть медицинский дацан, что стоит на вершине хребта Дракона-Чжагбори. На задней стене этого дома выложены из зеленых, красных и желтых драгоценных камней изображения Будды и его перевоплощений. Там есть великий Ютоггонбо. Сведи ему белого яка, и он, может быть, спасет твоего сына. Но ты вряд ли найдешь яка, который был бы, как лотос Будды, белым, и твой сын умрет.
Тибетец нашел белого цзо, помесь яка с коровой, в соседнем кочевье. Он отдал все, что у него было. Он уже много дней не ел цзамбу и почти не спал, согревая дыханием сына. Он нес его обратно в Лхасу.







