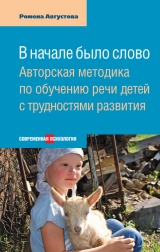
Текст книги "В начале было слово. Авторская методика по обучению речи детей с трудностями развития"
Автор книги: Ромена Августова
Жанры:
Детская психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Цель, которую ставит перед собой дефектолог, понятна: она хочет научить ребенка определять формы различных предметов, ибо, как ей кажется, только сопоставляя их, ребенок сможет выполнить поставленную перед ним задачу. Сделать это он, однако, не в состоянии, и, обманывая самого себя, выдавая желаемое за действительное, дефектолог водит рукой ребенка, направляет ее и получает нужный результат: все до единой фигурки оказываются в своих гнездах.
В действительности же, если бы ребенок вложил в нужный паз хотя бы один предмет – но самостоятельно! но уверенно! без чьей-либо помощи! – это было бы подлинным, а не придуманным успехом. Для этого нужно было бы сначала научить его манипулировать только каким-либо одним предметом, ну допустим, правильно вставить только кружок, прибавляя все остальное по мере усвоения предыдущего задания. А самое главное: научившись вкладывать кружочки, треугольники, звездочки и квадраты в соответствующие выемки, справится ли ребенок, если ему дать брусочек, в который потребуется вложить уже не геометрические фигуры, а, скажем, различные по форме фрукты – яблоко, грушу, банан? Просто? Не для всех. Вполне возможно, что задачу с геометрическими фигурами он решил методом подражания, опираясь исключительно на зрительное восприятие наших собственных действий.
Обучение трудных детей не должно сводиться к простому механическому подражанию. Осознание и осмысление – вот к чему оно должно сводиться. На основе приобретенного опыта сможет ли ребенок решить новую, чуть более сложную задачу? Чему служит каждое из достижений, для чего они? Какой будет следующая ступень? Что является почвой, а что ростком, который на этой почве вырастет? Нельзя работать по принципу «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Ни одна из наработок сама по себе не существует, все они должны служить лишь звеном одной общей цепи. Каждый предыдущий этап работы должен обусловливать последующий, каждый ее элемент – четко вписываться в систему. Всякий раз мы должны помнить, что привычные приемы, вполне результативные в работе с обычными детьми, темп занятий, их объем и содержание в данном случае часто оказываются совсем не подходящими. И для решения самой простой задачи приходится искать особые, всякий раз новые способы, находить выход из все новых и новых затруднительных положений, делая эту задачу понятной и выполнимой.
«Ну-ка покажи, где у нас лампочка? Ну, покажи, покажи – где лампочка? Где у нас свет горит? – спрашивает бабушка годовалого внука. – А часики где? Где они тикают? Во-о-он они, часики».
Мы говорим: «Дай мне ложечку», «Дай мячик», «Покажи, где лампочка», и нормальный ребенок, которому нет еще и года, после двух-трех попыток успешно справится с задачей. Не то у нашего с вами ученика. Самое, казалось бы, простое действие, которое ему надлежит выполнить, складывается из множества составляющих. Во-первых, что значит – лампочка? Именно лампочку нужно выбрать из окружающих предметов. Где она: справа? слева? сзади? сверху? снизу? Отыскивая глазами требуемый предмет, нужно перевести взор, привести в движение тело, поменяв его положение в пространстве: повернуться в нужную сторону, оглянуться, запрокинуть или опустить голову. Следует команда руке: руку надо вытянуть в нужном направлении, вытянуть также и палец.
Синтез всех составляющих у обычного ребенка осуществляется мгновенно, все команды мозга разными частями тела выполняются практически одновременно, его мозг, его «компьютер», моментально выдает решение. Наш с вами ученик сразу справиться со всем комплексом задач не в состоянии.
Если обычный ребенок крутится и вертится во все стороны, куда-то тянется, что-то достает, затем с места на место перекладывает, наклоняется, поднимая то, что уронил, оборачивается, чтобы проследить за проезжающей машиной либо реагируя на оклик, то он знает, чего он хочет, и совершает свои действия осмысленно и целенаправленно. Аутичный ребенок мало того что плохо соображает, еще и не натренирован двигаться. Он может подолгу оцепенело сидеть на одном и том же месте, до бесконечности производя одно и то же однообразное движение. И если мы просим его что-то дать, взять, отнести, переставить, то следует учитывать, что, во-первых, он должен осознать, что именно он должен сделать по нашей просьбе, во-вторых, это действие совершить, и то, и другое для него одинаково непросто. Именно поэтому каждое отдельное движение нужно тренировать. «Где тут кот, а где собачка? Ну, давай, давай, быстренько соображай!» Быстренько не получается. Вы еще долго будете держать его руку и направлять ее в нужную сторону – и это несмотря на то, что он уже давно знает, где на картинке собака, а где кот. Палец в нужное изображение он уткнет сам, а вот разрабатывать точное движение всей руки в сторону, вверх, вниз и т. д., указывая на далеко отстоящий предмет, он будет с нашей помощью: аутичный ребенок производит это движение вяло, неуверенно, нерешительно, слишком медленно. Помогать ему приходится долго. Мы просим его показать, где мама, где бабушка, а где он сам, и сразу это не получается. Сначала пусть учится показывать, где мама, затем – отдельно – себя, затем объединяем обе задачи в одну – и все это опять-таки с нашей помощью. Нескоро наступит момент, когда он сможет справиться с этим самостоятельно, но отступать не следует.
Я наблюдала за тем, как ребенка с тяжелыми последствиями перенесенного менингита обучали определять разницу между командами «возьми» и «дай». Эта разница представлялась педагогу, маме и бабушке настолько очевидной, что казалось абсолютно непонятным, почему ребенок ее не улавливает. Теряя терпение, они бились над заданием – ничего не выходило.
Главная ошибка и дефектолога, и родных заключалась в том, что и «взять», и «давать» они учили ребенка на одном и том же уроке, одновременно. Мама держала мяч в руках, и для того, чтобы мяч дать, сначала нужно было взять его из рук мамы, а затем его маме вернуть. «Ну возьми, возьми мячик! А теперь дай! Дай мячик маме!» Какое действие обозначает каждое из этих слов? Что значит «взять» и что значит «дать»? Взять – это захват предмета и движение руки к себе, дать – захват предмета и движение от себя. Ребенок сбит с толку, он не может определить направление каждого последующего движения – к себе? к маме? Мяч переходит из рук в руки, туда-сюда, туда-сюда, и где тут «взять» и где тут «дать» – непонятно.
Куда разумнее было бы разделить два этих действия, начав с глагола «дай»: это и проще, и естественнее. Мяч не должен находиться в руках у мамы: пусть он лежит отдельно, на полу либо на столе. Слово «возьми» мы вообще не должны пока употреблять. Сначала «дай», затем «покажи», затем «скажи» – вот самые первые просьбы, с которыми мы подступили бы к годовалому брату либо сестренке нашего малыша с синдромом Дауна. Такова была бы их последовательность, не правда ли? Брать дети учатся без наших просьб, возьмут то, что нравится, так что оглянуться не успеешь!
Ни команд, ни просьб, ни требований что-то нам принести, подать, убрать ребенок не выполняет. Причину этого окружающие объясняют тем, что он упрям, ленив, непонятлив, просьб наших вообще не слышит и т. п. На самом же деле он этому не обучен, и его надо тренировать.
Вот мы учим ребенка поднимать специально брошенный нами кубик: одной рукой помогаем ему нагнуться, другой держим его руку, направляем ее к кубику, с нашей помощью он захватывает кубик, и мы поднимаем его с пола. Ну и кто этого не знает? Все знают. Делать все это пробовали, ну и что? Вообще нагнуться может, а нагнуться, чтобы по нашей просьбе что-то поднять, – нет. Когда мы играем с ним в мяч, за мячиком бегает, приносит его, поднимает с пола. А нас он не слушается, потому что не понимает смысл слова «подними».
И вот вопрос – сколько? Сколько раз пробовали? И как? Делать это нужно спокойно, мягко, терпеливо: вы ребенка не наказываете, не требуете: «А ну-ка подними то, что бросил!», вы его просто учите тому, чего он не умеет. Учите осваивать различные движения и, выбирая их направление, менять положение тела. Обратите внимание, как много действий вы совершаете вместо ребенка, действий самых простых, естественных, элементарных, тех, которые, как нам кажется, он вполне мог бы совершать сам. «Ни дверь сам не откроет, ни мыла с умывальника не возьмет, ничего не делает», – жалуется бабушка.
Вы думаете, он не наблюдательный? Наблюдательный, уверяю вас! Еще и какой наблюдательный! В книге «Говори! Ты это можешь» я писала о двух аутичных мальчиках Васе и Саркисе. О Саркисе его мама как-то с горечью сказала: «Что вот этот шкаф, что мой сын…» Вася был ничуть не лучше. Что обнаружилось позднее? Много удивительных качеств. Если вы подойдете к делу разумно, то и есть ребенок сам научится, и одеваться, и мыться, и игрушки складывать.
Когда Глеб приходит на занятие, сопровождающие его мама либо бабушка спешат выдвинуть из-под стола стул, на котором Глеб сидит во время урока. Стул я немедленно задвигаю обратно: «Возьми стул с одной стороны, теперь с другой стороны. Двумя руками возьми». Сначала я Глебу помогала, мы выдвигали стул в четыре руки, теперь Глеб это делает самостоятельно с каждым разом все лучше и лучше. Мыло не берет? Всякий раз протягивайте его руку за мылом, пока он не возьмет его сам. Не спешите приходить на помощь немедленно. Ребенок сначала должен подумать, осмыслить то, что вы ему сказали. Может быть, он справится сам? Сначала мы его руку держим и направляем, потом достаточно только коснуться ее: касание будет напоминанием, сигналом «пуск», а потом уже и этого не понадобится.
Если вы ребенка кормите, потому что «сам не ест», то кормить будете вечно. Научите сначала просто взять ложку, потом научите держать ее, не выпуская из рук. Главная трудность – суп зачерпнуть и донести до рта: над этим движением придется поработать основательно. Ребенку надо ощутить, что ваши движения совместны, что не только вы орудуете ложкой, но и он тоже, он должен почувствовать это физически. Напоминаю: речь в данном случае идет об очень трудных детях. В основном это аутисты. Такие ученики у меня были и есть. Успех здесь в очень высокой степени зависит от настойчивости родных. Родные должны очень хорошо представлять себе, что одевать, кормить, убирать за ребенком, всячески его обхаживать не составляет особого труда, когда он маленький, и совсем другое дело – делать это, когда он вырастет. И потому постарайтесь не упустить время.
Аутичный ребенок сидит, словно каменное изваяние, далеко не всегда. Ему многое может нравиться: он и к окну вас тащит за занавеской прятаться, и в каравай с удовольствием играет, и книжки слушает, и картинки вместе с вами рассматривает – правда если нужно что-то показать в книжке, то он пользуется как указкой вашим пальцем. Степень отстраненности ребенка от окружающих может быть разной. Если, играя, аутичный дауненок подает вам мяч, колечко, кубик, машинку по вашей просьбе – это уже диалог, он уже не сам по себе, вас – двое, и вы в контакте.
«А теперь дай мячик бабушке!» – говорите вы. К игре присоединилась бабушка, и задача усложнилась: ребенок должен дать мячик определенному лицу, и выбрать это лицо даже из небольшого количества участников игры оказывается для него делом непростым. Чтобы он не слишком путался, сидеть вам следует на одних и тех же местах, игрушка пусть будет все время одна и та же, хорошо знакомая. И только тогда, когда ребенок хорошенько освоится, вы будете меняться местами и увеличите количество участников и количество игрушек.
Точно таким же образом мы начинаем приучать ребенка выполнять определенные действия за обедом, на прогулке и т. п.
Детям очень нравится плескаться в воде. Поставьте на табурет маленький тазик с теплой водой, положите рядом два куска мыла, сухую тряпку, небольшое полотенце, две какие-нибудь плавающие игрушки. Перед тем как ребенок опустит руки в воду, попросите его дать вам мыло, какую-нибудь из игрушек: плескаться в воде вы будете вместе. Пусть учится самостоятельно вытирать лужицу на табуретке, выливать воду из мисочки и затем ставить эту мисочку на место. «Дай мне ложку (вилку, кусочек хлеба), – говорите вы за обедом. – Дай большую ложку, дай маленькую». Мы постепенно вводим ребенка в круг самых обычных домашних дел, помогаем обживать окружающую его среду.
В комнате у Юры А. рядом со столом всегда стояла большая корзина с фруктами, и, проходя мимо нее вместе с мальчиком, я всякий раз останавливалась и просила его дать мне то лимон, то яблоко, то грушу, то банан. Казалось бы – что особенного? Но когда мы имеем дело с отрешенным от мира аутичным ребенком, добиться этого – большое достижение. Добились. Однако стоило выложить фрукты из корзины на стол, и мальчик начинал ошибаться: ему приходилось осваивать нечто новое, его сбивало с толку отсутствие корзины.
Приходя к Юре на урок, я приучала его подавать мне вешалку, чтобы я могла повесить свое пальто. Шкаф был заранее открыт, мама подводила к нему Юру, с ее помощью он снимал деревянные плечики и тут же выпускал их из рук – вешалка со стуком падала на пол. Я стояла, держа пальто в руках, но Юра, забыв о моем присутствии, поворачивался спиной и брел куда глаза глядят.
Наступил день, когда, завидя меня, с другого конца довольно длинного коридора Юра направился к шкафу, подошел к нему, вытащил вешалку, протянул ее мне. Это был абсолютно самостоятельный поступок.
Точно так же я приучала Юру брать у меня сумку и относить ее в комнату, а в комнате вместе с мамой придвигать к дивану маленький стол, вытаскивать из комода скатерть, накрывать ею стол и затем раскладывать на столе тетрадки и книжки. И точно так же, как вешалку, на полпути он выпускал сумку из рук, скатерть клал комком, а до книжек и тетрадок дело вообще не доходило. Однако я не отступала.
Такого рода обучение должно быть обязательным, систематическим – только в таком случае вы добьетесь желаемого результата. Все, чему мы обучаем ребенка с серьезными отклонениями от нормы, требует от нас неиссякаемого терпения и неукоснительного постоянства. Могу сказать, что никто из Юрочкиных домашних моему примеру не следовал: забывали либо не успевали, хотя остановиться у корзины с фруктами на одну-две минуты было не так уж сложно. Вешалку он подавал только мне, окружающие не утруждали Юру этой заботой.
Папа семилетнего Костика – того самого, что выливал горячий чай в мамины сапоги, – был страшно удивлен и очень обрадован, когда Костик вызвался донести до дому вытащенный из машины багаж. До этого, придя на урок, я постоянно вручала Костику свои сумки, он относил их в комнату, самостоятельно ставил на стол железный поднос, на поднос – подсвечник, приносил свечки, вытаскивал из сумки игрушки, карточки, фонарик. Костик прекрасно знал, где что лежит, великолепно обращался со всякого рода включателями и выключателями, запирал и отпирал любую дверь. Но когда Костик собирался на прогулку, штаны, рубашку, свитер ему надевала няня, и физически вполне крепкий, достаточно сообразительный мальчик по-барски разваливался в кресле, чтобы ему натянули носки.
Нашу домашнюю работу не переделать: готовим обеды, завтраки, ужины, моем, убираем. Подражая нам, нормальный ребенок берется за веник, вырезает кружочки из теста, во все стороны разбрызгивает воду – «стирает». Он повсюду лезет, во все суется, вызывая наш веселый смех, а то и досаду своими настойчивыми попытками «помочь».
Ребенок с патологией иной раз вообще не замечает наших трудов, живет как на другой планете. Нам и в голову не приходит, что он мог бы принять участие в этих трудах. Куда проще сделать все самому, не отвлекаться, не раздваиваться, обучая его, – ведь это дополнительное напряжение и дополнительная нагрузка на нашу нервную систему. Однако чем больше пусть поначалу ритуальных действий научится совершать аутичный ребенок, чем больше приобретет полезных привычек, тем лучше будет осваивать, осмысливать и обживать окружающую среду.
Ребенок уже не возражает против нашего присутствия, он заинтересован в нашем участии, и мы очень мило проводим время, сидя на ковре и занимаясь нашими игрушками. Используем все, что может привлечь внимание. Это может быть панель, на которой размещен разнообразный набор того, что свистит, гудит, крутится, издает всевозможные звуки: то волк завывает, то утка крякает, то раздается пение, то веселый смех, то петушок поет, то курочка кудахчет. Развиваем неловкие пальчики, совсем непросто орудовать ими – за штырек ухватиться, один палец в дырочку просунуть, чтобы крутить им телефонный диск, и т. д.
Кое-чему наш малыш уже научился. У него появились свои предпочтения, любимые предметы: ложки, колотушки, барабанчик, книжки, которые он выбирает из общей кучи и подолгу самостоятельно листает. Все, что он умеет, он все-таки проделывает отнюдь не по нашей просьбе, но исключительно по собственному желанию. И уж если он научился из двух-трех игрушек выбрать ту, которую мы у него попросили, то это очень большое достижение.
Игрушек у ребенка много, однако, играя с ними, он должен учиться не просто манипулировать предметом, все эти игры не более чем приправа к основному блюду: до тех пор пока с каждым из окружающих его предметов, в частности с игрушкой, он не соотнесет конкретное название, в отношении обучения речи мы не продвинемся ни на шаг.
Мы определяем словом и сам предмет, и действие, которое производит с ним ребенок. Эти слова накапливаются всякий раз с появлением новой игрушки. Они должны быть точными, четкими, очень конкретными. Не будьте многословны: излишняя информация отвлекает внимание ребенка, утомляет его и мешает ему выделить главное.
Направляем луч фонарика то в потолок, то в угол, в зеркало, на люстру, на мамин портрет и т. д. Следя за движением луча, ребенок водит глазами и попутно запоминает названия предметов, которые всегда находились на одном и том же месте, но на которые он никогда раньше не обращал внимания. Самостоятельно размахивая фонариком, малыш делает уморительно смешные движения – «быстро-быстро» либо «медленно-медленно». Игра с фонариком, помимо прочего, приучает его смотреть вдаль и менять направление взгляда.
Свечки, фонарики, игрушки, карточки… О карточках забывать не будем ни в коем случае. На то, чтобы ребенок приучился играть со своими карточками, раскладывать их, по-своему сортировать, не расшвыривал бы их во все стороны, ушло немало времени. Теперь он знает, что это не просто бумажки, пригляделся к ним и полюбил их. Мы берем две картинки с изображением хорошо знакомых предметов и показываем их ему: во-первых, он должен на карточки посмотреть, во-вторых, показать то, что у него просят, в-третьих, назвать то, что на картинке изображено. Смотреть смотрит, но не показывает и уж тем более ничего не называет. «Возьмем ложечку, молоко нальем в чашку, вымоем руки мылом, где наши варежки, куда они запропастились?» – ребенок неоднократно слышал все это. И хотя варежки Глеб самостоятельно не надевает, есть сам еще не научился и руки ему моет мама, что такое варежки, ложка и мыло, представление как будто бы должен иметь?
На столе перед Борей две карточки – на одной машина, на другой очки. Предметы эти он видел в своей жизни тысячу раз: вся Борина семья носит очки, а на машине Боря постоянно ездит с родителями. Видеть видел, ездить ездил, но что машина это машина, а очки это очки, ему невдомек.
И Глеб, и Боря – мальчики, что называется, не от мира сего. С изображением известных им предметов они не увязывают их названий, хотя должны были слышать их множество раз, – так, как будто звучащий вокруг них мир это хаос, смешение разнородных шумов, которые они не способны дифференцировать.
Самое поразительное – не понимать того, что каждый предмет имеет свое название, может иной раз абсолютно контактный, эмоциональный, подвижный ребенок без каких-либо признаков аутизма.
Сереже, приехавшему из Екатеринбурга, было 9 лет, и он не говорил. Сначала Сережа научился повторять за мной слова по слогам, потом стал произносить их целиком. Таких слов набралось достаточно много, говорил он их чисто, но показать на картинке, где дом, собака, кошка, машина, не мог. И если Саркис, Вася, Андрей пребывали в оцепенении, то этот мальчик был очень живым. Подражая тому, что видел по телевизору, он показывал дома театрализованные представления, устраивал на столе сражения игрушечных солдат, в идеальном порядке выстраивал полки пехотинцев, кавалерию, отряды пограничников – а сам не мог показать, где у него ухо, а где глаз. Сережа был активным, сообразительным, коммуникабельным ребенком. Для меня явилось полной неожиданностью то, что в свои 9 лет он не был этому обучен. Мне казалось, что в мире не существует родителей, которым не приходило бы в голову начать с того, с чего обычно начинают, а именно: учат ребенка показывать, где у него нос, где глазки, где на картинке кот, а где собачка, где домик, где машинка. Сережа этого не знал.
Ко мне обращается мать семилетнего ребенка: «Научите моего сына говорить». Мало того что у мальчика синдром Дауна – он еще слепой, у него случаются припадки эпилепсии. С таким «букетом» его никуда не берут, сидит дома.
Я задаю матери ряд обычных вопросов: понимает ли ребенок обращенную к нему речь, в состоянии ли он выполнить какую-то элементарную просьбу, определит ли за обедом, где у него тарелка, а где ложка, отличит ли на ощупь игрушечного мишку от зайчика? Нет, ничего этого он не знает и не умеет.
Но ведь прежде чем определить предмет словами, тот, у кого есть зрение, определяет его глазами, тот, кто не видит, – при помощи осязания. Этому учат, существуют специальные методики. «Он у нас раньше показывал, где у него носик, где уши, где глазки, но дальше мы не учили, не знали, как учить».
Как же так? Почему родители ограничились «ушками» и «глазками»? Наши слова – это изреченные мысли. Какие могут быть мысли у ребенка, который не получает информации об окружающем мире?
Становится понятным, что первое, чего следует добиться от ребенка, – это осознание смыслового значения слова. Добиваться этого мы будем при помощи предметных логопедических карточек.
Логопедические карточки существуют давным-давно. Что нового в том, что ребенок учится узнавать по карточкам названия всевозможных предметов? Все это так, и тем не менее хотела бы я на вас посмотреть, когда вы подступаете с ними к аутичному ребенку.
И Глеб, и Андрей, и Боря давно преодолели свое негативное отношение к карточкам. Но одно дело – перебирать те, что нравятся, и совсем другое – при помощи указательного пальца отвечать на вопросы педагога: запоминать, показывать, отличать одно от другого.
Аутичному мальчику Пете я из урока в урок показываю одни и те же две карточки: на одной из них машинка, на другой кошка. «Это машина. Это кошка. Покажи, где машина, а где кошка», – говорю я и прижимаю Петин палец к соответствующей картинке.
Петя в состоянии абсолютно безотчетно, словно эхо, повторить за мной услышанное слово (что он и делает всякий раз, глядя на картинку), но отличить машинку от кошки пока не может, палец свой прижимает наобум. Кстати – если ребенок, подражая вам, начнет просто указывать на какую попало карточку, не огорчайтесь. Наоборот – радуйтесь! Одну вашу просьбу он уже выполнил, слово «покажи» связывается у него с конкретным действием. Иной раз ребенок не в состоянии показать на картинке нужный предмет, потому что не понимает, что значит слово «покажи».
Слова, обозначающие действия, ребенок с тяжелой патологией запоминает гораздо хуже, чем слова, обозначающие предметы: запоминание названия предмета связано у него с конкретным зрительным представлением. И если определить и запомнить, глядя на неподвижную картинку, что действующее лицо на ней подметает, что-то бросает, вертит, ребенку все-таки помогает понять предмет, которым это лицо орудует, то определить, что такое смотрит, а тем более думает, объяснить ему бывает очень трудно. Более подробный разговор об этом нам с вами еще предстоит.
Для того чтобы ребенок понял смысл поначалу самых простых глаголов, сопровождая его действия соответствующими словами, мы помогаем ему взять, дать, наклониться, через что-то переступить, помахать рукой – все это самые обычные движения тела. Ребенку бывает достаточно с нашей помощью проделать их несколько раз, и он улавливает смысл нашей команды. Но не всегда. Есть дети, которых нужно тренировать очень долго, прежде чем они поймут, что от них требуется. Великолепным образом Женя запоминает – при этом чисто произносит – названия отдельных предметов, изображенных на карточке, точно так же, как замечательно быстро учится читать, но самая простая сюжетная карточка вызывает у него затруднение. Сколько мы ни бились, самостоятельно определить, что девочка на картинке «сидит на стуле», а мальчик «держит палку», он очень долго не мог. Выполнить команду «дай» и «покажи» Глеб был не в состоянии даже через два с половиной года занятий, хотя к этому времени уже прекрасно изображал, как лиса с котом дерутся из-за денег, как они вниз головой повесили Буратино, как гоняются друг за другом две собаки, как крепко держится мальчик за шею гуся, – все это он показывал по собственной инициативе, а не по моему требованию. Глеб – это мальчик «три в одном»: синдром Дауна, аутизм и стойкий негативизм образуют у него очень сложный комплекс. Три года назад комплекс этот исчерпывающе определялся четырьмя словами – «полное отсутствие всякого присутствия», чего сейчас сказать уже никак нельзя. Шаг за шагом Глеб осваивает все новые территории, и это, как говорится, «уже совсем другая история», заслуживающая отдельного разговора.
Терпение и труд все перетрут. Через два с половиной месяца (!) неустанных трудов шестилетний Петя в состоянии показать, где машинка, где кошка, и правильно их назвать: он узнает эти предметы даже на рисунках своей сестры Кати, а Катя отнюдь не выдающийся художник. Примерно столько же времени понадобилось семилетнему Саркису для того, чтобы разобраться, где у него мама, а где он сам. Прибавляем к машинке и кошке лягушку, затем домик и т. д., заучивая все новые и новые названия предметов. Делать это надо очень постепенно, и если ребенок начинает путаться, новую карточку немедленно убираем. От ребенка, не умеющего говорить, ни в коем случае не следует добиваться того, чтобы он учился показывать и одновременно называть предмет, изображенный на картинке. Речью займемся позднее. Пете с его эхолалией некоторым образом повезло: синдрома Дауна у него не было, говорил он хоть и невпопад, но чисто.
Еще через некоторое время в наших занятиях с Петей наступает новый, очень существенный прорыв. Я молча показываю очередную карточку – и, внимательно в нее вглядевшись, Петя тихо, но уверенно произносит: «Ботинка». Точно так же через некоторое время мальчик узнал и назвал качели, затем собаку, и мы приступили к карточкам, на которых дети ели, спали, гуляли и т. д. «Пить, спит, едем, гулять», – объявлял Петя, как попало употребляя глаголы, но в данном случае такого рода ошибки значения не имели.
Это было огромным, очень важным достижением. Петя понял, что каждый предмет, все то, что его окружает, имеет собственное название и что от него требуется это название определить, при этом – вслух. На вопрос «Как тебя зовут?» мальчик стал уверенно отвечать: «Петя».
Удивительно, как проявляется иной раз в ребенке радость узнавания смыслового значения слова. О Васе Андрееве, мальчике с церебральным параличом, я уже писала. Все то время, что Вася с тусклым взором, никогда не улыбаясь, сидел за столом, передвигая игрушки, либо рвал на клочки газеты, бабушка и прабабушка читали ему книжки. Никакой реакции на прочитанное Вася не обнаруживал. Когда мальчик заговорил, выяснилось, что все книжки он запомнил наизусть. Как-то я принесла ему свою сказку про маленького ослика и прочитала: «Ослик подошел к речке, посмотрел на свое отражение и первый раз в жизни увидел, какие большие у него уши». Внезапно Вася залился смехом, он хохотал без остановки, и мы с бабушкой никак не могли понять, в чем дело. Наконец из груды книг, лежащих на столе, Вася вытащил одну книжку, открыл ее на нужной странице и ткнул пальцем в текст, в котором присутствовало слово «отражение». Я поняла причину Васиного восторга: он радовался тому, что неожиданно для самого себя понял, что это слово значит.
В автобиографическом рассказе «У истоков дней» И. Бунин пишет: «Мои [ребенка трех лет. – Р. А.] восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружающее меня внезапно изменилось, ожило, приобрело свой собственный лик… Я принял этот день за начало своего бытия».
Мир озарился светом – в переносном, разумеется, смысле – и для слепоглухонемой семилетней американской девочки Елены Келлер, когда учительница, подведя ее к крану с водой и подставив ладонь Елены под струю, написала на этой ладони слово «вода». С этого момента, с осознания смысла написанного на руке слова, начался для ребенка, ослепшего и оглохшего в полтора года и с тех пор пребывавшего во мраке, новый период – период феноменальных успехов в обучении. В четырнадцать лет, по-прежнему слепая и глухая, она начала учиться говорить на иностранных языках. И свободно говорила затем на немецком и французском, читала по-латыни и по-гречески, обнаружила большие математические способности и великолепный писательский дар, окончила Кембриджский университет и в нем же преподавала. Оказывается, бывает и такое. «В мире было два великих человека – Наполеон и Елена Келлер», – так отозвался об этом феноменальном явлении американский писатель Марк Твен.
С Петей мы продолжали двигаться дальше – до тех пор, пока в дело не вмешались Петины родные: им захотелось ускорить темп нашего продвижения. Вопросы посыпались на Петю градом: «Как зовут папу? А маму? А сестричку? Маму Ира зовут, Ира, понял? А сестричку Катя. Скажи: Ка-тя». Как-то раз на уроке я задала привычный вопрос: «Как тебя зовут, мальчик?» – «Машинка», – ответил мне Петя. Все пошло прахом. Петя стал называть себя «лягушкой», «Катей», «папой», лягушку – «ботинком» и т. д., словно в исправно действующей музыкальной шкатулке сломалось какое-то хрупкое колесико и очень тонкое устройство перестало работать.
Но это было не все. На обороте наших карточек рукою Петиной мамы были сделаны поправки: не «ботинка», а «ботинок», не «гулять», а «они гуляют», не просто «спит», а «дети спят». От аутичного ребенка, перед которым только-только забрезжил свет, который сделал первые шаги на пути осознанного восприятия мира, сказав свои первые осмысленные слова, требовалось одновременно с этим разобраться в спряжениях, склонениях, числах. Невыполнимая задача.








