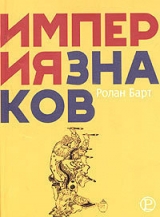
Текст книги "Империя знаков"
Автор книги: Ролан Барт
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
ББК 87.8 фр
Б2б
Барт Ролан
Б 26 Империя знаков / Пер. с франц. Я. Г. Бражниковой. – М.: Праксис, 2004. – 144 с.
ISBN 5-9 О1574-31-1
Иллюстрированный сборник путевых заметок знаменитого французского интеллектуала, написанный по итогам его путешествия в Японию и освещающий различные стороны японской жизни с точки зрения человека западной культуры, одновременно восхищенного и удивленного жизненным миром иной цивилизации.
ББК 87.8 фр
ISBN 5-901574-31-1
© Editions d'art Albert Skira, Geneve, 1970 © Я. Г. Бражникова, пер. с франц., 2004 © А. Кулагин, оформление обложки, 2004 © Издательская группа «Праксис», 2004
СОДЕРЖАНИЕ
Где-то там 9
Незнакомый язык 13
Без слов 17
Вода и ком 19
Палочки 25
Пища, лишенная центра 29
Промежуток 35
Пашинко 40
Центр – город, центр – пустота 44
Без адресов 47
Вокзал 52
Пакеты 58
Три письма 64
Одушевленное/неодушевленное 74
Внутри/снаружи 78
Поклоны 8i
Падение смысла 87
Избавление от смысла 93
Случай 98
Так Ю5
Писчебумажная лавка но
Написанное лицо 115
Миллионы тел m
Веко
129
Письмо жестокости
Кабинет знаков
Список иллюстраций 141
Этот текст не «комментирует» картинки. А картинки не «иллюстрируют» текст: каждая из них была для меня лишь чем-то вроде визуальной вспышки или озарения, подобного тому, которое Дзен называетсатори; переплетаясь, текст и картинки обеспечивают перетекание, обмен означающими: тело, лицо, написание, и из них позволяют считывать пространство символов.
ГДЕ-ТО ТАМ
Если бы мне захотелось выдумать несуществующий народ, я мог бы наделить его вымышленным именем и откровенно рассматривать его как материал для романа, основать этакую новую Гарабанию, не рискуя скомпрометировать моей фантазией никакую реально существующую страну (однако в этом случае я компрометирую мою собственную фантазию, прибегая к литературным символам). Я мог бы также, не претендуя на то, чтобы отобразить или проанализировать нечто реальное (это все красивые слова западного дискурса), выявить где-то в мире (где-то там)определенное количество черт (слово отсылает одновременно к графике и к письменности) и из этих черт свободно выстроить систему. И эту систему я назову: Япония.
Таким образом, Восток и Запад не должны пониматься здесь как «реальности», которые можно было бы пытаться сблизить или противопоставить с точки зрения истории, философии, культуры или политики. Я не созерцаю влюбленным взором восточной сущ-
1. Намек на сборник гротескно-фантастической прозы А. Ми-шо Путешествие в Великогарабанию(1936). – Прим. перее.
ности, Восток мне безразличен, он просто поставляет мне набор черт, которые в этой придуманной игре позволяют мне «лелеять» идею невероятной символической системы, полностью отличной от нашей. То, что привлекает внимание в рассмотрении Востока, это не другие символы или другая метафизика, не другая мудрость (хотя последняя и проявляется как нечто желанное); но – сама возможность отличия, изменения, переворота в области символических систем. Надо бы создать когда-нибудь историю нашей собственной непросвещенности, показать непроницаемость нашего нарциссизма, отметить на протяжении веков те редкие призывы отличного,которые мы смогли расслышать, и те идеологические возмещения, которые неизбежно следовали за ними и позволяли привыкнуть к нашему незнанию Азии, прибегая к известным уже нам языкам (Восток Вольтера, Азиатского журнала,Лоти или Эр Франс).Разумеется, сегодня многое предстоит еще узнать о Востоке: огромный труд познаниянеобходим сейчас и будет необходим в будущем (его сдерживание – не более, чем результат идеологического затмения), но необходимо также, чтобы, оставив по обе стороны огромные территории, скрытые тенью (капиталистическая Япония, американское культурное влияние, техническое развитие), узкий луч света отправился на поиск, поиск не новых символов, но самого зияния, образующего пространство символического. Это зияние не мо-
ю
жет проявиться на уровне культурных продуктов: то, что присутствует в нем, не принадлежит (по крайней мере так предполагается) ни японскому искусству, ни городской архитектуре, ни национальной кухне. Автор никогда и ни в каком смысле не стремился фотографировать Японию. Скорее наоборот: сама Япония освещала его множеством вспышек; или, еще лучше: Япония принудила его к письму. Это была ситуация, в которой личность переживает некоторое потрясение, переворачивание прежнего прочтения, сотрясение смысла, разорванного и обнажающего внутри себя не заместимую ничем пустоту. При этом сам объект продолжает оставаться значимым и желанным. В конечном счете письмо есть тоже своего рода са-тори:это сатори (событие Дзен) есть более или менее сильный подземный толчок (который невозможно зарегистрировать), сотрясающий сознание и самого субъекта, опустошающий речь. Эта же пустота речи порождает письмо; из этой пустоты исходят те черты, при помощи которых Дзен, избавляясь от всякого смысла, описывает сады, жесты, дома, букеты, лица, жестокость.
НЕЗНАКОМЫЙ ЯЗЫК
Мечта: знать иностранный (странный) язык и вместе с тем не понимать его: замечать его отличие, которое не возмещалось бы никакой поверхностной социальностью языка, его общеупотребительностью; знать положительно преломляющиеся в этом новом языке невозможности нашего языка; выучить систему непостижимого; создать наше «реальное» по законам иного монтажа, иного синтаксиса; обнаружить немыслимое до этого положение субъекта в высказывании, сместить его топологию; одним словом, погрузиться в непереводимое, испытать от этого неизгладимое потрясение, – вплоть до того, что в нас уже поколеблется и сам Запад, и законы нашего собственного языка, что достался нам от отцов и делает нас самих отцами и носителями культуры, которую именно история превращает в «природу». Как известно, ключевые понятия аристотелевской философии в каком-то смысле сложились под принуждениемглавенствующих сочленений греческого языка. И, напротив, как приятно было бы проникнуть в те неустранимые различия, что может навеять нам в своих проблесках далекий от нас язык. Так, статья Сепира или Уорфа о языке чинук, нутка, хопи, работа Гране о китайском
13
языке или рассказ приятеля о японском открывают романическое целое, представление о котором невозможно получить ни из каких романов, но лишь из некоторых современных текстов, позволяющих усмотреть тот пейзаж, о котором и не догадывается наша собственная речь.
Так, например, широкое распространение в японском языке функциональных суффиксов и сложность энклитик предполагают, что субъект проявляется в высказывании через предупреждения, повторы, замедления и настаивания, конечная масса которых (здесь уже не приходится говорить просто о словесном ряде) превращает субъекта в огромную пустую оболочку речи, а не в то наполненное ядро, которое извне и свыше направляет нашу речь таким образом, что то, что нам представляется избытком субъективности (ведь говорят же, что японский язык выражает ощущения, а не констатирует факты), является, напротив, способом растворения, истекания субъекта в раздробленном, прерывистом, растолченном до пустоты языке. Или вот еще: как и многие языки, японский отличает одушевленное (животное и/или человек) от неодушевленного именно на уровне глагола быть;а вымышленные персонажи, которые введены в историю (вроде: жил был когда-то король)помечены неодушевленностью; в то время как все наше искусство старается во что бы то ни стало установить «жизненность», «реальность» романических персо-
14
[Дождь, Семена, Рассеивание,
Нить, Ткань, Текст.
Письмо.]
нажей, сама структура японского языка выводит их в качестве производных– знаков, избавленных от необходимости соотноситься с живыми существами. Или же нечто еще более радикальное, поскольку необходимо уловить то, что не улавливается нашим языком: можем ли мы представить себеглагол без субъекта и без атрибута, который при этом остается переходным, например акт познания без познающего субъекта и без познаваемого объекта? Между тем именно такого представления требует от нас индийская дхьяна,источник китайского чанъи японского дзен,– слово, которое невозможно перевести как медитация,не привнеся в него субъекта и Бога: прогоните их, они вновь вернутся, они оседлали наш язык. Эти и множество других фактов убеждают, сколь смехотворно пытаться оспаривать устройство нашего общества, ни на минуту не задумываясь о границах того языка, при помощи которого (инструментальное отношение) мы претендуем его оспаривать: все равно что пытаться уничтожить волка, удобно устроившись в его пасти.
Ценность этих упражнений в неправильной грамматике хотя бы в том, что возникает подозрение относительно идеологии самого нашего языка.
БЕЗ СЛОВ
Шумящая масса незнакомого языка образует прекрасную защиту, обволакивает иностранца (даже если эта страна и не является враждебной) звуковой оболочкой, блокирующей для него все различения, существующие в его родном языке: территориальное и социальное происхождение говорящего, уровень его культуры, образования, вкуса, образ, в рамках которого он подает себя как личность и с которым обязывает вас считаться. Какой отдых для того, кто оказался заграницей! Здесь я защищен от глупости, пошлости, тщеславия, манерности, национальности, нормальности. Незнакомый язык, дыхание или эмо^ циональное веяние – одним словом, чистую значимость – которого я между тем ощущаю, создает вокруг меня, по мере моих перемещений, легкое голово^ кружение, вовлекает меня в свою искусственную пустоту, которая осуществляется лишь для меня одного: я живу в промежутке, свободном от всякой полноты смысла. Каким образом вы обходились там с языком?Подразумевается: Как вы обеспечивали эту жизненную необходимость в общении?или, точнее, то идеологическое утверждение, которое опровергается не-
17
посредственным общением: коммуникация возможна только в речи.
И вот оказывается, что в этой самой стране (Японии) империя означающих настолько широка, настолько превосходит речь, что обмен знаками сохраняет чарующие богатство, подвижность, утонченность, несмотря на непроницаемость языка, а иногда даже благодаря этой самой непроницаемости. Так происходит потому, что тело там существует, раскрывается, действует, отдается без истерии, без нарциссизма, но повинуясь чистому эротическому движению, хотя и тонко скрываемому. В общении задействован отнюдь не голос (с которым мы отождествляем «права» личности; да и что он может выражать? нашу душу – безусловно чистую? нашу искренность? наш престиж?), а все тело (глаза, улыбка, прядь волос, жест, одежда) обращается к вам с каким-то лепетом, инфантильность или отсталость которого полностью устраняется по мере овладевания культурными кодами. Разумеется, чтобы назначить встречу (при помощи жестов, рисунков, имен собственных), потребуется час. Но в течение этого часа, потраченного на сообщение, которое, будучи произнесено вслух, тотчас лишилось бы смысла (одновременно такое важное и ничего не значащее), все тело другого оказывается познанным, испробованным, принятым и развернувшим (без видимого конца) свой собственный рассказ, свой собственный текст.
ВОДА И КОМ
Поднос с едой кажется изысканной картиной: это рамка, в которую заключены всевозможные предметы, выступающие на темном фоне (чашечки, коробочки, плошки, блюдца, палочки, меню, серый – кусочек имбиря, оранжевый – несколько ломтиков овощей, темный фон – соус), и поскольку все эти емкости и кусочки еды мелкие и тонкие, однако весьма многочисленные, то можно сказать, что эти подносы воплощают саму живопись, которая, по определению Пьеро делла Франческа, есть «не что иное, как изображение тел и поверхностей, постоянно становящихся то больше, то меньше в соответствии с их границами». Однако этому порядку, восхитительному в момент его появления, суждено быть нарушенным, измененным согласно ритму поглощения; то, что сначала было застывшей картиной, превращается в станок или шахматную доску, пространство не для разглядывания, но для работы или игры; живопись, по сути, была лишь палитрой (рабочей поверхностью), с которой вы будете играть по мере того, как здесь зачерпнете кусочек овощей, а там – риса, тут – приправы, там – глоток супа, произвольно предпочитая одно другому, точь-в-точь как японс-
19
кий художник-график, стоящий перед баночками с краской, уверенный и вместе с тем нерешительный; подобным образом, без какого-либо отвержения или пренебрежения (речь ведь не идет о безразличии по отношению к еде – отношении, которое всегда остается моральным),питание приобретает отпечаток своего рода работы или игры, нацеленной не столько на переработку первичного сырья (что, собственно, и является объектом кулинарии;надо сказать, однако, что японская еда мало обработана, продукты свежими оказываются на столе; единственное воздействие, которое они успевают претерпеть, это резка), сколько на волнующее и вдохновенное собирание составных частей без какой-либо инструкции, которая определяла бы порядок их изъятия (вы можете свободно чередовать глоток супа, горстку риса, щепотку овощей): все дело поглощения состоит в компоновке; собирая щепотки, вы сами таким образом творите то, что едите; само же блюдо более не является неким овеществленным продуктом, приготовление которого у нас стыдливо отдаляется как в пространстве, так и во времени (у нас еда заранее готовится за кухонной перегородкой, этаком секретном месте, где все позволено,лишь бы продукт вышел оттуда – в сочетании с другими – украшенным, благоухающим и подрумяненным). Отсюда характер живости(что не означает естественности),присущий японской еде, которая, похоже, в любое время
20
года соответствует пожеланию поэта: «Изысканным кушаньем славить весну!»
От живописи японская пища заимствует также качество, которое в меньшей мере является непосредственно визуальным, но более глубоко укоренено в теле (оно связано с тяжестью и работой руки, чертящей или накрывающей на стол); это не цвет, но штрих.Скажем, вареный рис (который понимается совершенно особым образом и называется специальным словом, в отличие от сырого риса) определяется исключительно через противоречивость материи; он одновременно сплошной и разделяемый; его субстанциальное предназначение – быть фрагментом, легким конгломератом; рис является единственным весомым элементом японской кухни (противоположной по отношению к кухне китайской); он – то, что падает, в противоположность тому, что плавает; на картине он являет собой зернистую белизну, плотную и между тем рассыпчатую (в противоположность хлебу); то, что подается на стол сдавленным и слипшимся, мгновенно разделяется при помощи палочек, никогда, однако, не рассыпаясь, как будто это разделение неизбежно порождает новое сочленение; вот это-то размеренное и неполное разделение целого – помимо еды – и есть то, что предназначено к употреблению. Таким же способом – хотя и при участии противоположных субстанций – японский суп спешит добавить в эту красочную игру про-
21
дуктов свой светлый штрих (надо заметить, что само слово супявляется недостойно разжиженным для него, а потаж 1 отдает семейным пансионом). У нас ведь прозрачный суп считается пустым; здесь же – легкость бульона, струящегося подобно воде, крупицы сои или фасоли, перемещающиеся в нем, с одним-двумя тяжелыми элементами вроде веточки зелени, ниточки овощей или частички рыбы, которые рассекают это небольшое пространство воды – всё это порождает образ какой-то светлой плотности, питательности, лишенной жиров, эликсира, который тем действенней, чем чище и прозрачней – одним словом, это нечто водяное (в большей степени, чем водянистое), с привкусом моря, что наводит на мысль о животворящем источнике. Таким образом, японская еда возникает в системе снятой материи (от светлого к разреженному), в колебании означающего: здесь же закладываются первичные черты письма, построенного на своего рода мерцании языка. Такой предстает и японская еда: пища, которая пишется, подчиняясь жестам разделения и изъятия, которые вписывают ту или иную пищу не в поднос для еды, но в глубинное пространство, где в своем порядке располагаются человек, стол и вселенная (здесь нет ничего общего с подкрашенными композициями из еды, которые фотографируют для наших женских журна-
1. Густой овощной суп (франц.).– Прим. перев. 22
лов). Ведь письмо как раз и заключается в этом действии, которое соединяет актом творения все то, что никак не могло бы оказаться в плоском пространстве представления.
[Свидание
Откройте путеводитель: обычно там можно обнаружить немного лексики, но вся эта лексика касается скучных и бесполезных вещей: таможня, почта, гостиница, парикмахер, врач, цена. А между тем, что значит путешествовать? Встречаться: единственная лексика, которая действительно важна, это лексика свиданий.]
[Свидание– йакусоку, Вместе– хутаримо. Где?– докони? Когда?– итсу?]
ПАЛОЧКИ
На плавучем рынке Бангкока каждый из продавцов сидит в маленькой неподвижной пироге; он продает всякую мелочь: зерно, несколько яиц, бананы, кокосы, манго, пряности (если не брать в расчет того, чему нет названия). Тут все крошечное– начиная с него самого, включая его лодку и его товары. Западные продукты, переизбыточные, раздутые от своего достоинства и величия, связанные всегда с неким престижным предприятием, неизбежно приводят нас к чему-то тучному, большому, излишнему и обильному; восточные же продукты идут в противоположном направлении – они устремляются в сторону ничтожно малого: огурцу предстоит не нагромождаться или измельчаться, но быть разделенным или сдержанно раздробленным, подобно тому, как об этом говорит следующее хокку:
Разрезан огурец. Рисуя лапки ящерицы, его стекает сок.
Есть обратимость между микроскопичностью и съедобностью: эти вещи лишь для того так малы, чтобы быть съеденными, но и, напротив, они становятся
25
съедобными, с тем чтобы лучше выразилась их сущность, которая и есть крошечность.
Согласованность, существующая между восточной пищей и палочками, не может быть только функциональной или инструментальной: продукты нарезаются, чтобы ухватываться палочками, но и палочки существуют благодаря тому, что продукты мелко нарезаны; и материя, и ее орудие пронизаны единым движением: разделением.
У палочек существует множество функций, помимо назначения переправлять пищу из тарелки в рот (которое, кстати, отнюдь не основное, ведь для этого есть также пальцы и вилки), и эти-то функции относятся к их сущности. Прежде всего палочка – достаточно обратить внимание на ее форму – обладает указательной функцией пальца: она указывает на пищу, выделяет фрагмент, заставляет существовать посредством самого выбирающего жеста, который есть шифр; таким образом, вместо приема пищи в механической последовательности, когда мы лишь проглатываем друг за другом отдельные кусочки одного и того же блюда, палочка, указывающая и избирающая (а значит, предпочитающая на мгновение то, а не это), вводит в ритуал еды не порядок, но фантазию и своего рода праздность: во всяком случае это действие сознательное, а не механическое. Другое же назначение палочек – отщипывание кусочков пищи (а не жадное отхватывание, свойственное нашим вилкам); впро-
26
чем, щипать– слишком сильное, слишком агрессивное слово (слово, относящееся к скрытным девочкам, хирургам, портнихам и всевозможным подозрительным типам), так как продукт никогда не испытывает большего давления, чем это необходимо для того, чтобы поднять его и переместить; в действии палочек, тем более смягченном тем материалом, из которого они изготовлены – простым или лакированным деревом, – есть нечто материнское, выверенная сдержанность, с которой перекладывают ребенка: сила (в функциональном значении термина), а не импульс; это настоящая манера поведения по отношению к пище, что хорошо видно на примере длинных палочек повара, которые используются для приготовления, а не для еды: это орудие не пронзает, не разрывает плоть, не ранит ее, но всего лишь приподнимает, переворачивает и переносит. Ибо палочки (и это их третья функция), чтобы разделить – отсоединяют, раздвигают, ощупывают, вместо того чтобы отрезать и отхватывать, как это делают наши приборы; они никогда не насилуют продукт: они либо постепенно распутывают его (в случае с зеленью), либо преобразуют (в случае с рыбой или угрем), находя проемы в самой материи (и в этом смысле они ближе к пальцам, нежели к ножу). В конце концов, – ив этом, по-видимому, наиболее прекрасное из их назначений – палочки переносятпищу: либо, подобно скрещенным рукам, – подставка, а не щипцы – они проскальзывают под
27
щепотку риса и держат ее, поднося ко рту едока, либо, подобно лопатке (тысячелетним восточным жестом), они сгребают съедобный снег из чаши к губам. В любом употреблении, в каждом действии, которое они совершают, палочки противоположны нашему ножу (а также вилке, их хищническому заместителю): они – столовый прибор, который отказывается резать, хватать, измельчать, протыкать (действия, которые строго ограничены предварительным этапом готовки: торговец рыбой, сдирающий на наших глазах шкуру с живого угря, изгоняет этим предварительным жертвоприношением идею убийства из самой пищи); благодаря палочкам пища перестает быть добычей, над которой совершают насилие (мясо, на которое набрасываются), но превращается в гармонично преображенную субстанцию; палочки превращают предварительно разделенную материю в птичий корм, а рис – в молочные реки; они неустанно, заботливо, по-матерински переносят корм в клюве, оставляя нашему способу питания, вооруженному всякими пиками и ножами, лишь хищнические жесты.
ПИЩА, ЛИШЕННАЯ ЦЕНТРА
Сукиаки– рагу, в котором узнаются все составляющие, ибо готовится оно не сходя с места, на столе, прямо на ваших глазах, в то время как вы его едите. Сырые продукты (которые, однако, уже очищены от кожуры, вымыты и облачены в эстетичную, блестящую, разноцветную наготу, похожую на весеннюю одежду: «Все в ней – цвет, очертания, утонченность, эффектность, гармония, пикантность», – как сказал бы Дидро) собраны вместе и принесены на подносе; сама сущность базара предстает перед вами с ее свежестью, естественностью, разнообразием, даже упорядоченностью, которая привносит в простую материю обещание события; возрастание аппетита, связанное с этим смешанным объектом, продуктом рынка, который одновременно является товаром и самой природой – природой, выставленной на продажу, доступной для всеобщего потребления: съедобные листья, овощи, цукаты, кубики соевого паштета, сырой яичный желток, красное мясо и белый сахар (соседство бесконечно более экзотичное, завораживающее и более отвратительное, в силу своей визуальности, чем обычные солено-сладкиесмеси из китайской кухни, в которых, поскольку они подвергаются горячей
29
обработке, сахар виден лишь в карамельном блеске некоторых «лакированных» блюд); так вот, – все эти сырые овощи, первоначально отобранные и расположенные, как на картинах какого-нибудь голландца, от которой сюда переходят очертания, четкость, эластичная твердость кисти и цветной глянец (которые не знаешь, чему приписать – самой ли материи предметов, свету сцены, смазанной ли поверхности картины или же музейному освещению), постепенно перенесенные в большую кастрюлю, где они готовятся на ваших глазах, начинают терять свои цвета, границы и формы, размягчаются и видоизменяются, приобретая тот рыжий оттенок, который характерен для соуса; и по мере того как вы изымаете, на кончиках палочек, кусочки этого рагу, им на смену приходят следующие, еще сырые. Всем этим перемещением туда-сюда руководит ассистентка, которая, стоя позади вас, вооруженная длинными палочками, поочередно поддерживает, со своей стороны, то уровень содержимого в миске, то разговор: своим взглядом вы переживаете маленькую одиссею пищи, вы присутствуете при Закате Сырого.
Это Сырое – божество, покровительствующее японской кухне: все посвящается ему, и если приготовление совершается всегда на глазахтого, кому предстоит это есть (что является отличительной чертой японской кухни), то делается это с тем, чтобы посвятить его в таинство смерти того, что так
30
[Где начинается письмо? Где начинается живопись?]
[Свидание
Здесь– кокони. Сегодня вечером– комбан.
Сегодня– кио. В какое время?– нан дзи ни?
Завтра – асхта. Четыре часа– йо дзи.]
почитается. Почитается же в самой сырости (понятие, которое во французском языке подчеркивает, если употребить его в единственном числе, сексуальность языка, поскольку означает «непристойность», а если во множественном – «сырые» – некую «закулисную», анормальную и почти что табуирован-ную часть наших меню), похоже, отнюдь не то же самое, что у нас – не внутренняя сущность продукта, избыток соков и полнокровие (поскольку кровь – это символ силы и смерти), которые дают нам жизненную энергию; у нас сырость – состояние, в котором пища исполнена силы, что метонимически хорошо выражается в том, как обильно приправляют бифштекс. В японском же понимании Сырое по сути своей визуально; оно обнаруживает определенное цветовое состояние мяса или овощей (учитывая, что цвет никогда не исчерпывается набором оттенков, но всегда отсылает к осязаемости самой материи; таким образом, сашимиразворачивает перед нами не столько цвета, сколько противодействия: те, что преображают мясо рыбы, доводя его до состояния дряблого, волокнистого, растягивающегося, сжатого, шершавого и скользящего). Целиком зримая (мыслимая, обусловленная, подвластная взгляду, в том числе взгляду художника и графика), пища выявляет отсутствие глубины: съедобная субстанция лишена сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром(тем центром, кото-
33
рый подразумевается в нашем ритуале еды и согласно которому происходит заказ, сервировка блюд в определенном порядке); здесь все является украшением какого-то другого украшения, прежде всего потому, что на столе, на подносе еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых не претендует на исключительное место в порядке приема пиши: «есть» не означает следовать меню (расписанию блюд), но изымать легким прикосновением палочки то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному вдохновению, проявляющемуся во всей его неторопливости как косвенное, ничем не связанное сопровождение разговора (едва слышного); и еще потому, что эта еда – ив этом ее главная особенность – происходит в одном времени – времени ее приготовления и поглощения; сукиаки,блюдо, которое бесконечно готовится, поедается и «разговаривается» не вследствие каких-то технических сложностей, но потому, что по своей природе оно должно постепенно исчерпывать себя по мере готовки, и, следовательно, себя воспроизводить. Сукиакиотмечено лишь отправной точкой (то самое блюдо, полное разноцветных продуктов); исходя из этой точки, оно теряет различия между моментами и составляющими, оно лишается центра, становясь похожим на бесконечный текст.
ПРОМЕЖУТОК
Повар (который, впрочем, ничего не варит) берет живого угря, втыкает ему в голову длинную иглу, сдирает с него кожу и вычищает. Итогом этой быстрой (скорее мокрой, чем кровавой) сцены жестокости является некое кружево.Угорь (кусочек овощей или ракообразных), при жарке становящийся твердым подобно Зальцбургской ветви, здесь превращается в некий комок пустоты, сводится к сквозящим просветам: парадоксальным образом продукт предстает как видение некоего промежуточного, сквозящего объекта, что вдвойне удивительно, ибо эта пустота предназначена для того, чтобы насыщать (случается также, что продукту придают форму шара, подобного воздушному).
Темпураже вовсе лишена того смысла, который мы традиционно связываем с жаркой и выпечкой, а именно смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретает здесь свою сущность размолотого цветка; приправленное маслом, это позолоченное молоко остается настолько проницаемым, что сквозь него проступают другие кусочки пищи: розоватая плоть креветки, зелень специй, коричневый баклажан; это начисто
35
лишает выпечку привычных составляющих нашего пирожка с начинкой: оболочка, плотность, закрытость. Даже масло (но масло ли это, действительно ли идет речь о маслянистости'?),моментально впитывающееся салфеткой, на которой вам подают темпурув небольшой ивовой корзиночке, – это масло сухое, оно ничем не напоминает ту смазку, которой Средиземноморье и Восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которое сопутствует нашим продуктам, приготовленным на масле или на жире: они поджариваются, но не разогреваются. Здесь это обжигание холодных жирных кусков уступает место свойству, казалось бы, вовсе недоступному для жарки – свежести. Эта свежесть, которая проникает в темпурусквозь мучное кружево, высвечивая и наиболее жизнеспособные, и самые недолговечные продукты – рыбу и растительную пищу, – эта свежесть нетронутого и вместе с тем освежающего и есть свежесть масла. Рестораны, где готовят темпуру,различаются по степени использован-ности масла: в наиболее котирующихся – свежее масло; будучи использовано, оно продается во второсортный ресторан, и так далее; покупается не сам продукт и даже не его свежесть (а также не месторасположение или уровень обслуживания), но право первого его опробования.
Иногда бывает темпурав несколько слоев: тесто окружает (это лучше, чем обволакивает) перец,
36
который, в свою очередь, наполнен мидиями. Здесь важно отметить, что весь продукт состоит из кусочков (это основное состояние всей японской кухни, которой незнакомо заливание соусом, сметаной или покрытие коркой), не только из-за приготовления, но – и даже в основном – из-за погружения в субстанцию, прозрачную, как вода, и сплошную, как жир, из которой кусок выходит законченным, отдельным и названным, однако насквозь ажурным; очертания же настолько легки, что становятся отвлеченностью: продукт обволакивает лишь время (тоже весьма разреженное), лишь оно утяжеляет его. Говорят, что темпура– христианского (португальского) происхождения: это постное (tempora) блюдо, утонченное японскими техниками снятия и освобождения, существует уже в ином времени, не связанном с воздержанием и искуплением, но связанном со своего рода медитацией, одновременно созерцательной и питательной (поскольку готовится темпурана ваших глазах). Это медитация, направленная на то «нечто», что мы определяем, за неимением лучшего (а возможно, вследствие нашей понятийной косности), как легкое, воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, несуществующее, истинное название которому – промежуток, лишенный четких краев, или же пустой знак.








