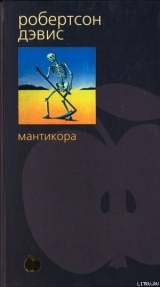
Текст книги "Мантикора"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
6
Возвращение после двухдневной передышки. Нет, передышка – не то слово. Я не страшился моих свиданий с доктором фон Галлер, как страшатся какой-нибудь болезненной или утомительной лечебной процедуры. Но у меня скрытный характер, и все эти откровения были мне не по нутру. В то же время сеансы у нее приносили мне огромное облегчение. Но благодаря чему? Разве они давали больше, чем исповедь? (Раскаяние, прощение и покой, как объяснил мне при конфирмации отец Нопвуд.) Неужели я платил доктору фон Галлер тридцать долларов в час за то, что церковь давала бесплатно (добавляя к этому еще и спасение души)? В ранней молодости я пытался исповедоваться. Отец Нопвуд не требовал, чтобы я стоял на коленях в маленькой кабинке, пока он слушает меня из-за обрешеченной дверцы. У него были современные взгляды, и он просто сидел чуть позади, чтобы я его не видел, мучительно описывая свои мальчишеские грехи. Конечно, я вставал на колени, когда он давал мне отпущение грехов. Но после двух-трех раз такого коленопреклонения, уходя, я чувствовал себя полным дураком. И тем не менее, несмотря на нашу ссору, я не стал бы теперь даже самому себе говорить о Нопвуде плохо; он был мне добрым другом в трудный момент моей жизни – один из множества таких трудных моментов, – и если я не смог дальше продолжать в том же духе, то другие-то смогли. Вот, например, доктор фон Галлер. Может быть, это каким-то образом связано с тем, что она – женщина? Как бы там ни было, но я с нетерпением ждал следующего часа с ней, пребывая в душевном состоянии, которое я не мог бы обрисовать, но которое не было безоговорочно неприятным.
– Секундочку… с похоронами вашего отца мы, кажется, закончили. Или нет? Больше ничего существенного не вспоминается?
– Нет. После надгробного слова, или панегирика, или что уж это было, дальше все прошло вполне предсказуемо. Краснобайствуя по поводу этого совершенно неуместного девиза, епископ так бесповоротно сместил акценты на какую-то фантастическую ноту, что на кладбище я не испытывал ни малейшего живого чувства, только изумление. Затем толпа человек в сто семьдесят из присутствовавших на похоронах отправилась назад в дом, чтобы выпить в память об усопшем, – на похоронах алкоголь, кажется, течет рекой, – потом они остались на фуршет, а когда и это закончилось, я понял, что отсрочка истекла и я должен заняться завещанием.
Я знаю, Бисти был бы рад помочь мне, а Дениза горела нетерпением поскорее прочесть документ, но после всех этих утренних ужасов ее позиции пошатнулись, и она не могла давить на меня. Поэтому я забрал у поверенных моего отца (я этих поверенных хорошо знал) копии для всех заинтересованных лиц и поехал к себе в офис, чтобы там внимательно прочесть текст. Я знал, что перекрестного допроса не избежать, а потому хотел изучить все досконально перед обсуждением в семейном, скажем так, кругу.
И был, можно сказать, разочарован. Никаких особых сюрпризов – вообще говоря, а не в частностях – завещание не содержало. Много места было отдано обширным деловым интересам отца, но поскольку они сводились к акциям в единой контролирующей фирме под названием «Альфа Корпорейшн», трудностей здесь не возникало, и его адвокаты вместе с адвокатами «Альфы» со всем этим разберутся. Он не оставил никаких крупных личных или благотворительных распоряжений, потому что большая часть его доли в «Альфе» переходила в фонд «Кастор».
Это семейное предприятие, благотворительный фонд, который делает пожертвования на всевозможные добрые – или представляющиеся добрыми – начинания. Такие вещи очень популярны среди богатых семей в Северной Америке. С нашим фондом отдельная история, но это к делу отношения не имеет. А если вкратце, то дедушка Стонтон основал фонд с целью содействовать обществам трезвости. Однако устав фонда был составлен не слишком аккуратно и вдобавок содержал расплывчатый пункт о работе «на благо общества», а поэтому, когда дела принял отец, он мало-помалу вытеснил из состава совета всех проповедников и вложил в фонд значительно больше денег. Таким образом, теперь мы поддерживаем искусства и общественные науки, во всем их безумном разнообразии. Имечко странноватое. Означает оно, конечно, «бобр», а потому в Канаде весьма уместно. Но еще оно означает особую разновидность сахара. Слышали такое сочетание – кастор-сахар? Это совсем мелкозернистый сахар, фактически сахарная пудра, его засыпают в такие сахарницы с дырочками, по типу солонок. Дело в том, что мой отец частично сделал состояние на сахаре. С сахара он начинал. А название давным-давно было придумано в шутку[11]11
Одно из значений слова castor – бобр; популяция этого животного в Канаде довольно многочисленна. Стонтон не говорит об еще одном очевидном значении, заложенном в названии: Кастором в греческой мифологии назван один из близнецов Диоскуров, сыновей Зевса и Леды; имена Кастор и Поллукс – символ неразлучной дружбы.
[Закрыть] приятелем моего отца Данстаном Рамзи. Но отцу оно понравилось, и он использовал его, когда создал фонд. Вернее, когда преобразовывал ту невнятную организацию, что оставил дедушка Стонтон.
Это крупное пожертвование «Кастору» обеспечивало продолжение всех его благотворительных и попечительских дел. Я был доволен, но не удивлен тем, что в завещании он недвусмысленно намекнул, что хотел бы видеть меня председателем «Кастора». Место в совете фонда у меня уже было. Это очень маленький совет, минимально возможный по закону. И вот одним росчерком пера отец сделал меня важной персоной в мире благотворительности – а ведь немного сохранилось миров, где у богатых есть право голоса, когда решают, на что пустить большую часть их денег.
Но в следующей части завещания, где речь шла о личных долях, меня ждал-таки щелчок по носу.
Я уже говорил, что человек я богатый. Немало денег досталось мне от моего деда – не то чтобы он завещал их мне напрямую, но так вышло, – к тому же я неплохо зарабатываю как адвокат. Но в сравнении с моим отцом я мелкая рыбешка, просто «зажиточный» – именно так он обычно с презрением называл тех, кто из нищеты, положим, выбился, однако не обладал никаким весом в горнем мире финансов. Первоклассные хирурги, лучшие адвокаты и некоторые архитекторы были именно что «зажиточными», но не имели ни малейшего влияния в том мире, где мой отец властвовал как король.
Поэтому я и не предполагал, что доля, которая достанется мне, сможет сильно изменить мою жизнь или избавит меня от всяких забот о хлебе насущном. Нет, я хотел узнать, как отец распорядился относительно меня в завещании, потому что понимал: это будет мерой того, как он меня оценивал. Как человека и как сына. Он явно полагал, что я могу распоряжаться деньгами, иначе не выдвигал бы меня на пост главы «Кастора». Но вот какой части его денег (а вы должны понять, что деньги были мерилом его представлений, его любви) я был, по его мнению, достоин?
Денизе была оставлена кругленькая сумма, но капитала она не получила, только немалый годовой доход пожизненно – или (это было очень похоже на отца) до тех пор, пока она остается его вдовой. Уверен, он думал, что таким образом защищает ее от охотников за приданым; но еще он не подпускал охотников за приданым к тому, что принадлежит или принадлежало ему.
Неплохая сумма была оставлена «моей дорогой дочери Каролине», и эти деньги переходили к ней немедленно и без каких-либо оговорок – потому что если бы Бисти в один прекрасный день подавился в своем клубе рыбной косточкой, а Каролина тут же вышла бы снова замуж, отец и глазом не моргнул бы.
Очень крупный капитал был завещан на основе доверительного управления «моим дорогим внукам, Каролине Элизабет и Бойду Стонтону Бастаблам и в равных долях per stirpes[12]12
Per stirpes (лат.) – «в порядке представления»: метод разделения наследства, согласно которому потомки скончавшегося наследника совместно получают причитавшуюся ему долю.
[Закрыть] любым законным детям моего сына Эдуарда Дэвида Стонтона со дня их рождения». Ну вот, теперь вы сами видите.
– Ваш отец был недоволен, что у вас нет детей?
– Именно так он и хотел быть понятым. Но разве вы не заметили, что я значился просто его сыном, тогда как все остальные – непременно с приставкой дорогой-любезный? Это исполнено глубокого смысла в документе, который отец тщательно готовил. Вернее было бы сказать, что он сердился на меня, поскольку я не хотел жениться и вообще не желал иметь никаких дел с женщинами.
– Понимаю. А почему?
– О, это долгая и очень запутанная история.
– Да, обычно такие истории долгие и запутанные.
– Я не гомосексуалист, если у вас это на уме.
– У меня на уме не это. Если бы существовали простые и быстрые ответы, психиатрия не была бы столь трудным поприщем.
– Мой отец очень любил женщин.
– А вы любите женщин?
– Я очень высокого мнения о женщинах.
– Я спрашивала о другом.
– Мне вполне нравятся женщины.
– Вполне – для чего?
– Чтобы приятно проводить с ними время. У меня много знакомых женщин.
– А у вас есть женщины-друзья?
– Как вам сказать… В некотором роде. Обычно их не интересует то, о чем мне хочется говорить.
– Понимаю. А вы были влюблены?
– Влюблен? Ну конечно же.
– Сильно?
– Да.
– У вас были половые связи с женщинами?
– С женщиной.
– И когда в последний раз?
– Это было… постойте-ка… двадцать шестого декабря тысяча девятьсот сорок пятого года.
– Ответ, достойный адвоката. Но это же… почти двадцать три года назад. Сколько вам тогда было лет?
– Семнадцать.
– И это была та самая женщина, которую вы сильно любили?
– Нет-нет, конечно же нет!
– Это была проститутка?
– Конечно нет.
– Кажется, мы подходим к болезненной теме. Ваши ответы становятся краткими, формулировки нехарактерно скупы.
– По-моему, я отвечаю на все ваши вопросы.
– Да, но поток красноречия иссяк. И наш час, кстати, тоже истекает. Осталось время только сказать вам, что в следующий раз мы пойдем другим путем. Пока что мы, так сказать, только готовили почву. Я пыталась выяснить, что вы за человек, и, надеюсь, вы тоже хоть немного выясняли, что представляю собой я. Собственно анализ еще, можно сказать, и не начинался, потому что я говорила мало и на самом деле еще ничем не помогла вам. Если вы захотите, чтобы мы продолжали (а принять решение надо будет уже очень скоро), нам придется копнуть поглубже, и если все пойдет хорошо, мы вскроем следующий пласт, а продолжать в таком вот импровизационном духе больше не будем. Но прежде чем вы уйдете, скажите, как вам кажется, то, что отец не оставил вам по завещанию ничего, а только вашим детям, если они у вас будут, это было наказание? Это он на своем языке давал вам понять, что не любит вас?
– Да.
– А вам важно, любил он вас или нет?
– Неужели это нужно называть любовью?
– Слово-то ваше.
– Это чересчур эмоциональный термин. Мне было важно, считал ли он меня порядочным человеком, мужчиной… достоин ли я, по его мнению, быть его сыном.
– Разве это не любовь?
– В обществе теперь не принято говорить о любви между отцом и сыном. Ну то есть оценка сына отцом, на мужском языке… А весь этот разговор о любви между отцом и сыном отдает чем-то библейским.
– Человеческие отношения эволюционируют отнюдь не так резко, как считают многие. Оценка царем Давидом своего непокорного сына Авессалома тоже выражена мужским языком. Но я думаю, вы помните и плач Давида об Авессаломе, когда тот был убит.
– Меня называли Авессаломом прежде, и мне это сравнение не нравится.
– Хорошо. Нет нужды притягивать за уши исторические сравнения. А не думаете ли вы, что, работая над завещанием, отец имел в виду нечто большее, чем оставить за собой последнее слово в вашем споре?
– Почти во всем он был человеком очень прямым, но вот в личных отношениях мог действовать весьма изощренно. Он знал, что его завещание будут пристально изучать много людей и им станет известно: он возложил на меня обязанности, приличествующие юристу, но не оставил мне ничего, что подобает оставлять своему ребенку. Многие из этих людей к тому же в курсе, что когда-то он возлагал на меня большие надежды и назвал меня в честь тогдашнего своего героя – принца Уэльского, а значит, что-то не сложилось и он во мне разочаровался. Так вбивается клин между Каролиной и мной, и так у Денизы всегда найдется повод меня уязвить. С отцом у нас нередко случались натуральные скандалы по поводу женщин и моей женитьбы, но я ни разу не уступил и никогда не сказал, в чем дело. Но он знал, в чем дело. И вот он сказал в нашем споре свое последнее слово: делай мне назло, если смеешь, живи бесплодным евнухом, но не считай себя моим сыном. Вот что означало его завещание.
– А для вас это много значит – считать себя его сыном?
– Альтернатива меня не слишком прельщает.
– Что за альтернатива?
– Считать себя сыном Данстана Рамзи.
– Его друга детства? Того, который усмехался на похоронах?
– Да. Ходили такие слухи. И Нетти намекала… А Нетти вполне могла знать, о чем говорит.
– Понятно. Ну что ж, нам о многом нужно будет поговорить, когда мы встретимся на следующей неделе. А теперь я должна попросить вас уступить место следующему пациенту.
Я никогда не видел следующих пациентов или тех, кого доктор Галлер принимала передо мной, потому что в этой комнате были две двери – одна вела в кабинет из приемной, а другая – из кабинета прямо в коридор. Меня это вполне устраивало, потому что когда я выходил от нее, то выглядел, пожалуй, довольно-таки странно. Так о чем я говорил?
7
– Постойте-ка, мы дошли до пятницы вашей несчастливой недели, так? Расскажите мне о пятнице.
– В десять часов, а это начало банковского дня, Джордж Инглбрайт и я должны были встретить двух человек из Казначейства, чтобы вскрыть сейф моего отца в хранилище. У нас когда кто-нибудь умирает, все его счета замораживаются, все деньги словно бы арестовываются, пока налоговики не произведут ревизию. Это довольно странная ситуация, поскольку то, что держалось в тайне, становится вдруг достоянием гласности, а люди, которых вы видите в первый раз, командуют вами там, где вы считали себя важной персоной. Инглбрайт предупредил меня, что с людьми из налогового ведомства нужно вести себя потише. Он – старший в юридической фирме моего отца и, конечно, знает все входы-выходы, но для меня это было в новинку.
Налоговики оказались людьми самыми заурядными, но мне было тяжело сидеть с ними, запершись в одной из банковских каморок, и пересчитывать содержимое отцовского сейфа. Нет, сам я ничего не считал. Я только смотрел. Они предупредили, чтобы я ничего не трогал, и это меня разозлило; следовало понимать, будто я могу схватить пачку цветастых ценных бумаг и удариться в бега. Содержимое сейфа носило личный характер и никак не было связано с «Альфой» или какими-либо другими компаниями из тех, что контролировал мой отец, – однако слишком уж личным, вопреки моим опасениям, не оказалось. Я слышал рассказы о сейфах, в которых находили локоны, детские туфельки, и женские подвязки, и еще бог знает что. Ничего такого в отцовском сейфе не обнаружилось. Только акции и облигации на очень крупную сумму, их-то налоговики тщательно пересчитали и оприходовали.
И вот что еще меня тревожило: жалованье им полагалось явно небольшое, а ценности они описывали значительные. Что они при этом думали? Завидовали? Ненавидели меня? Упивались своей властью? Отдавали ли они себе отчет в том, что ниспровергают сильных мира сего и возвышают бедных и слабых? Вид у них был непроницаемый, но кто знает, что творилось у них в голове.
На это ушло чуть ли не все утро, и мне не оставалось ничего другого, как сидеть и смотреть, а это было крайне утомительно, поскольку наводило на размышления. Ситуации такого рода провоцируют банальное философствование: вот, мол, что осталось от трудов праведных целой жизни или, по крайней мере, большей ее части. И далее в том же духе. Время от времени я начинал думать о председательстве в «Касторе», а потом мне в голову пришло и крепко там засело выражение, которое я не вспоминал со времен учебы на юридическом факультете. Damnosa hereditas – разрушительное наследство. Это термин римского права, он фигурирует в «Институциях» Гая[13]13
Гай – римский юрист II в., автор «Институций», являющихся классическим изложением римского права по отдельным институтам.
[Закрыть] и означает именно то, что буквально значит. «Кастор» вполне мог бы стать для меня таким вот разрушительным наследством, поскольку фонд и без того большой, а с вливанием туда части отцовского состояния он будет очень большим даже по американским меркам. Если я возглавлю «Кастор», то он пожрет мое время и энергию и может положить конец той карьере, которую я пытался сделать самостоятельно. Damnosa hereditas. Неужели он этого хотел? Может быть, и нет. Всегда нужно предполагать лучшее. И все же…
Я угостил Джорджа ленчем, а потом, как стойкий солдатик, отправился беседовать о наследстве с Денизой и Каролиной. У них уже была возможность прочесть предоставленные им копии, и большую часть Бисти уже им растолковал, но он не юрист, и у них осталось много непроясненных пунктов. Разумеется, не обошлось без скандала, поскольку Дениза, видимо, рассчитывала получить капитал, и, если говорить по справедливости, у нее были для этого основания. Больше всего, наверно, ее раздосадовало то, что ее дочка Лорена не получила ничего, хотя полученного Денизой вполне хватило бы и на двоих. У ее дочки не все в порядке с головой (хотя Дениза и делает вид, что это не так), и за Лореной нужен будет присмотр до конца ее дней. Ее имя не упоминалось ни разу, но я ощущал ее присутствие. Она называла моего отца «папа Бой», а папа Бой не оправдал ее ожиданий.
Каролина выше любых этих разбирательств. Она и в самом деле очень славная на свой сухой лад. Но, естественно, она была довольна тем, что получила хорошую долю, а Бисти даже не скрывал своей радости. Ведь со всеми деньгами в доверительном управлении, с личным состоянием Каролины, с тем, что придет от него самого и по линии его семьи, дети Бисти и Каролины становились достаточно богаты даже по требовательным меркам моего отца. И Каролина, и Бисти заметили, как отец обошелся со мной, но у них хватало такта не говорить об этом в присутствии Денизы.
Вот только Дениза молчать не собиралась. «Дэвид, для Боя это был последний шанс вернуть тебя на путь истинный, – сказала она, – и я молю Господа, чтобы это возымело действие».
«Какой такой путь?» – невинно поинтересовался я. Я прекрасно понимал, что она имеет в виду, но хотел услышать, что она скажет. И должен признаться, я ее провоцировал, чтобы она дала мне основания ненавидеть ее еще больше.
«Если говорить абсолютно откровенно, мой дорогой, то он хотел, чтобы ты женился и не пил так много. Он знал, какой положительный эффект оказывают жена и дети на талантливого человека. И, конечно же, всем известно, насколько ты талантлив… потенциально». Дениза была не из тех, кто пасует перед вызовом.
«И поэтому он завещал мне самую тяжелую работенку из всего семейного пакета плюс кое-какие деньжата для детей, которых у меня нет, – сказал я. – Вы случайно не в курсе, была у него для меня какая-нибудь невеста на примете, или как? Хотелось бы на всякий случай точно знать, чего от меня ждут».
У Бисти стал совершенно загнанный вид, а глаза Каролины так и метали молнии. «Если вы двое собираетесь ругаться, я немедленно ухожу домой», – сказала она.
«Да ну, какая ругань, – проговорила Дениза. Сейчас для этого не время, да и не место. Дэвид задал прямой вопрос, а я дала ему прямой ответ, как и всегда. А Дэвид прямые ответы не любит. Они его устраивают только в суде, где он может задавать вопросы, на которые следуют те ответы, что ему нужны. Бой гордился успехами Дэвида, в определенной мере. Но он хотел, чтобы его единственный сын добился большего, нежели скандальная репутация в уголовном суде. Он хотел, чтобы имя Стонтонов не умерло. Он бы счел разговор на эту тему претенциозным, но вы не хуже меня знаете, что он хотел учредить династию».
Ох уж эта династия! В данном вопросе папа отнюдь не был таким скромником, каким его пыталась выставить Дениза. Если на то пошло, она вообще не понимала, что такое настоящая скромность. Но я уже перегорел. Стычки с Денизой меня быстро утомляют. Возможно, она права, и лишь в зале суда пробуждается во мне настоящий азарт. В суде существуют определенные правила. Дениза же создает свои правила по ходу дела. Должен сказать, это свойственно всем женщинам. Наконец разговор не без труда перешел на другую тему.
У Денизы возникли два новых дивных пунктика. Затея с посмертной маской провалилась, и Дениза понимала, что я буду молчать, а потому для нее эта идея перестала существовать, словно никогда и не было. О своих неудачах Дениза вспоминать не любит.
Теперь она надумала соорудить памятник отцу и пришла к выводу, что большая скульптура, созданная Генри Муром[14]14
Генри Мур (1898—1986) – знаменитый английский скульптор. В некотором смысле, фигуративист – часто изображал человеческое тело, но гротескно искаженное.
[Закрыть], – как раз то, что надо. Конечно, этот памятник не для Музея искусств и не для города, отнюдь. Это должен быть надгробный памятник. Оценили? Каково, а? Вот в этом вся Дениза. Ни вот на столько представления о сообразности. Ни малейшего чувства юмора. Одна только показушность и нахрапистость, сплошное воинствующее ненасытное честолюбие.
Ее второй великий план состоял в сооружении монумента иного рода; она удовлетворенно заявила, что Данстан Рамзи напишет биографию моего отца. Вообще-то, она хотела, чтобы это сделал Эрик Руп (один из ее протеже, поэтические таланты которого сравнимы с художественными талантами ее приятеля-дантиста), но Руп обещал себе год отдыха, если ему удастся выбить под это дело грант. Я был уже в курсе, годы отдыха Рупа известны в «Касторе» не хуже, чем семь тощих коров фараона[15]15
Семь тощих коров, приснившихся фараону, означали, согласно толкованию Иосифа, семь голодных лет (Бытие, 41).
[Закрыть]; его требование, чтобы мы оплатили ему очередной год, было передано в совет фонда, и я успел с ним ознакомиться. У плана «Рамзи» были свои преимущества. Данстан Рамзи был известен не только как педагог, но еще и как автор, добившийся заметных успехов на странном поприще: он писал о святых – популярные книги для туристов – и вдобавок выпустил солидную монографию, чем заработал себе репутацию в кругах, где ценятся такие вещи.
Более того, писал он хорошо. Я знал об этом, поскольку он был моим преподавателем истории в школе. Он требовал, чтобы мы писали сочинения «ясным стилем», как он его называл. Этот стиль, говорил он, куда быстрее выдает глупость, нежели более вольная манера. И моя адвокатская практика подтвердила, насколько он был прав. Но… как мы будем выглядеть, если биография Боя Стонтона выйдет за авторством известного знатока житий святых? То-то будет раздолье острословам… и парочка острот немедленно пришли мне в голову.
С другой стороны, Рамзи знал моего отца с самого детства. Он уже дал согласие? Дениза сказала, что когда она выложила ему свою идею, он вроде заколебался, но она берет это на себя. Ведь, в конце концов, его скромное состояние (вроде бы значительно превышающее то, что могут дать труды учителя и автора) сколочено благодаря советам, которые мой отец давал ему на протяжении многих лет. Рамзи владел небольшим аппетитным кусочком «Альфы». Пришло время возвращать долги – той монетой, какой владеет. А Дениза будет работать с ним вплотную и присмотрит, чтобы все было сделано как надо, а ирония Рамзи не выходила из-под контроля.
Нам с Каролиной Рамзи не очень нравился, сколько мы себя помнили; его острый язык доставил нам немало неприятных минут, и мысль о возможном сотрудничестве между ним и нашей мачехой нас забавляла. Так что протестовать мы не стали, но решительно вознамерились расстроить план «Генри Мур».
Каролина и Бисти уехали, как только представилась возможность, а мне пришлось остаться и слушать болтовню Денизы о письмах соболезнования, которые она получает мешками. Она их сортировала; письма от общественных деятелей именовала «официальными» и подразделяла на «теплые» и «формальные». Послания от друзей и знакомых классифицировались как «волнующие» или же «ничем не примечательные». И еще много писем было от «почитателей», лучшие из которых она относила к группе «трогательных». У Денизы дисциплинированный ум.
Мы ни слова не сказали о дюжине ругательных писем, пропитанных ненавистью и анонимных. Почти не затронули мы и газетную тему – отдельные статьи были недоброжелательными и завуалированно оскорбительными. Нам обоим был не в новинку канадский дух, которому так чужды благодарность и великодушие.
Этот день был утомителен, а поскольку я завершил все свои срочные дела, то решил, что могу позволить себе рюмочку-другую после обеда. Обедал я в клубе, где и выпил рюмочку-другую-третью, но те, к моему удивлению, никак не улучшили моего отвратительного настроения. Я не из тех людей, которые, выпив, веселеют. Я не пою, не острю напропалую и не ухлестываю за девочками, меня не качает, и язык не заплетается. Скорее, я делаюсь замкнутым, а мой взгляд, возможно, немного стеклянным. Но мне все же удается притупить лезвие тяжелого топора, который, такое впечатление, безостановочно подрубает корни моего «я». В тот вечер все было иначе. Я отправился домой и принялся пить всерьез. Но тем не менее топор продолжал свою разрушительную работу. Наконец я лег в постель и уснул; спал я отвратительно.
Глупо называть это сном. Это была бесконечно муторная, убогая греза наяву, изредка прерываемая эпизодами полного отруба. Со мной случился истерический припадок, и я перепугался до чертиков, так как не плакал лет тридцать. Нетти и моему отцу не нужны были плаксы. Испугался я еще и потому, что это было частью непрерывного процесса разрушения моего разума. Я был низведен до весьма примитивного уровня, и во мне возобладали какие-то нелепые чувства и грубые необъяснимые эмоции.
Только представьте: человеку сорок лет, а он ревет навзрыд, потому что его не любил отец! К тому же это вовсе не так, он явно любил меня, и я точно знаю, моя судьба сильно беспокоила его. Я пал так низко, что взывал к своей матери, хотя понимал, что, появись даже эта несчастная женщина рядом со мной в ту самую минуту, она понятия не имела бы, что говорить и что делать. Бедняжка никогда не понимала, что творится вокруг. Но мне было нужно что-нибудь, и мать была самым близким воплощением этого «чего-нибудь». И вот этот нечленораздельный олух был не кто-нибудь, а мистер Дэвид Стонтон – королевский адвокат с темной репутацией, поскольку преступный мир был о нем высокого мнения, а он эту репутацию поддерживал и тайно мнил себя в зале суда настоящим волшебником. Но обратите внимание – чудеса я был призван вершить только в интересах правосудия, лишь в неизбывном и постоянном стремлении сделать так, чтобы каждому было воздано по заслугам.
На следующее утро топор разошелся как никогда, и я, к пущему расстройству и негодованию Нетти, начал с бутылки за завтраком. Она ничего не сказала, так как однажды, когда она попробовала сунуться, я отвесил ей подзатыльник-другой, что впоследствии подавалось как «избиение». Нетти понятия не имеет, что такое настоящие избиения, какие я видывал в суде, иначе она не позволяла бы себе выражаться подобным образом. Она так никогда и не освоила «ясный стиль». Конечно, я сожалел, что ударил ее, и извинился перед ней в «ясном стиле», но зато она поняла, что лучше ей не соваться.
Поэтому утром в ту субботу она заперлась в своей комнате, специально щелкнув задвижкой, когда я оказался поблизости и мог слышать, что она делает; она даже придвинула кровать к двери. Я понимал, что у нее на уме. Она хотела иметь основания заявить Каролине: «Когда он в таком виде, я вынуждена баррикадироваться от него в своей комнате, потому что, если он сорвется с ручки, как в тот раз, один Господь знает, что со мной будет». Нетти любила говорить Каролине и Бисти, что никто не знает, какие муки ей приходится терпеть. Они догадывались, что большая часть означенных мук существовала лишь в ее разгоряченном воображении.
По субботам я заезжал на ленч в клуб, и хотя бармен, как только у меня возникала в нем нужда, был сей раз нетороплив, как черепаха, и отсутствовал за стойкой так долго, как только было возможно, однако я успел как следует накачаться скотчем, прежде чем собрался пропустить рюмочку-другую перед обедом. Появился один из моих клубных знакомых, некто Фемистер, и я услышал, как бармен пробормотал ему что-то вроде «под мухой»; я понял, что речь обо мне.
Под мухой? Да что они понимают! Когда я берусь за дело, это вам не какая-нибудь паршивая муха, а целый орел. Только на сей раз ничего, казалось бы, не происходило, я лишь замыкался в себе глубже и глубже, а топор звенел ничуть не менее решительно, чем всегда. Фемистер добрый малый; он подсел ко мне и завел беседу. Отвечал я ему довольно ясно и связно, хотя, возможно, излишне вычурно. Он предложил пообедать вместе, и я согласился. Он съел клубный обед из нескольких блюд, я же размазывал свою еду по тарелке и старался отвлечься от ее запаха, который казался мне гнетущим. Фемистер был доброжелателен, однако мои любезные «нон-секвитуры»[16]16
«Нон-секвитуры» – от латинского non sequitur, т. е. «не вытекает». Так в логике называют ошибку, состоящую в том, что выдвигаемые доводы не подтверждают доказываемого тезиса.
[Закрыть] отбивали у него охоту продолжать разговор, как я того и добивался, и когда обед закончился, стало ясно, что изображать и дальше доброго самаритянина он не в силах.
«У меня сейчас встреча, – произнес он. – А вы что собираетесь делать? Не торчать же тут весь вечер одному! Почему бы, скажем, не сходить в театр? Вы не видели этого парня в театре Александры? Просто изумительно! Его зовут Магнус Айзенгрим, хотя вряд ли это настоящее имя. А вы как считаете? Шоу просто превосходное! Я еще таких фокусников не видел. Он и гадает, и на вопросы отвечает, и еще бог знает что. Превосходно! Вы просто будете вне себя».
«Самое подходящее для меня место, – медленно и вдумчиво отозвался я. – Я схожу. Спасибо за идею. А теперь бегите, не то опоздаете».
Он удалился довольный, что сделал доброе дело и сумел отвязаться от меня без эксцессов. На самом деле ничего нового я не услышал. Неделю назад я уже был на «Суаре иллюзий» Айзенгрима, с моим отцом, Денизой и Лореной, у которой тогда был день рождения. Меня затащили в самую последнюю минуту, и шоу мне совсем не понравилось, хотя я и видел, что сделано оно мастерски. Но меня жутко раздражал сам Магнус Айзенгрим.
Хотите знать почему? Потому что он всех нас дурачил, причем так умело, что большинству это нравилось. Он был мошенником особого рода, он играл на той самой составляющей человеческой доверчивости, которая интересует меня больше всего, – я говорю о желании быть обманутым. Знаете эту безумную ситуацию, лежащую в основе неисчислимых преступлений: один человек так задуривает другому голову, что тот готов поверить в любой обман, снести любое дурное обращение, иногда вплоть до убийства. Обычно это не любовь, а скорее малодушная капитуляция, отказ от всякого здравого смысла. Порой и я становлюсь жертвой этого поветрия, когда слабый клиент решает, что я кудесник и могу творить чудеса в суде. Вы как психоаналитик тоже наверняка с этим сталкивались: люди начинают думать, будто вам под силу распутать все глупости, что они натворили за целую жизнь. В жизни это довольно мощная сила, и тем не менее, насколько мне известно, у нее нет названия…
– Простите, но у нее есть название. Мы зовем это проекцией.
– Да? Никогда не слышал. Ну да как бы оно ни называлось, Айзенгрим пользовался этим в театре на всю катушку и дурачил тысячу двести человек, а те только радовались, что их водят за нос, и просили еще. Мне было противно, а в особенности стало невмоготу, когда началась эта чушь с «Медной головой Роджера Бэкона».








