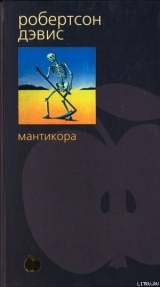
Текст книги "Мантикора"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
– У вас и Джуди есть что-то очаровательное и прекрасное, – сказал он, – и я советую вам сберечь это в нынешнем виде, чтобы потом вы могли вспоминать об этом с удовольствием. Но если ваши с ней отношения будут продолжаться, то все вокруг изменится. Я перестану питать к вам дружеские чувства, а мне бы совсем не хотелось, чтобы это произошло, и вы начнете меня ненавидеть, а это будет обидно. Возможно, вы с Джуди решите, что для сохранения самоуважения вам нужно обманывать меня и мать Джуди. Это будет очень больно, а для вас, поверьте мне, опасно.
А потом он сделал нечто из ряда вон выходящее. Процитировал мне Бернса! Никто никогда не цитировал мне Бернса, кроме моего дедушки Крукшанка, жившего в Дептфорде у ручья, и я всегда полагал, что Берне – поэт людей того разряда, что живут «у ручья». Но вот этот венский еврей читал мне:
– Вы удивительно чувствительный юноша, – сказал он (и я неприятно поразился такому определению), – первый же травмирующий опыт оставит на вашей душе незаживающий шрам, и тогда вы уже не станете тем человеком, каким могли бы. Если вы соблазните мою дочь, я должен буду очень рассердиться и, может, возненавижу вас. Физический вред не так уж и существен, можно даже сказать, совсем не существен, тогда как психологическая травма – видите, как я уже усвоил современную манеру речи, не могу заставить себя сказать «душевная травма» – может быть очень серьезной, если мы расстанемся недругами. Конечно, есть люди, для которых такие вещи – пустой звук, и боюсь, что у вас в этом плане имеется плохой пример, но вы и Джуди из другого теста. Поэтому, Дэвид, очень прошу понять меня правильно – и навсегда остаться нашим другом. Но мужем моей дочери вы никогда не будете, и я хочу, чтобы вы поняли это сегодня.
– Почему вы так твердо решили, что я не буду мужем Джуди? – спросил я.
– Это решил не я один, – произнес он. – Решающих факторов сотни, с обеих сторон. Зовут их предками, и у нас хватает соображения в некоторых вещах прислушиваться к ним.
– Вы хотите сказать, что я не еврей.
– А я уже начал сомневаться, придет ли вам это в голову.
– Но какое это имеет значение в наше время и в нашу эпоху? – спросил я.
– Вы родились в двадцать восьмом году, когда это начинало иметь огромное значение, и не первый раз в истории, – сказал доктор Вольф. – Но оставим это в покое. То, о чем вы сказали, имеет значение и в другом смысле, о котором я говорить не хочу, потому что вы мне очень симпатичны и я щажу ваши чувства. Это вопрос гордости.
Разговор наш на этом не закончился, но я знал, что вопрос закрыт. Весной они собирались послать Джуди учиться за границу. А до того будут рады видеть меня у них в доме время от времени. Но я должен понять, что вся семья говорила с Джуди, и хотя сначала Джуди возражала, но потом поняла. Вот и весь разговор.
В тот вечер я и отправился к Нопвуду. Я разжигал в себе ненависть к Вольфам. Вопрос гордости! Он что, хотел сказать, что я недостаточно хорош для Джуди? И вообще, что может значить вся эта болтовня о еврействе в устах людей, никак внешне своего еврейства не проявляющих? Если уж они такие правоверные, то где их пейсы, исподнее навыпуск, еда не как у людей? Такие вещи, как я слышал, были свойственны бородатым евреям в велюровых шляпах, жившим за Художественной галереей. Вольфы и Шварцы, думал я, стараются быть похожими на нас, а теперь заявляют, что я для них недостаточно хорош! Во мне всколыхнулось оскорбленное христианство. Христос умер за меня, я был уверен в этом, но я очень сомневался, что Он умер за Вольфов и Шварцев. Скорее к Нопвуду! Он все разъяснит.
Я провел у него целый вечер, и беседа была непростой, но в итоге все разъяснилось. К моему удивлению, он принял сторону Луиса Вольфа. Но хуже всего было то, что он критиковал моего отца в выражениях, которых я никогда прежде от него не слышал; что же касается Мирры, то он выказал удивление, презрение, гнев.
– Ах ты, простодушный дурачок! – сказал он. – Ты что же, не понял, что все было подстроено? Решил, что такой ветеран, как эта Мирра, уложила тебя в свою постель, потому что не устояла перед твоими достоинствами! Я не виню тебя за то, что ты переспал с нею, – насыпь ослу овса, и он сожрет, не удержится, даже если овес с гнильцой. Меня только бесит провинциальная вульгарность всего этого – разговоры о вине и потуги на изящество в свете канделябров! «Светский разговор», черчиллевские претензии твоего отца, да еще рубай. Будь моя воля, я бы собрал все экземпляры этого третьесортного рифмованного евангелия гедонизма и сжег. Как оно трогает сердца скверных людишек! Значит, Мирра предложила тебе литературное соревнование? А такого эта литературная шлюха не цитировала:
Один шепнул, издав протяжный вздох:
«От долгого забвенья я засох;
Лишь сок родимых лоз в себя вобрав,
Я б вновь ожить и сил набраться мог»?
Она не нашептывала это тебе на ушко, когда Авессалом[72]72
Авессалом – сын царя Давида, поднял восстание против своего отца и взошел на его ложе, желая этим утвердить свои притязания на престол. См. 2 Царств, 16:22: «…и вошел Авессалом к наложницам отца своего…».
[Закрыть] входил к наложнице своего отца?
– Вы не понимаете, – ответил я. – Так поступают во французских семьях, чтобы сыновья получали верное представление о сексе.
– Слышал, слышал; но я не знал, что они подряжают на это своих отставных любовниц – как ребенка, обучая верховой езде, сажают на старую безотказную кобылу.
– Прекратите, Ноппи, – сказал я. – Вы много знаете о религии и церкви, но что такое фехтовальщик, вам понять не дано.
Тут он окончательно вышел из себя. Стал холоден и вежлив.
– Что ж, помоги мне, – произнес он. – Растолкуй, что такое фехтовальщик и что такого загадочного скрывается за этим словом.
Я со всем пылом стал объяснять ему об умении жить красиво в противовес окружающему безвкусию. Я умудрился ввернуть словечко «аморист»[73]73
Аморист – искатель любовных приключений.
[Закрыть], так как думал, что, может, оно ему неизвестно, рассказывал о кавалерах и о круглоголовых[74]74
Круглоголовые, или пуритане, – сторонники парламента во время гражданской войны в Англии XVII в. Презрительное прозвище «круглоголовые» было дано кавалерами, или рыцарями, сторонникам парламента за коротко стриженные волосы.
[Закрыть], а еще приплел Маккензи Кинга как своего рода второсортного Кромвеля, которому следует оказывать сопротивление. Мистер Кинг в начале войны стал непопулярным, поскольку призывал канадцев «облечься во всеоружие Божие»[75]75
Из послания апостола Павла к ефесянам, 6:11.
[Закрыть], что при ближайшем рассмотрении означало разводить виски водой и нормировать его потребление, не снижая цены. Я сказал, что если таково всеоружие Божие, то благодарю покорно – я уж предпочту блеск и сноровку фехтовальщика. По мере того как я говорил, гнев его, казалось, утихал, а когда я закончил, Нопвуд чуть ли не смеялся.
– Мой бедный Дейви, – сказал он, – я всегда знал, что ты невинный мальчик, однако надеялся не обнаружить глупости столь пагубной за этим очаровательным фасадом, а теперь вижу, что зря надеялся. Я попытаюсь сделать кое-что, о чем и не помышлял раньше и чего не одобряю. Но думаю, что для спасения твоей души это необходимо. Я хочу рассеять твои иллюзии относительно отца.
Конечно, ему это не удалось. Разве что отчасти. Он много говорил о том, что отец – великий предприниматель, но это не произвело на меня никакого впечатления. Не хочу сказать, что он сомневался в честности отца – для этого никогда не было ни малейших оснований. Но он говорил о развращающей силе большого богатства, об иллюзии, которую оно порождает у обладателя, будто он может манипулировать людьми, а также о страшной истине, которая заключается в том, что существует огромное число людей, которыми он и в самом деле может манипулировать, а поэтому никто серьезным образом и не оспаривает эту иллюзию. Богатство, говорил он, внушает тому, кто им владеет, иллюзию, будто он слеплен из другого теста, чем простые люди. Он говорил о низкопоклонстве, что испытывают перед большим богатством люди, для которых мирские достижения – единственная мера успеха. Богатство порождает и пестует иллюзии, а иллюзии развращают. Вот о чем он говорил мне.
На все это у меня имелись возражения, потому что отец много беседовал со мной с тех пор, как стал больше бывать дома. Отец учил, что человек, которым ты можешь манипулировать, нуждается в присмотре, поскольку с тем же успехом им могут манипулировать и другие. А еще он говорил, что богатые отличаются от простых людей только тем, что у них большая возможность выбора, и едва ли не самый опасный выбор – это сделаться рабом источника собственного благосостояния. Я даже сказал Ноппи кое-что такое, о чем он и не догадывался. Я рассказал ему о том, что отец называл патологическим состраданием большого бизнеса – когда от управленцев, достигших определенной, достаточно высокой, ступеньки служебной лестницы, скрывают их некомпетентность и потерю деловых качеств, чтобы не повредить их репутации в глазах семьи, друзей, в собственных глазах. По оценкам отца, патологическое сострадание обходилось ему в несколько сотен тысяч долларов ежегодно, а о таком милосердии святой Павел даже не заикался. Как и многие, у кого нет денег, Нопвуд имел совершенно идиотские представления о тех, у кого деньги есть, – а главное, он полагал, что обрести богатство и сохранить его под силу людям преимущественно низким. Я обвинил его в недостатке любви к ближнему – я знал, что это для него не пустые слова. Я обвинил его в скрытой христианской ревности, не дающей ему увидеть истинную природу отца, потому что, кроме отцовского богатства, он ничего не хочет видеть. Людям, которым хватает характера приобрести богатство, нередко хватает характера и для того, чтобы противостоять иллюзиям. Мой отец из таких людей.
– Дейви, тебе самое место в адвокатуре, – отозвался Нопвуд. – Делать из черного белое ты уже умеешь. Быть циником и избегать иллюзий не одно и то же, потому что цинизм – это одна из иллюзий. Все формулы образа жизни – даже многие философские учения – это иллюзии. Цинизм – это дрянная иллюзия. А фехтовальщик… сказать тебе, что это такое? Смысл самый прямой: фехтовальщик – это тот, кто вонзает что-либо длинное и тонкое или толстое и искривленное в других людей – и всегда с намерением причинить боль. Ты много читал в последнее время. Ты читал Дэвида Герберта Лоуренса. Помнишь, что он пишет о бессердечном, хладнокровном совокуплении? Вот именно этим и занимается фехтовальщик в том смысле, в каком люди применяют это слово к твоему отцу. Фехтовальщик – это тот, кого пуритане (которых ты так романтически презираешь) называли «потаскун». Не знал? Конечно, фехтовальщики так себя не зовут, они предпочитают другую терминологию – охотник до любовных приключений, аморист… хотя настоящая амористка – это твоя Мирра, искушенная в сексе без любви. Ты этого ищешь? Вот ты много говорил о том, что чувствуешь к Джуди Вольф. А теперь получил хороший урок фехтования. Ну и что скажешь? Простенькая веселая музычка – труба да барабан. Простенькая музыка для простаков. Ты и от Джуди хочешь этого? Как думаешь, чего боится ее отец? Он не хочет, чтобы жизнь его дочери испоганил сын потаскуна и, как он это довольно проницательно чувствует, ученик потаскуна.
Это был удар ниже пояса, и хоть я и попытался ответить, но испытывал чувство стыда. Потому что – верьте или нет, но клянусь, это правда, – прежде я никогда не понимал истинного значения слова «фехтовальщик», а тут внезапно получил объяснение несколько странной реакции, которую встречал, гордо называя отца этим словом. Меня мороз продрал по коже, когда я вспомнил тот давний разговор у Вольфов, которые, конечно же, владели тремя языками как родными. Ну и дураком же я себя выставил, осознал я, – и ощутил внезапную слабость, но также гнев. Выместил его я на Ноппи.
– Можете сколько угодно воротить нос, – проговорил я, – но сами-то, сами!.. Ни для кого не секрет, кто вы такой. Гомосек – обыкновенный гомосек. Который боится что-либо с этим поделать. И кто дал вам право с таким апломбом разглагольствовать о настоящих мужчинах и женщинах, живущих страстями, которых вам никогда не понять и не разделить?
Я попал точно в цель. Или так мне почудилось. Нопвуд, казалось, съежился на своем стуле, и весь его гнев улетучился.
– Пожалуйста, Дейви, выслушай меня очень внимательно, – сказал он. – Наверное, я гомосексуалист. Даже точно. А еще я священник. Вот уже двадцать с лишним лет я верой и правдой служу Христу, и слабость моя – тоже орудие служения. Люди, искалеченные гораздо сильнее меня, проявляли в этой битве чудеса храбрости. Да и я неплохо потрудился на своем поприще. Было бы глупостью и ложной скромностью говорить иначе. Работа приносила радость, и хочу только сказать, что мне было нелегко. Но это был мой личный выбор – я пожертвовал тем, что я есть, ради того, что люблю… А теперь я хочу, чтобы ты кое-что запомнил, потому что, думаю, встретимся мы теперь не скоро. Вот что я хочу сказать. Каким бы модным ни было сегодня разочарование в мироустройстве и людях, каким бы сильным ни стало это разочарование в будущем, далеко не все и даже не большинство думают и живут, согласуясь с модой. Изгнать из этого мира добродетель и честь невозможно, что бы ни говорили записные моралисты и паникеры газетчики. Самопожертвование не исчезнет из-за того, что психиатры находят в нем скрытый корыстный мотив, о чем трубят направо и налево. Теологи всегда знали это. И сомневаюсь, чтобы умерла любовь как высшее выражение чести. Такова закономерность духа, а люди подсознательно жаждут воплотить ее в жизнь, чего бы это им ни стоило. Иными словами, Дейви, Бог жив. И могу тебя заверить, Его не обманешь.
10
После этого разговора я больше не видел Нопвуда. Скоро выяснилось, что он имел в виду, когда говорил, что мы больше не встретимся: он получил предписание отбыть на миссионерскую службу; умер он несколько лет назад на Западе от туберкулеза, работая с индейцами почти до последнего дня. Я так и не простил ему того, что он пытался очернить отца. Если к этому и сводится христианство, немногого оно стоит.
Доктор фон Галлер: Как вы утверждаете, отец Нопвуд говорил о миссис Мартиндейл с презрением и гневом. Он что, знал ее?
Я: Нет, он просто ненавидел ее за то, что она настоящая женщина… а кто был он, я вам говорил. Вбил себе в голову, что она шлюха, и ничего другого слушать не хотел.
Доктор фон Галлер: Вы не думаете, что преимущественно он негодовал как бы за вас, потому что она воспользовалась вашей невинностью?
Я: Каким образом? Что за глупость.
Доктор фон Галлер: Она соучаствовала в плане, цель которого была – манипулирование вами. Я говорю не о вашей невинности – это вопрос простой, физический и технический, но о замысле ввести вас в ту сферу, которую Нопвуд охарактеризовал как простенькую веселую музычку: труба да барабан.
Я: Рано или поздно это случается с каждым, разве нет? И лучше уж в таких обстоятельствах, чем во многих, что рисует нам воображение. Ах да, я забыл, ведь швейцарцы отъявленные пуритане.
Доктор фон Галлер: Ну вот, теперь вы говорите со мной так, будто я – отец Нопвуд. Вы правы, каждому предстоит знакомство с сексом, но обычно выбор остается за человеком. Человек сам находит для себя секс. Его не предлагают как тоник, когда кто-то решает за вас, что это было бы полезно. Разве человек сам про себя не знает лучше, чем кто-либо другой, что пришло его время? Разве это не высокомерие по отношению к собственному сыну, если отец организовывает для него первый сексуальный контакт?
Я: Насколько я понимаю, высокомерия в этом не больше, чем если бы перевести сына в какую-нибудь другую школу.
Доктор фон Галлер: Значит, вы полностью согласны с тем, как все это для вас было устроено. Постойте-ка. Вы, кажется, говорили, что последний половой акт у вас был 26 декабря 1945 года. Значит, миссис Мартиндейл была у вас первая и последняя? Почему же вы не воспользовались приобретенным у нее ценным опытом? Не торопитесь, пожалуйста, с ответом, мистер Стонтон. Если хотите выпить воды – пожалуйста, вот графин.
Я: Наверно, из-за Джуди.
Доктор фон Галлер: Да. О Джуди… Вы понимаете, что в вашем рассказе образ Джуди очень расплывчатый? Я узнаю вашего отца, имею неплохое представление об отце Нопвуде, и вы буквально парой слов сумели многое рассказать о миссис Мартиндейл. Но Джуди я вижу очень неясно. Девочка из хорошей семьи, немного чуждая вашему миру, еврейка, умеет петь. Кроме этого, вы говорите только, что она была добра и очаровательна, а еще всякие туманные слова, которые не придают ей никаких индивидуальных черт. Ваша сестра сказала, что в Джуди было что-то коровье. Я придаю этому большое значение.
Я: Не стоит. Карол горазда на резкости.
Доктор фон Галлер: Вот уж точно. Вы дали ее резкий портрет. Она очень проницательна. И она сказала, что в Джуди было что-то коровье. Вы не знаете почему?
Я: Это же ясно – от злости. Она почувствовала, что я люблю Джуди.
Доктор фон Галлер: Она почувствовала, что Джуди воплощает для вас Аниму. А теперь – немного профессионального жаргона. Мы уже говорили об Аниме – этот обобщенный термин описывает представление мужчины обо всем, чем является или может являться женщина. Женщины очень чувствительны к этому образу, когда он возникает в сознании мужчины. Карол ощутила, что Джуди внезапно воплотилась для вас в Аниму, и это стало причиной ее раздражения. Вы же знаете этот извечный женский вопрос: «И что он в ней нашел?» Конечно же, то, что он видит, – это Анима. Далее, обычно он способен описать ее только общими словами без всяких подробностей. Он находится под властью, грубо говоря, чар. Старое слово не хуже любого нового. Общеизвестно, что, подпадая под чьи-нибудь чары, человек перестает ясно видеть.
Я: Но я видел Джуди очень ясно.
Доктор фон Галлер: Хотя вы, судя по всему, не помните ни одного сказанного ею слова, сплошные общие места? Ах, мистер Стонтон… хорошенькая скромная девушка, увиденная вами в первый раз в обстоятельствах, когда вы просто не могли не подпасть под ее чары, – она пела. Самая недвусмысленная Анима в моей практике.
Я: Я думал, в вашей профессии не принято задавать наводящие вопросы свидетелю.
Доктор фон Галлер: В суде Его Чести мистера Стонтона, по всей видимости, нет, но это мой суд. А теперь скажите, пожалуйста: после разговора с вашим отцом, когда он назвал Джуди вашей «еврейской штучкой», и после разговора с ее отцом, когда тот сказал, что вы не должны рассматривать Джуди как возможную спутницу жизни, и после разговора с этим третьим отцом – священником – как развивались ваши с Джуди отношения?
Я: Они испортились. Или потеряли свою прелесть. Можно использовать какие угодно слова, выражающие ослабление, утрату страсти. Конечно же, мы встречались, и разговаривали, и целовались. Но я знал, что она – послушная дочь, и когда мы целовались, я чувствовал, что рядом стоит, пусть невидимый, Луис Вольф. И хотя я пытался замкнуть слух, когда мы целовались, я слышал голос (не думайте, что это был голос моего отца), говорящий: «Твоя еврейская штучка». И ненавистный Нопвуд, казалось, всегда был рядом, как Христос на той его сентиментальной картинке, возложивший руку на плечо бойскаута. Не знаю, как бы все это развивалось дальше, но меня свалила очень неприятная болезнь. Теперь ее, наверное, назвали бы мононуклеозом, но тогда она была неизвестна, и я долго не ходил в школу, лежал дома под присмотром Нетти, которая меня выхаживала. Когда наступила Пасха, я все еще был очень слаб, а Джуди уехала в школу в Лозанну. Она прислала мне письмо, и я, конечно, хотел сохранить его, но готов биться об заклад на что угодно: его нашла Нетти и сожгла.
Доктор фон Галлер: Но вы помните, что в нем было?
Я: Помню частично. Она писала: «Мой отец мудрейший и лучший из известных мне людей, и я поступлю, как он велит». Это так не вязалось с семнадцатилетней девушкой.
Доктор фон Галлер: Почему?
Я: Инфантилизм. Вы так не считаете? Разве ей не пора было больше жить своей головой?
Доктор фон Галлер: Но разве не точно таким же было ваше отношение к вашему отцу?
Я: После моей болезни – нет. Да и до этого были отличия. Потому что мой отец был по-настоящему выдающимся человеком. Данстан Рамзи как-то сказал, что отец был гением необычного, непризнанного рода. Тогда как Луис Вольф хотя и был очень хорош по-своему, но оставался всего лишь умным доктором.
Доктор фон Галлер: Он был крайне утончен. Насколько я понимаю, в этом вашему отцу было до него далеко. А как насчет Нопвуда? Кажется, вы списали его со счетов, поскольку он гомосексуалист?
Я: Я часто встречаюсь с ему подобными в суде. Серьезно таких воспринимать нельзя.
Доктор фон Галлер: Но в суде вы серьезно воспринимаете очень немногих. Есть гомосексуалисты, которых мы воспринимаем очень серьезно, но вероятность встретить их в суде очень мала. Я помню, вы говорили что-то о христианском милосердии?
Я: Я больше не христианин, а потом я слишком часто обнаруживал, что в одежды милосердия рядится самая прискорбная слабость. У тех, кто говорит о милосердии и всепрощении, обычно не хватает твердости довести начатое до логического конца. Я никогда не видел, чтобы милосердие становилось причиной неоспоримого добра.
Доктор фон Галлер: Понимаю. Ну что ж, давайте продолжим. Я думаю, что во время болезни вы много размышляли о своей ситуации. Для этого ведь и существуют болезни, знаете, эти таинственные недуги, которые выхватывают нас из потока жизни, но не убивают. Они сигнализируют о том, что наша жизнь пошла не по той дорожке, и дают нам время поразмыслить. Вам повезло, что вы не оказались в больнице, хотя болезнь и вернула вас под власть Нетти. Ну так какие ответы вы нашли? Например, вы не думали о том, почему с такой готовностью поверили, что ваша мать была любовницей лучшего друга вашего отца, но усомнились в том, что миссис Мартиндейл была отцовской любовницей?
Я: Наверное, дети любят одного родителя больше, а другого – меньше. Я вам рассказывал о матери. И отец иногда заговаривал о ней, навещая меня во время моей болезни. Несколько раз он остерегал меня от того, чтобы я женился на первой юношеской любви.
Доктор фон Галлер: Да. Думаю, он понимал, что за беда с вами стряслась. Интуитивно понимал, хотя, конечно, не был готов себе в этом признаться. Он чувствовал, что вы больны Джуди. И на самом деле дал вам очень хороший совет.
Я: Но я любил Джуди. Правда, любил.
Доктор фон Галлер: Вы любили проекцию своей Анимы. Правда, любили. Но знали ли вы когда-нибудь Джуди Вольф? Вы говорили мне, что, сталкиваясь с нею теперь, когда она зрелая семейная женщина, избегаете разговора. Почему? Потому что защищаете свою детскую грезу. Вы не хотите знать эту женщину, которая перестала быть Джуди. Когда вернетесь домой, воспользуйтесь каким-нибудь случаем, повидайтесь с этой госпожой профессоршей, как уж ее там, изгоните навсегда этого призрака. Уверяю вас, это будет легко. Вы увидите ее такой, какая она есть теперь, а она увидит знаменитого уголовного адвоката. Все пройдет как по маслу, и вы разрешитесь от этого бремени навсегда. Духов прошлого лучше изгонять, насколько это возможно… Кстати, вы не ответили на мой вопрос: почему вы обвиняете в адюльтере мать, а не отца?
Я: Мать была слабой.
Доктор фон Галлер: Мать была для вашего отца Анимой, а ему не хватило удачи или соображения не жениться на ней. Неудивительно, что она казалась слабой; бедняжка, она несла на своих плечах такой груз за такого человека. И неудивительно, что он ополчился на нее, как вы бы, возможно, ополчились на бедную Джуди, если бы ей не повезло попасть под власть такого умного и так примитивно чувствующего человека, как вы. Знаете, мужчины очень жестоко мстят женщинам, которые, как считают мужчины, их очаровали, хотя вся вина этих несчастных в том, что по воле судьбы они были хорошенькими, или пели, или смеялись в неудачный для них момент.
Я: А вам не кажется, что в любви есть некоторый элемент очарования?
Доктор фон Галлер: Не сомневаюсь, что есть, но кто сказал, что очарование – это основа для брака? Оно присутствует, возможно, вначале, но если вы хотите, чтобы голод не приходил в ваш дом в течение шестидесяти лет, на стол нужно ставить блюда посытнее.
Я: Вы сегодня догматичны как никогда.
Доктор фон Галлер: Вы сами говорили, что вам нравится догма… Но давайте вернемся к вопросу, оставшемуся без ответа: почему вы считали, что ваша мать была способна на адюльтер, а отец – нет?
Я: Адюльтер у женщины – это всего лишь грешок, милая шалость, но у мужчины, понимаете… понимаете, у мужчины это преступление против собственности. Знаете, может быть, звучит не очень красиво, но закон все объясняет, а еще лучше объясняет это общественное мнение. Обманутый муж – всего лишь рогоносец, объект насмешек, тогда как обманутая жена – это жертва душевной травмы. Не спрашивайте меня почему. Я просто формулирую эту данность так, как ее видят общество и суд.
Доктор фон Галлер: Но эта миссис Мартиндейл, если я правильно понимаю, ушла от мужа, или он от нее. Какая тут может быть травма?
Я: Я думаю о маме. Отец знал миссис Мартиндейл задолго до смерти матери. Он мог отдалиться от мамы, но никогда не поверю, что он был способен травмировать ее, сыграть какую-то роль в ее смерти. Я хочу сказать, фехтовальщик – это так, некая благородная идея, которая может быть романтичной, но уж никак не низменной. Но вот что касается нарушителей супружеской верности – в суде я видел их без счета, и все они были людьми низменными.
Доктор фон Галлер: А отец никогда не ассоциировался у вас ни с чем низменным? Итак, вы оправились от болезни и обнаружили, что остались без вашей возлюбленной и без отца Нопвуда – но что отец по-прежнему крепко сидит в седле?
Я: И даже не так. Я по-прежнему восхищался им, но теперь мое восхищение было отягощено сомнениями. Вот почему я решил не пытаться подражать ему, не позволять себе даже думать о соперничестве с ним, но попробовать найти какое-нибудь поприще, где я смогу доказать, что стою его.
Доктор фон Галлер: Боже мой, какой фанатик!
Я: Кажется, это не вполне профессиональное проявление эмоций.
Доктор фон Галлер: Ничуть. Вы – фанатик. Знаете, что такое фанатизм? Это избыточная компенсация сомнения. Ну, продолжайте.
Да, я продолжил, и если в моей жизни было мало событий, то напряженность чувств искупала этот недостаток. Школу я закончил довольно хорошо (правда, не так хорошо, как мог бы, если бы не эта болезнь) и был готов к поступлению в университет. Отец всегда полагал, что я поступлю в Торонтский, но я хотел поехать в Оксфорд, и он поддержал мое желание. Сам он не учился в университете, потому что воевал на Первой мировой войне – и получил, кстати, орден «За безупречную службу» – в те годы, которые могли бы быть для него студенческими. Он хотел добиться успеха в жизни и подал заявление на сдачу экзамена на юриста без предварительного получения степени. В те времена такое еще допускалось. Но у него были романтические представления об университетах, так что идея поехать в Оксфорд нашла в нем отклик. И вот я поехал туда, а поскольку отец хотел, чтобы я учился в большом колледже, то поступил в Крайстчерч.[76]76
Крайстчерч – колледж Церкви Христа: один из крупнейших оксфордских колледжей (так называют высшее учебное заведение в составе университета).
[Закрыть]
Выпускники Оксфорда непременно пишут в мемуарах, как много значил для них Оксфорд. Не стану притворяться, будто место это само по себе было для меня чем-то особенным. Конечно, там было приятно, и мне нравились все эти необычные строения. Знатоки архитектуры почитают за долг нещадно их критиковать, но после Торонто у меня глаза на лоб лезли. Эти дома свидетельствовали о совершенно непривычной для меня концепции образования. Было ощущение дискомфорта, но дискомфорта без злого умысла: никакого культа дешевизны. Оксфорд показался мне городом молодежи, и эта атмосфера мне нравилась, хотя любой, не лишенный зрения, мог увидеть, что заправляют всем старики. Мой – послевоенный – Оксфорд полнился народом и быстро превращался в большой индустриальный город. Много критиковали соответствующие привилегии, и критика эта исходила главным образом от людей, сидевших в самой гуще этих привилегий и получавших от них максимум возможного. Оксфорд был частью моего плана стать особым человеком, и все, что попадалось мне на пути, я подчинял этой единственной цели.
Я изучал юриспруденцию и успевал в этом. Мне повезло – научным руководителем мне назначили Парджеттера из Баллиола.[77]77
Баллиол – название одного из колледжей Оксфорда.
[Закрыть] Он преподавал право и пользовался большой известностью – будучи слепым, он тем не менее был знаменитым шахматистом и таким преподавателем, каких я больше не видел. Он был неумолим и требователен, но именно это мне и было нужно, потому что я вознамерился стать первоклассным юристом. Понимаете, когда я сказал отцу, что хочу стать юристом, он тут же решил, что я рассматриваю юриспруденцию как ступеньку к большому бизнесу – именно по такому пути и пошел в свое время он сам. Он не сомневался, что я заменю его в «Альфе». Я и в самом деле не думаю, что он представлял для меня какое-либо иное будущее. Я, вероятно, был с ним не до конца откровенен, потому что не сказал ему сразу же, что у меня другие планы. Мне нужна была юриспруденция, потому что я хотел овладеть чем-то таким, в чем я мог бы быть уверен и где не было бы места для капризов и предрассудков – вольфовских там, нопвудовских… или отцовских. Я хотел быть хозяином своего ремесла, и ремесло мне требовалось самое выдающееся. А еще я хотел как можно больше знать о людях, работать на поприще, которое позволило бы мне разобраться в демоне, овладевшем Биллом Ансуортом.
Желания объявлять крестовый поход у меня не было. Пока болел, пока валялся без сил, я многое обдумал и, в частности, вознамерился поставить жирный крест на том, за что ратовал отец Нопвуд. Ноппи на свой манер хотел манипулировать людьми, он хотел делать их хорошими и был уверен, что знает, что такое хорошо. Для него Бог был здесь, а Христос – сейчас. Он был готов принять сам и навязать другим массу иррациональных представлений, и все это в рамках его особого понимания того, что такое хорошо. Он считал, что Бога невозможно обмануть. А мне казалось, что я каждый день своей жизни вижу, что Бога обманывают и что обманщик получает вознаграждение, добиваясь блестящих успехов.
Я хотел уйти из мира Луиса Вольфа; теперь он казался мне очень расчетливым человеком, который, несмотря на всю свою культуру, ни на йоту не желал поступиться ветхозаветными принципами, во всем подчиняясь им и требуя такого же подчинения от своей семьи.
Я хотел отдалиться от отца и спасти свою душу в той мере, в какой верил в подобные понятия. Наверное, думая о душе, я имел в виду самоуважение и независимость. Я любил отца и побаивался, но нашел крохотные трещинки в его броне. Он тоже манипулировал людьми, а вспоминая его афоризм, я не намеревался становиться человеком, которым можно манипулировать. Я знал, что на мне всегда будет это клеймо – сын Боя Стонтона – и что в некотором роде мне придется нести груз богатства, не заработанного собственными руками, тогда как наше общество рассматривает унаследованное состояние как знак позора. Но по крайней мере в какой-то части этого огромного мира я буду Дэвидом Стонтоном, недостижимым для Нопвуда, или Луиса Вольфа, или отца, потому что я превзошел их.








