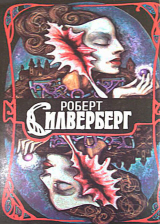
Текст книги "Трое уцелевших. Наковальня времени. Открыть небо"
Автор книги: Роберт Силверберг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
– Джим…
– Давай о чем-нибудь другом, – сказал Барретт. – Что там у Альтмана?
Лихорадка прошла?
– Он конструирует женщину.
– То же самое сказал мне Чарли Нортон. Что же он использует? Тряпье, кости?
– Я дал ему разные ненужные химикалии. Пусть подурачится. Выбирал в основном по их цвету. Он достал несколько позеленевших медных деталей, чуть-чуть этилового спирта, сульфата цинка и немного других предметов, наскреб почвы и набросал все это в груду мертвых моллюсков. Из этой слизи он лепит то, что, как он утверждает, является женским телом, и ждет, когда в него ударит молния и вдохнет жизнь.
– Другими словами, – заключил Барретт, – он чокнулся.
– Я думаю, во всем этом нет ничего опасного. По крайней мере, он больше уже не пристает к своим друзьям. Насколько я помню, ты считал, что он долго не протянет.
– А сейчас разве лучше? Если мужчине нужен секс и он может найти добровольных партнеров здесь, то меня это не касается, пока это никого не оскорбляет в открытую. Но когда Альтман начинает лепить женщину из какой-то грязи и гнилой плоти моллюсков, это означает, что мы его потеряли навсегда. И это очень плохо.
Квесада опустил глаза.
– Мы все придем к этому раньше или позже.
– Я пока еще держусь. И ты тоже.
– Дай нам срок. Я здесь всего лишь одиннадцать лет.
– А Альтман всего восемь, – ответил Барретт. – Вальдосто и того меньше.
– Некоторые ломаются быстрее других, – заметил Квесада. – А вот и наш новый товарищ.
Ханн вышел из лазарета и присоединился к ним. Он все еще был бледен и взволнован, но страх в его глазах исчез. «Он начал, – отметил про себя Барретт, – приспосабливаться к немыслимому».
– Я невольно подслушал часть вашего разговора, – сказал Ханн. – Здесь много психических заболеваний?
– Некоторые никак не могут найти для себя какое-нибудь занятие, имеющее смысл в этом мире-лагере, – сказал Барретт. – Их пожирает скука.
– А какие здесь есть занятия?
– У Квесады – его врачебная деятельность. У меня – административные обязанности. Несколько наших товарищей изучают жизнь моря, выполняя подлинные научные исследования. У нас здесь есть газета, которая выходит время от времени, ее подготовкой заняты еще нескольких человек. Затем рыбная ловля, трансконтинентальные переходы. Но всегда находятся люди, позволяющие себе впасть в отчаяние, и они ломаются. По-моему, сейчас здесь примерно тридцать-сорок подлинных маньяков, а всего нас в лагере сто сорок.
– Это не так уж плохо, – заметил Ханн, – если учесть внутренне присущую сосланным сюда людям душевную нестабильность и необычные условия жизни здесь.
– Внутренне присущую нестабильность? – повторил Барретт. – Такого я не замечал. Большинство из нас находились в здравом уме, считали себя борцами за правое дело. Вы думаете, что революционером может быть только чокнутый? Но если вы на самом деле так думаете, Ханн, то что, черт побери, вы здесь делаете?
– Вы меня не так поняли, мистер Барретт. Я не провожу никаких параллелей между антиправительственной деятельностью и умственным расстройством, ей-богу. Но вы должны признать, что многие из людей, кого привлекает любое революционное движение, ну, чуточку на чем-то помешаны.
– Как Вальдосто, – пробормотал Квесада. – Нашвыряли бомб…
– Ладно, не будем, – сказал Барретт и засмеялся. – Ханн, а вы весьма красноречивы для человека, который мямлил что-то невразумительное всего лишь несколько минут назад.
– Я вовсе не хотел поучать вас, – быстро ответил Ханн. – Возможно, это звучало несколько самодовольно и снисходительно. Я имел ввиду…
– Забудьте об этом. А чем вы все-таки занимались там, наверху?
– Я был экономистом.
– Это как раз то, что нам нужно, – обрадовался Квесада. – Он поможет нам разрешить проблему нашего годового баланса.
– Если вы там были экономистом, – сказал Барретт, – то вам представится возможность очень много говорить об этом здесь. Этот лагерь полон чокнутых экономистов-теоретиков, которые с удовольствием забросают вас своими идеями. Некоторые из них даже почти здравые. Я имею ввиду идеи.
Пойдемте со мной, и я покажу, где вы будете жить.
3
Тропинка от главного здания к хижине, где жил Дональд Латимер, в основном шла вниз, и Барретту это слегка улучшило настроение, даже несмотря на то, что он понимал: на обратном пути ему все же придется идти в гору. Хижина Латимера находилась на восточной окраине лагеря. Ханн и Барретт не спеша направились к ней. Ханн старался не подавать виду, что замечает, с каким трудом дается Барретту ходьба, а того раздражали попытки молодого человека подстроиться под его темп.
В этом Ханне его многое смущало, ибо тот был полон явных противоречий. С одной стороны, он появился здесь, испытав наиболее тяжелое темпоральное потрясение из всех, какие когда-либо видел Барретт, с другой же – оправился после него удивительно быстро. И еще – с виду хрупкий и застенчивый, он на самом деле обладал твердыми мускулами. Он создавал впечатление общей некомпетентности, но говорил, сохраняя полное самообладание. Барретта очень интересовало, что же все-таки натворил этот прилизанный молодец, чтобы заработать право на поездку в лагерь «Хауксбилль». Но чтобы выяснить это, будет еще достаточно времени. Сколько душе угодно.
Ханн показал рукой на горизонт и спросил:
– Неужели и все остальное точно такое же? Только скалы и океан?
– Да, все. Жизнь на суше еще не возникла. И не скоро возникнет. Все здесь удивительно просто, не правда ли? Ни суеты, ни огромных городов, ни транспортных пробок. Пока что на сушу вылезло только немного мха, совсем немного.
– А в море? В нем плавают динозавры?
Барретт покачал головой.
– Позвоночные животные появятся только через тридцать – сорок миллионов лет. Они возникнут в ордовикском периоде, а мы находимся в кембрийском. У нас не то что рептилий, даже рыб нет. Все, что мы можем предложить, это что-нибудь ползающее: немного моллюсков, несколько больших уродов, похожих на каракатиц, и трилобитов. Здесь семьсот миллиардов, не меньше, различных видов трилобитов. И еще у нас есть один человек по имени Мэл Рудигер, тот самый, что дал вам выпить, когда вы здесь объявились, который их коллекционирует. Он составляет каталог трилобитов. Это подлинный шедевр.
– Но ведь никто не сможет прочитать его в… в будущем.
– Там, наверху, как мы здесь говорим.
– Там, наверху.
– Очень жаль, – сказал Барретт. – Такая замечательная работа – и впустую, потому что здесь никто и гроша ломаного не даст за жизнь и трудные времена трилобитов, а там, наверху, никто даже не узнает об этом.
Мы советовали Рудигеру выбить свою книгу на непортящихся золотых пластинах в надежде на то, что палеонтологи будущего найдут их. Но он говорит, что вероятность этого ничтожно мала. Миллиард лет пережует до молекул все его пластины, прежде чем их смогут найти. И даже если их все-таки отыщут, то используют скорее всего для создания новой религии или чего-нибудь в этом духе.
Ханн потянул носом воздух.
– Почему воздух здесь так странно пахнет?
– Другое сочетание газов, – пояснил Барретт. – Мы сделали его анализ.
Больше азота, чуть меньше кислорода, почти нет углекислого газа. Но эта причина не главная. Дело в том, что это чистый воздух, не загрязненный продуктами выделения живых организмов. Никто здесь не дышит, кроме нас, а нас так мало, что это никак на воздух не влияет.
Ханн улыбнулся.
– Из-за того, что здесь так пусто, я чувствую себя как бы обманутым.
Я ожидал увидеть буйные заросли таинственных растений, пикирующих с высоты птеродактилей и, возможно, тиранозавра, атакующего забор вокруг лагеря.
– Ни джунглей, ни птеродактилей, ни тиранозавров. Ни даже заборов. Вы не приготовили домашнее задание.
– Очень жаль.
– Это – поздний кембрий. Жизнь только в море.
– Очень милосердно с их стороны выбрать такую мирную эпоху для высадки политзаключенных, – сказал Ханн. – Я опасался, что все здесь вокруг будет кусаться и царапаться.
Барретт сплюнул.
– Милосердно, черт побери! Они искали такую эпоху, из которой мы не могли бы причинить им какой-либо вред, и им пришлось зашвырнуть нас в такое далекое прошлое, когда еще не началась эволюция млекопитающих, чтобы мы, не дай бог, не поймали предка всего человечества и не порешили его. И чтобы мы уж никак не смогли изменить ход истории, убив, например, какого-нибудь детеныша динозавра, они упрятали нас туда, где нет вообще никакой жизни на суше.
– Но ведь они не против того, что вы поймаете здесь парочку трилобитов?
– По-видимому, они считают, что это безопасно, – пожал плечами Барретт. – И, судя по всему, они правы. Вот уже двадцать пять лет лагерь «Хауксбилль» здесь, и нет никаких признаков того, что мы хоть как-то повлияли на будущее. У них все идет по-старому. Разумеется, они поступают достаточно благоразумно, не посылая к нам женщин.
– Почему?
– Чтобы мы не могли размножаться и тем самым сохранить себя навеки.
Вот была бы неразбериха! Скажем, форпост человечества, помещенный сюда за миллиард лет до новой эры, у которого впереди столько времени для развития и видоизменения.
– Это была бы отдельная эволюционная ветвь.
– Еще бы, – сказал Барретт. – К началу двадцать первого века наши потомки верховодили бы независимо от того, какими они стали бы к тому времени, а другую породу людей они полностью поработили бы. Вот это были бы парадоксы, не то что смерть какого-то трилобита. Поэтому они и не высылают сюда женщин.
– Но они пересылали женщин в прошлое.
– Конечно. Существует концлагерь и для женщин, но он в нескольких сотнях миллионов лет от нас, в позднесилурийском периоде, так что любая встреча исключена. Вот почему Нед Альтман пытается соорудить для себя женщину из пыли и слизи.
– Бог сотворил Адама из более простого материала.
– Но Альтман не Бог, – подчеркнул Барретт. – В этом-то и суть проблемы. Взгляните, вот хижина, где вы сможете жить, Ханн. Я подселю вас к Дону Латимеру. Это очень отзывчивый, интересный и приятный человек. До того как он обратился к политике, он был физиком. Здесь он находится лет двенадцать, и я обязан предупредить вас, что с недавнего времени он стал впадать в сильный и в чем-то бестолковый мистицизм. Приятель, с которым он жил, покончил с собой в прошлом году, и с тех пор Дон пытается отыскать путь к освобождению из этого лагеря с помощью экстрасенсорных сил.
– Он это серьезно?
– Боюсь, что да. Но мы тоже стараемся относиться к нему серьезно. Мы все подшучиваем над причудами друг друга в «Хауксбилле». Это единственный способ избежать эпидемии массового психоза. Латимер, наверное, попытается привлечь и вас к разработке его пси-проекта. Если вам не понравится жить с ним, я смогу перевести вас в другую хижину. Мне просто хочется посмотреть, как он отреагирует на новичка в лагере. И мне хотелось бы, чтобы вы немного пожили с ним.
– Может быть, я даже помогу ему отыскать этот псионический выход отсюда, который он ищет.
– Если вам это удастся, то возьмите и меня, – попросил Барретт, и оба рассмеялись. Затем Барретт постучал в дверь к Латимеру. Ответа не последовало, и через несколько секунд он отворил дверь. В лагере «Хауксбилль» обходились без замков.
Латимер сидел, скрестив ноги, в позе медитации посреди хижины на голом каменном полу. Это был худой мужчина с кротким лицом, который только-только начал стареть. Сейчас он, казалось, был по крайней мере в миллионе километров отсюда и не обращал на них никакого внимания. Ханн пожал плечами. Барретт приложил палец к губам. Несколько минут они молча ждали, затем Латимер начал выходить из транса. Он поднялся на ноги одним ловким движением туловища, без помощи рук, и вежливо спросил Ханна:
– Вы только что прибыли?
– Час назад. Меня зовут Лью Ханн.
– Дональд Латимер, – он протянул руку для рукопожатия. – Очень жаль, что мне приходится знакомиться с вами в такой обстановке. Но, возможно, нам скоро уже не нужно будет терпеть это незаконное заключение.
– Дон, – сказал Барретт, – Лью будет жить у тебя. Я полагаю, вы поладите. Он был экономистом, пока его в 2029 году не поставили к Молоту.
Глаза Латимера ожили.
– Откуда вы? – спросил он.
– Из Сан-Франциско.
Блеск глаз погас.
– Вы бывали когда-нибудь в Торонто?
– В Торонто? Нет.
– Я оттуда. У меня была дочь, ей сейчас должно быть двадцать три года. Нелла Латимер. Может быть, вы знакомы с ней?
– Нет, к сожалению.
Латимер вздохнул.
– Маловероятно, что вы могли быть знакомы, но мне так хочется узнать, какой она стала. Она была маленькой девочкой, когда я видел ее в последний раз. Ей было… ну-ка поглядим… ей было десять лет, одиннадцатый.
Теперь, я думаю, она уже замужем. У меня, возможно, есть внуки. Или, может быть, ее сослали в другой лагерь? Она вполне могла стать политически активной и… – Латимер вздохнул. – Нелла Латимер. Вы уверены, что не были знакомы с ней?
Барретт оставил их вдвоем. Ханн, похоже, был серьезным и отзывчивым, Латимер – доверчивым, открытым, не теряющим надежды. Скорее всего, они неплохо поладят друг с другом. Барретт велел Латимеру привести новенького в главное здание к обеду, чтобы представить остальным, и вышел из хижины.
Снова пошел холодный моросящий дождь. Барретт шел медленно, мучительно взбираясь по склону, каждый раз слабо постанывая, когда приходилось опираться на костыль.
Очень грустно было видеть, как погас огонь в глазах Латимера, когда Ханн сказал, что не знаком с его дочерью. Большую часть времени узники лагеря «Хауксбилль» старались не говорить о своих семьях. Они предпочитали – и это было мудро с их стороны – подавлять в себе эти мучительные воспоминания. Думать о своих близких – все равно что испытывать боль ампутации, горькую и неизлечимую. Но прибытие новеньких обычно беспокоило старые раны. Ссыльные не получали никаких известий о родных, да и не могли получить их, так как связь с миром там, наверху, была односторонней.
Невозможно было попросить фотографии близких, заказать нужные лекарства или оборудование, получить определенную книгу или желанную видеокассету.
Власти Верховного Фронта совершенно бездумно и непредсказуемо время от времени посылали в лагерь предметы, которые могли бы быть полезны его обитателям – чтиво, медикаменты, техническую аппаратуру, продукты питания.
Но их выбор всегда был случайным, странным, обезличенным. Иногда они поражали своей щедростью – как, например, тогда, когда переслали ящик бургундского или целую коробку видеосенсорных бобин, или станцию для зарядки аккумуляторов. Такие дары обычно означали, что в политической обстановке там, наверху, наступали кратковременные оттепели, а это, как правило, вызывало желание, правда, быстро пропадавшее, быть добренькими к ребятам из лагеря «Хауксбилль».
Но в отношении пересылки информации о родственниках политика никогда не изменялась, так же как и в отношении современных газет и журналов.
Отменное вино – да. Объемное фото дочери, которую уже никогда нельзя будет обнять, – нет.
Властям Фронта было совершенно неизвестно, существует ли еще лагерь «Хауксбилль». Какая-нибудь эпидемия могла скосить там всех еще десять лет тому назад. Они не были даже уверены в том, удалось ли хоть одному из изгнанников пережить путешествие в прошлое целым и невредимым. Опыты Хауксбилля показали, что путешествие в прошлое менее чем на три года фатальным не было. Производить эксперимент с большим сроком засылки в прошлое они не решились. А каково перенестись назад на миллиард лет? Этого со всей определенностью не знал и сам Эдмонд Хауксбилль.
Вот они и отправляли узникам посылки исходя из непроверенного допущения, что лагерь существует и есть кому эти посылки принять.
Правительство главным образом интересовалось действительностью, тщательно разыскивая тех, кого затем обрекало на вечное отчуждение от общества. И все же, каким бы оно ни было, правительство внешне не было злонамеренным.
Барретт давным-давно узнал, что кроме кровавых репрессии и тирании могут быть и другие виды тоталитаризма.
На вершине холма Барретт остановился, чтобы перевести дух. Для него, разумеется, этот чужой воздух не таил в себе никаких необычных запахов. Он наполнял им свои легкие, пока не почувствовал легкого головокружения. К этому времени дождь снова прекратился. С серого неба заструились тонкие полоски солнечного света, от которого засверкали и заискрились обнаженные скалы. Барретт на мгновение закрыл глаза, опершись на костыль, и увидел как бы на внутреннем экране своего сознания существ с множеством ног, выползающих из моря, и широкий мшистый ковер, покрывающий скалы, и не цветущие растения, разворачивающие и протягивающие к солнцу свои сероватые чешуйчатые ветви, и тусклые панцири тупорылых амфибий, лежащих на берегах, и тропическую жару каменноугольного периода, когда углекислый пояс накрыл всю планету, как плащом.
Все это было в далеком будущем. Динозавры. Небольшие суетливые млекопитающие. Питекантропы, охотящиеся с помощью ручных топоров в лесах Явы. Саргон, Ганнибал и Атилла. Орвиль Райт, Томас Эдисон и Эдмонд Хауксбилль. И, наконец, милостивое правительство, которое находило мысли некоторых людей столь ужасными, что единственно безопасным местом, где этих людей можно было оставить на произвол судьбы, оказалась скала у начала времен.
Правительство было слишком цивилизованным, чтобы казнить людей за подрывную деятельность, и слишком трусливым, чтобы позволить им оставаться живыми на свободе. Компромиссом оказалось погребение заживо в лагере «Хауксбилль». Миллиард лет, через которые не перепрыгнуть, были подходящим изолятором даже для наиболее разрушительных идей.
Слегка скорчившись и превозмогая боль, Барретт снова двинулся в путь к своей хижине. Он давно уже свыкся со своим изгнанием, но никак не мог примириться с увечьем. Он не был физически слабым человеком, и потому побаивался старости, так как боялся, что она повлечет за собой уменьшение сил. Но вот ему исполнилось шестьдесят, и годы не так уж сильно истощили его, хотя он, разумеется, и стал уже не тот, что прежде. Но он был бы еще сильней, если бы не этот нелепый несчастный случай, который мог произойти с ним в любом возрасте. Праздное желание найти способ снова очутиться в своем родном времени и быть свободным больше уже не захватывало его мысли.
Теперь Барретт всей душой желал, чтобы оттуда, сверху, заслали бы в прошлое хирургический комплект, который позволил бы хоть немного поправить ногу.
Он вошел в хижину и, отставив в сторону костыль, тотчас же опустился на койку. Когда Барретт прибыл в лагерь «Хауксбилль», там еще не было никаких коек. Спать приходилось на полу, а полом служил твердый базальт.
Если было на то желание, можно было пойти и наскрести земли, заглядывая в расщелины и складки базальтового щита, собирая ее по горсти, чтобы соорудить себе ложе толщиной в дюйм. Теперь жить стало несколько легче.
Барретта сослали в лагерь на четвертый год его существования, когда там было чуть больше десятка хижин и почти никакого комфорта. Наверху шел тогда 2008 год. Лагерь в то время был голым жалким местом, и только со временем благодаря постоянным отправлениям из двадцать первого века в нем стало жить несколько терпимее.
Из пятидесяти с лишним узников, которые были сосланы до Барретта, никто в живых не остался. Вот уже почти десять лет после смерти седобородого старика Плэйеля, которого он считал святым, Барретт был старше всех в лагере.
Время здесь двигалось в масштабе один к одному со временем там, наверху. Молот был прикован только к одному моменту времени и двигался всегда вперед в том же темпе, что и само время, так что Лью Ханн, прибыв сюда сегодня более чем через двадцать лет после Барретта, покинул двадцать первый век ровно через двадцать лет, несколько месяцев, столько-то минут и секунд после депортации Барретта.
Ханн прибыл из 2029 года – в мире, который оставил Барретт, сменилось целое поколение. У Барретта сегодня не хватило духу выуживать из Ханна новости об этом поколении. Со временем он узнает обо всем, что ему нужно, но он уже знал, что в любом случае в этих новостях ничего хорошего не будет.
Он взял книгу, но усталость от ковыляния по лагерю оказалась большей, чем он предполагал. Несколько секунд он глядел на страницу, затем отложил книгу и закрыл глаза. Перед его взором стали проплывать лица. Бернстейн.
Хауксбилль. Джанет. Бернстейн. Бернстейн. Он задремал.
4
Джимми Барретту было шестнадцать лет, когда Джек Бернстейн спросил у него:
– Как это ты, такой большой и сильный, можешь быть таким уродом, чтобы равнодушно смотреть на то, что происходит со слабыми людьми в этом мире?
– Кто это говорит, что я равнодушен?
– Об этом даже не надо говорить. Это очевидно. В чем смысл твоей жизни? Что ты делаешь, чтобы предотвратить крах цивилизации?
– Это не так…
– Так, так, – презрительно произнес Бернстейн. – Эх ты, большой болван. Ты что, газет не читаешь? До тебя дошло, что наша страна испытывает конституционный кризис и что если такие, как ты и я, ничего не предпримут, то не пройдет и года, как здесь, в Соединенных Штатах, утвердится диктатура?
– Ты преувеличиваешь, – сказал Барретт. – Как обычно.
– Ну вот, так оно и есть!
Барретт разозлился, но в этом не было ничего нового. Джек Бернстейн донимал его со дня самой их первой встречи четыре года назад, в 1980 году.
Тогда им обоим было по двенадцать лет. Барретт был уже почти ста восьмидесяти сантиметров роста, сильным и крепким, а Джек – худым и бледным, недоростком для своего возраста, и казался еще меньше, когда стоял рядом с Барреттом. Что-то влекло их друг к другу – возможно, притяжение противоположностей. Барретт ценил и уважал своего невысокого приятеля за быстроту и гибкость ума и догадывался, что Джек видит в нем защитника. А защита Джеку была очень нужна. Он относился к тому типу подростков, которых хочется ударить без особых на то причин даже тогда, когда они молчат, а уж стоит такому в конце концов открыть рот, то хочется ударить еще сильнее.
Теперь им было по шестнадцать. Барретт достиг того, что, как он надеялся, будет окончательным его ростом – около двух метров – и веса за девяносто килограммов. Бриться ему приходилось ежедневно, голос его стал низким и звучным. Джек Бернстейн все еще выглядел так, словно не достиг зрелости. Росту в нем было не более ста семидесяти сантиметров, плеч вообще не было, ноги и руки были такими худыми, что Барретту казалось, он мог бы оборвать их одной рукой, голос был высоким и пронзительным, нос острым и хищным. Лицо его покрывали шрамы, оставленные какой-то кожной болезнью, а густые косматые брови образовали толстую полосу вдоль всего лба, видимую за полквартала. С возрастом он становился все более язвительным, все более возбудимым. Бывали времена, когда Барретт вообще едва его выдерживал. Как раз сейчас был один из таких случаев.
– Чего ты хочешь от меня? – спросил Барретт.
– Ты придешь на одно из наших собраний?
– Я не хочу впутываться ни в какую подрывную деятельность.
– Подрывную! – Бернстейн сверкнул глазами. – Это ярлык. Вонючая словесная чушь. Каждый, кто хочет немного подлатать мир, по твоему мнению – подрывник? Верно Джимми?
– Ну…
– Возьмем Иисуса Христа. Ты можешь назвать его деятельность подрывной?
– Думаю, что да, – осторожно ответил Барретт. – Кроме того, тебе известно, что его распяли.
– Не его первым замучили за идею, и не он был последним. Значит, ты хочешь всю жизнь отсидеться в стороне? Наращивать мускулы, жиреть, и пусть волки пожирают весь мир? А не получается ли так, что когда тебе будет шестьдесят, Джимми, и весь мир будет одним огромным невольничьим лагерем, ты будешь сидеть в цепях и приговаривать: «Ладно, я жив, так что все обошлось вполне прилично?» – Лучше быть живым рабом, чем мертвым бунтовщиком, – холодно произнес Барретт.
– Если ты так в этом убежден, то ты еще больший болван, чем я о тебе думал.
– Мне придется пришлепнуть тебя. Ты несносен и зудишь, как комар, Джек.
– Значит, ты веришь в то, что только что сказал о живом рабе? Да ты… да ты…
Барретт пожал плечами.
– Тогда пошли на собрание. Выберись из своего кокона и сделай хоть что-нибудь, Джимми. Нам нужны такие, как ты. – Голос Джека стал менее язвительным и внезапно превратился в сильный и уверенный, в нем появились властные нотки. – Люди твоего масштаба, для которых умение руководить естественная потребность… Как только мы убедим тебя в значимости того, что делаем…
– А как горстка старшеклассников может спасти мир?
Джек скривил тонкие губы, затем поджал их. Казалось, он подавил тот единственный ответ, который сам собой напрашивался. Сделав паузу, он произнес таким же новым, необычным для себя тоном:
– Не все мы старшеклассники, Джимми. Большинство ребят нашего возраста похожи на тебя – им недостает чувства ответственности. У нас есть люди постарше, которым за двадцать, за тридцать, некоторые еще старше.
Если бы ты с ними встретился, ты бы понял, что я имею в виду. Поговори с Плэйелем, если хочешь знать, что такое настоящая самоотверженность.
Поговори с Хауксбиллем. – Во взгляде Джека сверкнуло озорство. – Можешь прийти только для того, чтобы познакомиться с девчонками. Их несколько в нашей группе. Вполне эмансипированные девицы, скажу тебе честно. Но даже если это тебя не волнует, все равно приходи.
– Это коммунистическая группа, Джек?
– Нет. Определенно нет. У нас, правда, есть свои марксисты, но мы в своей политической ориентации склоняемся к правой части спектра; по сути, наша группа антикоммунистическая, потому что мы стоим за минимум государственного вмешательства в личную жизнь и помыслы. В этом смысле мы скорее анархисты. Нас можно назвать даже правыми радикалами, поскольку мы хотим ликвидировать значительную часть государственного аппарата. Теперь ты понимаешь, насколько бессмысленны эти политические ярлыки? Мы настолько далеки от настоящих левых, что могли бы быть их правым крылом, и настолько далеки от правых, что могли бы быть их левым крылом. Но у нас есть своя программа. Ты придешь?
– Расскажи о девчонках.
– Они хорошенькие, умницы, общительные. Некоторых из них может даже заинтересовать такой анатомический чурбан, как ты, просто потому, что в тебе столько здорового мяса.
Барретт кивнул.
– Я, пожалуй, приду на следующее собрание.
Он устал от нападок Бернстейна больше, чем от чего-либо другого.
Политика никогда особенно не волновала его. Но его мучили угрызения совести, когда ему говорили, что совести у него нет или что он сидит сложа руки, когда весь мир катится в тартарары, так что настойчивое хныканье Джека сделало свое дело и заставило совершить первый шаг. Он решил пойти на собрание этой подпольной группы и увидеть все собственными глазами. Он думал, что найдет там сборище обиженных нытиков и праздных мечтателей и ни за что не пойдет на другое собрание, но тогда уже Джек не сможет обвинить его в том, что он отмахивается от протянутой ему руки.
Через неделю Джек Бернстейн сообщил ему, что собрание назначено на следующий вечер. Барретт пошел на него. Это было 11 апреля 1984 года.
Вечер был холодный, ветреный, дождливый, казалось, вот-вот пойдет снег. Типичная погода для 1984 года. Этот год был как будто проклят, говорили люди. Один писатель давным-давно написал книгу об этом годе, предсказывая всяческие ужасы, и хотя ни одно из этих предсказаний не сбылось, в Соединенных Штатах было полно других неприятностей, и все это еще больше усугублялось погодой. Казалось, в этом году весна не наступит никогда. По всему Нью-Йорку еще лежали сугробы посеревшего снега, и это в середине апреля, кроме тех улиц в самом центре, где под тротуарами были проложены трубы отопления. Деревья стояли голые, без всяких намеков на почки. Плохой год для народа, напряженный и бурный. И, возможно, не такой уж плохой для революции.
Джимми Барретт встретился с Джеком Бернстейном на станции метро «Проспект-Парк», и они поехали на Манхэттен, выйдя на станции «Тайме-Сквер». Вагон, в котором они ехали, был старым и обшарпанным, но в этом не было ничего необычного. Все было запущенным и обшарпанным в этот девятый год того, что называли Неизменной Депрессией.
Они прошли по Сорок второй стрит до Девятой авеню и вошли в вестибюль золотистой башни высотой в восемьдесят этажей, одного из последних небоскребов, возникших перед Паникой. Перед ними со скрипом открылась дверь лифта. Джек надавил на кнопку «Подвал», и они поехали вниз.
– Что я должен сказать, когда у меня спросят, кто я? поинтересовался Барретт.
– Предоставь это мне, – успокоил его Джек. Его бледное прыщавое лицо преобразилось, приняв важный вид. Сейчас он был в своей стихии.
Джек-заговорщик, Джек-бунтовщик, Джек-конспиратор из подвальных коридоров.
Барретту стало не по себе, он чувствовал себя неуклюжим и наивным.
Выйдя из лифта, они пошли по коридору с низким сводчатым потолком и очутились перед закрытой зеленой дверью, подпертой стулом. Рядом со стулом стояла девушка. Ей было лет девятнадцать-двадцать, как показалось Барретту. Она была невысокая и полная, короткая юбка открывала толстые ноги. У нее была модная стрижка, но это было единственное, в чем она следовала моде. Тяжелые груди свисали без поддержки под красным шерстяным свитером, она была совсем не накрашена, если не считать небрежно наложенного голубоватого налета на губах, из уголка рта свободно свисала сигарета. Девушка выглядела так, будто умышленно была неряшливой, грубой и вульгарной, будто сгорбленную спину и напускной вид простой крестьянки она расценивала как достоинство.
Она казалась карикатурой на всех девушек, участвовавших в левых демонстрациях и маршировавших на демонстрациях протеста, размахивая воззваниями. Была ли эта неряшливая толстушка типичной для этой группы?
«Хорошенькие, умницы, общительные», – сказал Джек, умело расставляя западню с обещаниями страстей. Но, разумеется, представления Джека о привлекательных девушках вовсе не обязательно должны были совпадать с его представлениями. Для Джека – не пользующегося успехом тощего острослова любая девушка, которая позволит себя немножечко облапят, кажется Афродитой. Некрасивые ребята находили в девчонках-неряхах свои прелести, каковых Барретт, не будучи столь обделен природой, похоже, в них не замечал.
– Привет, Джанет, – сказал Джек. В его голосе снова прорезались пронзительные нотки.
Девушка хладнокровно окинула его взглядом, затем долго и оценивающе смотрела на внушительную фигуру Барретта.
– Кто это?
– Джимми Барретт. Мой одноклассник, хороший парень. В политике не искушен, но научится.
– Ты сказал Плэйелю, что пригласил его сюда?
– Нет. Но я за него ручаюсь. – Джек придвинулся к ней ближе, как-то по-особому взял ее за руку. – Да перестань строить из себя комиссара и пропусти нас, любовь моя!








