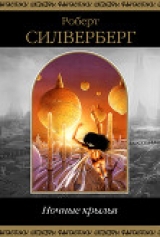
Текст книги "Ночные крылья (сборник)"
Автор книги: Роберт Силверберг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Мардикян долго молчал. Наконец, он сказал внезапно охрипшим голосом:
– Лью, ты это серьезно?
– Абсолютно.
– Если я пойду и договорюсь с Куинном, ты скажешь ему точно то, что сказал мне? Точно?
– Да.
– Подожди здесь, – сказал он.
Я подождал. Я старался ни о чем не думать, освободив ум, запустив стохастический поток: может, я ошибся, перехитрил сам себя? Я старался не верить в это. Я убеждал себя, что пришло мое время раскрыть то, на что я действительно способен. Достоверности ради я не стал упоминать о роли Карваджала в этом процессе, а с другой стороны, мне ничего не оставалось делать, и я почувствовал огромное облегчение, я чувствовал теплый легкий поток внутренней свободы теперь, когда выбрался из своего укрытия.
Минут через пятнадцать Мардикян вернулся. С ним был мэр. Они сделали несколько шагов и остановились бок о бок у двери, странно несочетающаяся пара. Темный и удивительно высокий Мардикян и светловолосый, низенький, крепкий Куинн. Они выглядели ужасно торжественно. Мардикян сказал:
– Расскажи мэру то, что рассказал мне, Лью.
Радостно я повторил свою исповедь о втором видении, используя, насколько возможно, те же самые фразы. Куинн бесстрастно слушал. Когда я закончил, он спросил:
– Сколько вы у меня работаете, Лью?
– С начала девяносто шестого.
– Почти четыре года. А сколько прошло с тех пор, как вы открыли в себе прямой канал в будущее?
– Недавно, только с последней весны. Помните, когда я предложил вам провести через городской совет билль о замораживании нефти, как раз перед тем, как танкеры потерпели крушение недалеко от Техаса и Калифорнии. Это было тогда. Я не просто гадал. А потом и другие дела, которые иногда казались такими непонятными…
– Как будто у вас сеть волшебных глаз? – поинтересовался Куинн.
– Да, да. Помните, Пол, тот день, когда вы сказали мне, что решили начать борьбу за Белый дом в две тысячи четвертом году, что вы мне тогда сказали? Вы сказали мне, что я буду вашими глазами в будущее. Вы даже представить не можете, как вы были правы.
Куинн рассмеялся. Это был не радостный смех. Он сказал:
– Я думал, что вам нужна только пара недель отдыха, чтобы прийти в себя. Лью. Но сейчас я вижу, что проблема гораздо серьезнее.
– Что?
– Вы были хорошим другом и ценным советником для меня в течение четырех лет. Я не стану принижать ценность оказанной вашим помощи. Может быть, вы получили свои идеи из глубокого интуитивного анализа тенденций, может, из компьютера, может, какой-то гений нашептывал вам их на ухо, но независимо от того откуда вы их получали, вы давали мне полезные советы. Но после того, что я услышал, я не могу продолжать рисковать держать вас в штате. Если начнут говорить, что ключевые решения Пола Куинна предсказаны ему каким-то гуру, провидцем, чем-то вроде ясновидящего Распутина, что я сам – ничто, просто кукла, танцующая на веревочках, я кончен, я мертв. Мы отправим вас с бессрочный отпуск, который был бы эффективен сейчас, с сохранением содержания до конца финансового года, согласны? Это даст вам более чем семимесячный срок для восстановления старого частного консультативного бизнеса, прежде чем вас снимут с муниципального довольствия. С этим вашим разводом и всем остальным вы, вероятно, находитесь в стесненном финансовом положении и я не хотел бы его усугублять. И давайте договоримся: я не делаю никаких публичных заявлений о причине вашей отставки, а вы не будете открыто объявлять о предполагаемом происхождении советов, которые вы мне давали. Достаточно справедливо, по-моему.
– Вы увольняете меня, – пробормотал я.
– Мне жаль, Лью.
– Я могу сделать вас президентом, Пол.
– Предполагаю, что я должен добиться этого сам.
– Вы думаете, что я сумасшедший, не так ли? – спросил я.
– Это слишком резкое слово.
– Но ведь вы так думаете? Вы думаете, что получаете советы от опасного помешанного, и не имеет значения, что советы этого помешанного всегда верны. И теперь вам надо от него избавиться, потому что люди начнут думать, что у вас в администрации работает колдун, и поэтому…
– Пожалуйста, Лью, – сказал Куинн. – Мне и так тяжело.
Он пересек комнату, сжал своей сильной рукой мою влажную и холодную. Он приблизил свое лицо к моему. Вот оно, знаменитое обхождение Куинна – еще раз, на прощание. Он сказал настойчиво:
– Верьте мне. Мне будет очень вас не хватать. Как друга, как советника.
– Может быть, я совершил большую ошибку. Мне очень больно это делать. Но вы правы, я не могу рисковать, Лью. Я не могу рисковать.
35
После обеда я вычистил свой стол и пошел домой, пошел туда, где теперь был мой дом, бродил по убогим полупустым комнатам весь остаток дня, стараясь оценить, что же произошло со мной. Уволен? Да, уволен. Я снял маску, и им не понравилось то, что было под ней. Я перестал притворяться наукообразным и раскрыл колдовство, я сказал Мардикяну истинную правду, и теперь я больше не буду ходить в Сити Холл, сидеть среди сильных мира сего, больше не буду формулировать и направлять судьбу харизматического Пола Куинна. И когда он будет принимать клятву в январе через пять лет в Вашингтоне, я буду наблюдать эту сцену издалека, по телевидению, всеми забытый смиренный изгой от администрации. Я чувствовал себя таким несчастным, что готов был заплакать. Без жены, без работы, без цели, я часами бродил по своей квартире и, устав от этого, бездумно стоял больше часа у окна, наблюдая, как небо становилось свинцовым, как первые в этом сезоне снежинки падали, медленно кружась, наблюдал холодную ночь, распростершуюся над Манхэттеном.
Затем отчаяние сменилось гневом, я позвонил Карваджалу.
– Куинн знает, – сказал я, – об отставке Судакиса. Я дал записку Мардикяну и он связался с мэром.
– Да?
– И они уволили меня. Они думают, что я сошел с ума. Мардикян переговорил с Судакисом, который сказал, что ни в какую отставку не собирается. И Мардикян сказал, что они с мэром обеспокоены моими дикими предсказаниями по магическому глазу. Они сказали, чтобы я вернулся к простой прогностической работе, поэтому я сказал им о ВИДЕНИИ. Я не упоминал вас. Я сказал, что я сам могу делать это, и что оттуда я получил такие данные, как поездка к Тибодо или отставка Судакиса. Мардикян заставил меня повторить все Куинну. И Куинн сказал, что для него слишком опасно держать в штате помешанного вроде меня. Хотя он высказал это более мягко. До тридцатого июня я в отпуске, а затем я буду исключен из платежной ведомости.
– Понятно, – сказал Карваджал, в его голосе не звучало ни сочувствия, ни разочарования.
– Вы знали, что это случится?
– Я?
– Вы должны были. Не играйте со мной в игры, Карваджал. Вы знали, что меня выкинут, если я расскажу мэру, что Судакис собирается в отставку в январе?
Карваджал ничего не ответил.
– Вы знали или нет? – я уже кричал.
– Я знал, – сказал он.
– Вы знали. Конечно, вы знали. Вы знаете все. Но мне вы не сказали.
– А вы не спрашивали, – невинно ответил он.
– Мне и в голову не пришло спрашивать. Бог знает, почему, но не пришло. А вы не могли предупредить меня? Вы не могли сказать «Держи язык за зубами, ты попадешь в еще худшую беду, чем ожидаешь, тебе дадут по заднице, если ты не будешь осторожен»?
– Почему вы так поздно задаете такой вопрос, Лью?
– А вы хотели спокойно сидеть и позволять моей карьере рушиться?
– Подумайте внимательно, – сказал Карваджал, – я знал, что вас уволят, да. Так же, как знаю, что Судакис уйдет в отставку. Но что я мог сделать? Запомните, для меня ваше увольнение уже произошло. Это не предмет для предотвращения.
– О, боже! Опять консервация реальности?
– Конечно. Действительно, Лью, вы думаете, что если бы я вас предупредил, то в вашей власти было бы что-нибудь изменить? Как это было бы бесполезно! Как глупо! Ведь нам не дано менять события, не так ли?
– Не дано, – сказал я горько. – Мы стоит в стороне и вежливо позволяем им происходить. А если необходимо, мы ПОМОГАЕМ им происходить. Даже если это несет разрушение карьеры, даже если это несет крушение попыток стабилизировать политические судьбы этой несчастной, плохо управляемой страны, ведя к президентству человека, который… О, господи, Карваджал, вы привели меня прямо туда, не так ли? Вы втянули меня во все это, а теперь умываете руки. Разве не так? Вы просто умываете руки!
– Есть кое-что похуже потери работы, Лью.
– Но все, что я строил, все, что я пытался сформировать… Как теперь, ради всего святого, я смогу помочь Куинну? Что мне делать? Вы сломали меня!
– Случилось то, что должно было случиться, – сказал он.
– Будьте вы прокляты, вместе с вашим благочестивым принятием!
– Я думал, что вы уже подошли к тому, чтобы разделить со мной это принятие.
– Я ничего не разделяю с вами, – ответил я ему. – Я вне себя, что позволил себе связаться с вами, Карваджал. Потому что я потерял Сундару, место рядом с Куинном, я потерял здоровье и рассудок, я потерял все, что имело значение для меня, и ради чего? РАДИ ЧЕГО? Ради вонючего взгляда в будущее, который, может быть не дает ничего, кроме усталости? Кроме головной боли по поводу фаталистической философии и полусырых историй о течении времени? Боже мой! Я хотел бы никогда не слышать о вас! Вы знаете, кто вы Карваджал? Вы вампир, кровосос, вытягивающий из меня энергию и жизнеспособность, использующий меня для поддержки своих сил во время вашего движения к концу вашей собственной бесполезной, стерильной, лишенной мотивов, бесцельной жизни.
Похоже, Карваджала все это даже не задело.
– Мне жаль слышать, что вы так расстроены, Лью, – сказал он мягко.
– Что еще вы скрываете от меня? Валяйте, выкладывайте мне все плохие новости. Я поскользнусь на льду на Рождество и сломаю себе шею? Я проживу все мои сбережения и меня выкинут из банка? А затем я стану наркоманом? Давайте, рассказывайте, что мне предстоит теперь!
– Пожалуйста, Лью.
– Рассказывайте!
– Вы должны постараться успокоиться.
– Рассказывайте!
– Я ничего не прячу. Зима для вас не будет насыщена событиями. Это для вас будет время перехода, размышлений и внутреннего изменения без каких-либо драматических внешних событий. А затем… Потом… Я не могу вам больше ничего сказать, Лью. Я не могу ВИДЕТЬ дальше наступающей весны.
Эти последние слова ударили меня как колом ниже пояса. Конечно! Конечно! Карваджал собирался умереть. Человек, который ничего не сделал бы для предотвращения собственной смерти, не собирался вмешиваться, когда кто-нибудь другой, даже его единственный друг, безмятежно шел к катастрофе. Он мог бы даже столкнуть этого друга со скользкого склона, если бы чувствовал, что такой толчок необходим. Было наивно с моей стороны думать, что Карваджал сделал бы что-нибудь, чтобы защитить меня от беды, если бы он когда-нибудь УВИДЕЛ эту беду. Это был человек, приносящий плохие новости. И этот человек накликал на меня беду. Я сказал:
– Всякие отношения между нами прекращаются. Я боюсь вас. Я не хочу больше иметь с вами дела, Карваджал. Больше вы обо мне не услышите.
Он молчал. Может, он спокойно смеялся. Да, почти точно, он спокойно смеялся. Его молчание лишило мою, прощальную речь мелодраматической силы.
– До свидания, – сказал я, чувствуя себя глупо, и с треском повесил трубку.
36
Зима подступила к городу. В течение нескольких лет снега не было до января и даже до февраля. А в этом году на День Благодарения все было бело от снега, в первые недели декабря вьюга сменяла вьюгу до тех пор, пока не стало казаться, что вся жизнь в Нью-Йорке замрет в новой хватке ледникового периода. В городе была сложнейшая снегоуборочная техника: под дорожным покрытием везде были проложены кабели обогрева, уборочные грузовики с платформами, снабженными огромными емкостями для растапливания снега, армада снегоуборочных машин и снегоприемников, волокуш-скребков и снегосепараторов, но никакие уборщики не могли справиться с проделками погоды, которая покрыла все десятисантиметровым слоем снега в среду, дюжиной сантиметров в пятницу, пятнадцатью в понедельник и полуметром в субботу. Неожиданно между штормами наступила оттепель, и верхний слой снежной массы размяк и начал таять, переполняя водосточные канавы. Но затем опять наступил холод, убийственный холод, и то, что растаяло, быстро превратилось в острые, как нож, льдинки. Вся деятельность остановилась в замерзшем городе. Везде царило таинственное молчание. Я не выходил из дома; так же поступали все, у кого не было очень мощных стимулов для того, чтобы выходить. Тысяча девятьсот девяносто девятый год, весь двадцатый век, казалось, отбывал в тишину вечной мерзлоты.
В это суровое время я фактически ни с кем не контактировал, кроме Боба Ломброзо. Финансист позвонил через пять или шесть дней после моего увольнения, чтобы выразить сожаление.
– Но почему? – хотел он знать, – ты вообще решил рассказать Мардикяну об истинной подоплеке всего этого?
– У меня не было выбора. Они с Куинном перестали воспринимать меня серьезно.
– И ты думаешь, что они стали бы относится к тебе серьезнее, если ты заявишь им о том, что ты можешь видеть будущее?
– Я рискнул и проиграл.
– Для человека, у которого всегда было так сильно развито шестое чувство, Лью, ты повел себя в этой ситуации удивительно глупо.
– Я знаю, знаю. Полагаю, я посчитал, что у Мардикяна более гибкое воображение. Куинна я, возможно, тоже переоценил.
– Хейг не добился бы того, чего достиг сегодня, если бы у него было гибкое воображение, – сказал Ломброзо. – Что касается мэра, он делает большие ставки и не хотел бы рисковать без необходимости.
– Но ради меня стоит рисковать, Боб. Я могу помочь ему.
– Если ты намереваешься добиться, чтобы он взял тебя обратно, забудь об этом. Куинн в ужасе от тебя.
– В ужасе?
– Ну, может, это и слишком сильное слово. Но ты доставил ему достаточно неудобств. Он почти уверен, что ты действительно можешь делать то, о чем заявил. Я думаю, это напугало его.
– Так, что он смог уволить подлинного пророка?
– Нет, что подлинные пророки вообще существуют. Он сказал (это абсолютно конфиденциально, Лью, у меня будут большие неприятности, если он узнает, что ты это слышал), он оказал, что сама идея того, что люди на самом деле могут быть способны видеть будущее, сокрушила его, как будто его схватили за горло. Что это заставляет его чувствовать себя параноиком, это ограничивает его право выбора, это заставило его почувствовать, что горизонт вокруг него сужается. Это все его фразы. Ему ненавистна концепция детерминизма как таковая. Он верит, что он человек, который всегда сам формировал свою судьбу. Он чувствует что-то вроде экзистенциального террора, когда контактирует с людьми, интерпретирующими будущее как четкую запись, как книгу, которую можно открыть и прочесть. Потому что это превращает его самого в марионетку, действующую по предопределенной схеме. Этого достаточно, чтобы ввергнуть Пола Куинна в паранойю. А ты оказался именно таким человеком. И что его особенно беспокоит, так это то, что он принял тебя на работу, сделал человеком своей команды, держал тебя рядом с собой четыре года, не сознавая, какую опасность ты представляешь для него.
– Я никогда не представлял для него опасности, Боб.
– Он смотрит на это по-другому.
– Он неправ. Хотя бы в одном: будущее не было для меня открытой книгой все те годы, в которые я был рядом с ним. Я пользовался стохастическими средствами до недавнего времени, пока не попал в ловушку Карваджала. Ты это знаешь.
– Но Куинн этого не знает.
– Что из того? С его стороны абсурдно считать, что я представляю угрозу. Послушай, все мои чувства к Куинну всегда вертелись вокруг благоговения я обожания, уважения и даже любви. Я люблю его. Даже сейчас. Я все еще считаю его великим человеком, великим политическим лидером. И я хочу, чтобы он был президентом. И хотя мне бы хотелось, чтобы он не паниковал по моему поводу, я вообще на него не обижен. Я осознаю, что с его точки зрения, должно быть, кажется необходимым избавиться от меня. Но я ВСЕ ЕЩЕ хочу делать для него все, что могу.
– Он не возьмет тебя обратно, Лью.
– О'кей, я принимаю это. Но я могу продолжать работать на него так, чтобы он не знал об этом.
– Как?
– Через тебя, – сказал я. – Я могу передавать тебе предложения, а ты можешь переправлять их Куинну, как будто это результат твоих собственных размышлений.
– Если я приду к нему с чем-нибудь вроде того, что ты ему принес, – сказал Ломброзо, – он избавится от меня так же быстро, как избавился от тебя. А может быть, еще быстрее.
– Они будут иного сорта, Боб. Во-первых, я теперь знаю, о чем слишком рискованно говорить ему. Во-вторых, у меня нет больше моего источника. Я порвал с Карваджалом. Ты знаешь, что он вообще не предупредил меня о том, что меня уволят? Будущее Судакиса он мне предсказывает, а мое – нет. Я думаю, он ХОТЕЛ, чтобы меня уволили. От Карваджала у меня одни только огорчения, больше я не хочу. Но я по-прежнему могу переложить свои собственные интуитивные способности, мои стохастические умения. Я могу анализировать тенденции и вырабатывать стратегии, а затем я могу передавать тебе свои предвидения, ведь так? Можно? Мы будет отправлять это Куинну, и Мардикян никогда не догадается, что мы с тобой в контакте. Ты не можешь взять и бросить меня в пустоте. Боб. Пока есть работа, которую нужно делать для Куинна. Ладно?
– Мы можем попытаться, – осторожно ответил Ломброзо. – Полагаю, мы можем сделать такую попытку, да. Хорошо. Я буду твоим рупором, Лью. Но ты должен позволить мне выбирать, что я буду передавать Куинну, а что нет. Запомни, теперь моя шея на плахе, а не твоя.
– Конечно, – сказал я.
Если я сам не могу служить Куинну, я буду делать это через доверенных лиц. Впервые со времени своего увольнения я почувствовал надежду и ожил. В эту ночь даже не было снега.
37
Но работа через доверенное лицо не получилась. Мы пытались, но провалились. Я прилежно засел за газеты и стал изучать текущие события – за одну неделю без работы я потерял нити полудюжины возникающих структур. Затем я предпринял рискованное путешествие по морозному городу в контору «Лью Николс ассошиэйтс» (все еще работающую, хотя почти на холостом ходу и совсем вяло) и заложил свои прогнозы в компьютер. Я послал результаты Бобу Ломброзо с курьером, так как не хотел прибегать к помощи телефона. То, что я передал ему, не было чем-то значительным, так, пара пустяковых предложений по поводу политики организации трудовой деятельности и трудоустройства. В течение следующих нескольких дней я выработал еще несколько почти таких же банальных идей. А потом позвонил Ломброзо и сказал:
– Нам придется остановится. Мардикян нас засек.
– Что случилось?
– Я передавал твою информацию небольшими порциями, время от времени. А прошлым вечером мы обедали с Хейгом, и когда дошли до десерта, он вдруг спросил меня, поддерживаю ли я тобой связь.
– И ты сказал ему правду?
– Я старался не сказать ему ничего. Я пытался увильнуть, но у меня не получилось. Ты знаешь, что Хейг очень проницателен. Он видел меня насквозь. Он прямо спросил, получаю ли я от тебя материал. Я пожал плечами, а он засмеялся и сказал, что уверен в этом, потому что чувствует твое прикосновение к информации. Я не признался ни в чем. Хейг только предположил. И его предположения были верны. Очень благожелательно он приказал мне перестать, так как я подвергаю опасности свое собственное положение рядом с Куинном, если мэр начнет подозревать, что происходит.
– Значит, Куинн еще не знает?
– Скорей всего нет. И Мардикян, похоже, не планирует настучать ему. Но у меня нет выбора. Если Куинн узнает обо мне, меня выкинут. Он впадает в абсолютную паранойю, когда кто-нибудь в его присутствии упоминает имя Лью Николса.
– Так плохо, да?
– Так плохо.
– Так что теперь я стал врагом, – сказал я.
– Боюсь, что да. Мне очень жаль, Лью.
– Мне тоже, – вздохнул я.
– Я не будут звонить тебе. Если я тебе понадоблюсь, связывайся со мной через мою контору на Уолл-стрит.
– О'кей. Я не хочу завести тебя в беду, Боб.
– Мне очень жаль, – повторил он.
– О'кей.
– Если я могу что-нибудь для тебя сделать…
– О'кей. О'кей. О'кей.
38
За два дня до Рождества был отвратительный шторм, просто ужасный шторм, суровые жестокие ветра и субарктическая температура, сильный, сухой, тяжелый, бесчеловечный снегопад. Такой шторм, чтобы ввергнуть в депрессию жителя Миннесоты и заставить плакать эскимоса. Весь день дрожали стекла в верхних рамах моего дома, а каскады снега обрушивались на них, как полные горсти гальки. Я дрожал вместе с. ними, думая о том, что еще грядут невзгоды января и февраля, да и в марте снег вполне возможен. Я рано лег в постель и рано проснулся ослепительным солнечным утром. Холодные солнечные лучи часто бывают после вьюги, так как ветер приносит сухой воздух и безоблачное небо. Но было что-то необычное в наполняющем комнату свете. Он был неприятного оттенка замерзшего лимона, обычного для зимнего дня. И, включив радио, я услышал, как диктор говорит о коренном изменении погоды. Неожиданно ночью огромные массы воздуха из Калифорнии переместились на север, и за ночь температура поднялась до неправдоподобной теплоты позднего апреля.
И апрель остался с нами. День за днем необычная жара холила и нежила измученный зимой город. Конечно, сперва все было в кутерьме, пока огромные торосы совсем недавнего снега размягчались и таяли, бежали бурными реками по водостокам.
Но к середине праздничной недели самая большая слякоть исчезла. И Манхэттен, сухой и приведенный в порядок, принял непривычно хороший вычищенный вид. Мимоза и сирень поспешно начали пускать почки за два месяца до срока. Волна легкомыслия прокатилась над Нью-Йорком: теплые пальто и куртки исчезли, по улицам ходили толпы улыбающихся, жизнерадостных людей в легких туниках и куртках, множество обнаженных и полуобнаженных любителей загара возлежало на солнечных набережных в Центральном парке, возле каждого фонтана в центре города был полный комплект музыкантов, фокусников и танцоров. Карнавальная атмосфера усиливалась по мере того, как отступал старый год и держалась поразительная погода. Ведь это был тысяча девятьсот девяносто девятый год, и это было не только убытие года, но и целого тысячелетия. (Те, кто настаивал, что двадцать первый век и третье тысячелетие не начнутся до первого января две тысячи первого года, считались педантами и. просто людьми, желающими испортить настроение.) Пришедший в декабре апрель выбил всех из колеи. Неестественная мягкость погоды, последовавшая так скоро за неестественным холодом, непостижимая яркость солнца, висящего низко над южным горизонтом, волшебная мягкость весеннего воздуха придавали эксцентричный апокалиптический аромат этим дням. Все казалось возможным, не вызывало бы удивления появление странных комет в ночном небе или интенсивное перемещение созвездий.
Я представлял, что что-то подобное было в Риме накануне прибытия готтов или в Париже на рубеже террора. Это была веселая, но непонятно тревожная и пугающая неделя. Мы наслаждались чудесным теплом, но в то же время воспринимали это как примету, знамение наступающего мрачного противостояния. По мере того, как приближался финальный день декабря, чувствовалось странное сильное напряжение. Ветреное настроение все еще не оставляло нас, но ему должен был наступить резкий конец. Наше чувство можно было сравнить с отчаянной веселостью канатоходцев, танцующих над бездонной пропастью. Были такие, кто говорил, что канун нового года будет отравлен неожиданным снегопадом и ураганом, несмотря на предсказания бюро погоды о продолжении потепления. Но день оказался солнечным и приятным, как и все семь предшествующих. К полудню мы узнали, что это самое теплое тридцать первое декабря в Нью-Йорке с тех пор, как такие данные стали отмечать, и что ртутный столбик продолжает подниматься, так что мы перешли из псевдо-апреля, в приводящий в смущение воображение июнь.
Все это время я сосредотачивался на себе, завернувшись в саван мрачного смятения и, похоже, жалости к себе. Я не звонил никому: ни Ломброзо, ни Сундаре, ни Мардикяну, ни одному из клочков и фрагментов своего прошлого существования. Я выходил на несколько часов каждый день побродить по улицам (кто мог устоять перед этим солнцем?), но я ни с кем не разговаривал, и сам отбивал охоту у людей разговаривать со мной. К вечеру я бывал дома, один, немного читал, выпивал немного бренди, слушал музыку, не очень-то вслушиваясь, и рано ложился спать. Моя изоляция лишила меня всей стохастической грации: я жил целиком в прошлом, как животное, без малейшего представления о том, что может быть дальше, без предсказаний, не собирая и не распутывая схемы сознания.
В канун нового года я почувствовал, что мне нужно выйти на улицу. Невыносимо было баррикадироваться в одиночестве в такую ночь, накануне, кроме всего прочего, моего тридцать четвертого дня рождения. Я подумал позвонить кому-нибудь из друзей, но нет, социальная деятельность опустошила меня. Я должен красться одинокий и неузнанный по улочкам Манхэттена, как Гарун-аль-Рашид по Багдаду. Но я надел свой самый модный и лучший летний костюм фазаньей расцветки, переливающийся и искрящийся алыми и золотыми нитями, расчесал бороду, побрил череп и беспечно вышел провожать век в последний путь.
Стемнело рано – все-таки это была глубокая зима, независимо от того, что показывал термометр – и город сиял огнями. Хотя было только семь часов, чувствовалось, что празднование уже началось. Я слышал пение, отдаленный смех, звуки музыки и вдалеке звон бьющегося стекла. Я съел постный обед в крохотном ресторане самообслуживания на Третьей Авеню и бесцельно пошел на юго-запад.
Обычно никто не бродил по Манхэттену после наступления темноты. Но в этот вечер улицы были заполнены народом, как днем: везде пешеходы, смеющиеся, глазеющие на витрины, приветствующие незнакомцев, весело толкающиеся – и я чувствовал себя в безопасности. Неужели это был Нью-Йорк? Город закрытых лиц и настороженных глаз, город ножей, поблескивающих на темных мрачных улицах? Да, да, да, Нью-Йорк, но преображенный Нью-Йорк, Нью-Йорк тысячелетия, Нью-Йорк в ночь критической Сатурналии.
Сатурналия, да, вот что это было, безумное празднество, неистовство исступленного духа. Каждая таблетка психиатрической фармакопеи продавалась вразнос на каждом углу, и торговля шла оживленно. Ни один человек не шел прямо. Везде выли сирены, как бы знаменуя веселье. Сам я не принимал наркотиков, кроме древнейшего – алкоголя, который обильно вливал в себя, переходя из таверны в таверну. Здесь пиво, там глоток ужасного бренди, немного текилы, немного рома, мартини и даже старого темного шерри. Голова у меня кружилась, но я не падал. Каким-то образом я умудрялся держаться прямо и более-менее координировал свои движения. Мой мозг работал с привычной ясностью, наблюдая, запоминая.
Час от часу безумие определенно нарастало. До девяти в барах почти не видно было обнаженных тел, а в половине десятого голая потная плоть была повсюду, подскакивающие груди, трясущиеся ягодицы, все кружилось, прихлопывая и притопывая. До половины десятого я почти не видел парочек, прижавшихся друг к другу, а в десять на улицах совокуплялись вовсю. Подспудное насилие ощущалось весь вечер – выбивали окна, били уличные фонари – а после десяти оно быстро стало набирать силу: кулачные бои, иногда веселые, иногда убийственные, а на углу Пятьдесят Седьмой и Пятой шло сражение толпы, сотня мужчин и женщин били друг друга кулаками куда попало. Везде шли шумные разборки автомобилистов. Казалось, что некоторые водители намеренно врезались в автомобили, явно чтобы получить удовольствие от разрушения. Были ли убийства? Очень вероятно. Изнасилования? Тысячи. Увечья и другие безобразия? Без сомнения.
А где была полиция? Я видел их здесь и там, некоторые безуспешно пытались предотвратить нарастание беспорядков, другие позволяли их и сами подключались. Полицейские с пылающими лицами и горящими глазами счастливо вступали в бои, превращая их в военные сражения. Полицейские покупали наркотики у уличных торговцев, голые до пояса полицейские тискали голых девушек в барах, полицейские с хрипом разбивали ветровые стекла машин своими дубинками. Общее сумасшествие было заразительно. После недели апокалиптических комментариев, недели огромного напряжения никто не мог бы удержаться в рамках здравомыслия.
Полночь застала меня в Таймс сквере. Старая традиция, отринутая городом еще десять лет назад: тысячи, сотни тысяч людей заполонили пространство между Сорок шестой и Сорок седьмой улицами, крича, распевая, целуясь, раскачиваясь. Неожиданно раздался бой часов. Потрясающие лучи пронзили небо. Вершины башен офисов озарились сиянием под лучами прожекторов. Двухтысячный год! И пришел мой день рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!
Я был пьян. Я был вне себя. Общая истерия передалась и мне. Я обнаружил, что мои руки хватают и стискивают чьи-то груди, мои губы впиваются в чьи-то губы, чье-то жаркое влажное тело прижимается к моему. Толпа подалась и разделила нас. Я двигался в тесноте, толкаясь, смеясь, борясь, чтобы схватить воздуху, спотыкаясь, падая, подымаясь, чуть не упав под тысячу пар ног.
– Пожар! – закричал кто-то. И действительно, языки пламени плясали высоко на здании к западу от Сорок четвертой улицы. Какое прекрасное оранжевое освещение – мы стали орать и аплодировать. Мы все Нероны сегодня, думал я, и меня тащило вперед, на юг. Больше я не мог видеть пламени, но запах дыма распространился повсюду. Били колокола. Выли сирены. Хаос.
А затем я почувствовал, как будто меня ударили кулаком в затылок, я упал на колени на открытом пространстве, ошеломленный, закрыл лицо руками, чтобы защититься от следующего удара, но следующего удара не было, только поток видений. Видений. Изменчивый стремительный поток образов бурлил в моем мозгу. Я видел себя старым и изношенным, кашляющим на больничной кровати, окруженным блестящими тонкими трубками медицинской аппаратуры. Я видел себя плавающим в чистом горном озере. Я видел, как бил и трепал меня прибой на каком-то диком тропическом берегу. Я заглянул в таинственную внутренность какого-то огромного непостижимого хрустального механизма. Я стоял у края расплавленной лавы, смотря, как расплавленные массы пузырятся и лопаются на поверхности, как в первое утро Земли. Цвета атаковали меня, голоса нашептывали мне кусками, пульсирующими клочками слов обрывки фраз.
– Это поездка, – говорил я себе, – поездка, путешествие, очень плохое путешествие, но даже самое плохое путешествие в конце концов кончается. – И я припал к земле, дрожа, стараясь сопротивляться, чтобы кошмар прошел сквозь меня и выплеснулся наружу. Возможно, это состояние продолжалось несколько часов, а может, всего одну минуту. В краткий миг прояснения сознания я сказал себе: «Это ВИДЕНИЕ, вот как оно начинается, как лихорадка, как сумасшествие», – я помню, как говорил себе это.








