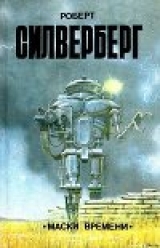
Текст книги "Маски времени (сборник)"
Автор книги: Роберт Сильверберг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 48 страниц)
41
Мы материализовались под сенью мерцающего купола, сдали свои инфицированные скафандры и вышли оттуда чистые и облагороженные чувством сострадания. Но образ Пульхерии никак не выходил из моей головы. Терзаемый невыносимыми душевными муками, я все еще пытался перебороть искушение.
Вернуться назад, в 1105 год? Позволить Метаксасу каким-то образом помочь мне установить тесные взаимоотношения с семьей Дукасов? Совратить Пульхерию и утолить тем самым свое томление?
Нет. Нет. Нет. Нет.
Прочь искушение! Ищи для себя другой предмет вожделения. Вместо этого переспи хотя бы с императрицей Феодорой.
Я поспешил назад в Стамбул и шунтировался вверх по линии в 537 год. Прошел в Айя-Софию, чтобы поискать там Метаксаса, который должен был присутствовать на церемонии освящения.
Метаксас, разумеется, там был во многих частях толпы. Я заприметил не меньше десятка Метаксасов (успел увидеть также двух Джадов Эллиотов, а ведь я не пересмотрел и половины присутствовавших в соборе в этот день). Первые две попытки подступиться к Метаксасу оказались неудачными – результат действия парадокса разрыва времени: один, раздраженно нахмурившись, отмахнулся от меня, другой же сказал просто: «Кем бы вы ни были, но мы пока еще с вами не знакомы. Идите вон». Только с третьей попытки я отыскал Метаксаса, который меня узнал, и мы договорились встретиться вечером на постоялом дворе, где ночует его группа. Он собирался сделать следующую остановку внизу по линии в 610 году, чтобы показать участникам своего маршрута коронацию императора Ираклия.
– Договорились? – спросил он у меня. – Между прочим, каков ныне твой временной базис?
– Начало декабря 2059 года.
– Я впереди тебя, – сказал Метаксас. – Я из середины февраля 2060 года. Вот как разошлись наши временные базисы. Сейчас мы не находимся в синхронизме друг с другом.
Его заявление напугало меня. Этому человеку были известны два с половиной месяца моего будущего. Этикет требовал, чтобы он оставил эти знания при себе; вполне возможно, что я буду (а для него уже был) убит в январе 2060 года и что этому Метаксасу известны все подробности, но он не имел права даже намекнуть мне об этом. Так что мне было здорово не по себе.
Он понял это.
– Может быть, тебе лучше попробовать найти другого меня? – спросил он.
– Нет. Все в порядке. Думаю, что все как-нибудь образуется.
Лицо его было непроницаемой маской. Он продолжал играть по правилам: ни единым мускулом или интонацией голоса он не выдавал своей реакции, чтобы я не мог прочесть свое собственное будущее в выражении его лица.
– Когда-то вы мне предлагали помочь пробраться к императрице Феодоре.
– Я помню это, да.
– Тогда я отверг ваше предложение. А теперь я бы не прочь ее попробовать.
– Нет проблем, – сказал Метаксас. – Давайте перепрыгнем вверх в 535 год. Юстиниан целиком поглощен строительством Айя-Софии. Феодора вполне доступна.
– Так просто?
– Вот именно.
Мы шунтировались. Холодным весенним днем 535 года я и Метаксас прошли в Большой дворец, где он вскоре нашел одного пухлого, очень похожего на евнуха, типа по имени Анастасий и имел с ним продолжительный и очень оживленный разговор. Очевидно, Анастасий был главным поставщиком любовников для императрицы в этом году, и в круг его обязанностей входило подыскивать для нее – откуда угодно – до десятка молодых мужчин на ночь. Разговор велся на пониженных, приглушенных тонах, время от времени он прерывался вспышками раздражения. Судя по тому, что мне удалось подслушать, Анастасий предлагал мне всего один час с Феодорой, а Метаксас твердо настаивал на целой ночи. Меня это несколько встревожило, ибо, хотя мои мужские достоинства были весьма немалыми, я не знал, удастся ли мне удовлетворить запросы самой знаменитой в истории нимфоманки с вечерней зари до утренней. Я просигналил Метаксасу, чтобы он согласился и на что-нибудь менее грандиозное, но он упорствовал. В конце концов Анастасий обещал предоставить в мое распоряжение четыре часа пребывания с императрицей.
– Если выдержит пробные испытания, – не преминул напомнить толстяк.
Пробные испытания проводились необузданной девахой по имени Фотия, она была одной из фрейлин императрицы. Анастасий самодовольно наблюдал за нами в действии. У Метаксаса сохранилась еще по крайней мере крупица хорошего воспитания – он вышел из комнаты. Чтобы снаружи наблюдать, я так полагаю, за тем удовольствием, какое получает Анастасий, взирая на нашу возню с Фотией.
У Фотии были густые черные волосы, тонкие губы, большая грудь, и была она прожорливой до ужаса. Вам когда-нибудь доводилось видеть, как морская звезда пожирает устрицу? Нет? Ну что ж, все равно попытайтесь представить себе эту картину. Так вот, Фотия была морской звездой в сексе. Способности ее были просто фантастическими. Уж в каких только позициях я не заставлял ее покоряться своему желанию, до каких только вершин исступления не доводил! И – как оказалось – я выдержал проверку с честью, ибо Анастасий выразил свое одобрение и подтвердил, что мне будет представлено свидание с Феодорой. Продолжительностью в четыре часа!
Я поблагодарил Метаксаса, и он покинул меня, шунтировавшись в 610 год, на свой маршрут.
Теперь все заботы обо мне взял на себя Анастасий. Меня вымыли, выхолили, промассажировали мне кожу, заставили проглотить какую-то маслянистую, горькую на вкус пакость, которая, как утверждали, была сильно действующим возбуждающим средством. А за час до полуночи затолкали в спальные покои императрицы Феодоры.
Клеопатра… Далила… Екатерина… Лукреция Борджиа… Феодора.
Существовала ли когда-либо хоть одна из этих женщин вообще? Были ли они на самом деле до такой степени распущенными? И могло ли на самом деле случиться такое, чтобы Джадсон Дэниэль Эллиот третий стоял перед постелью беспредельно развратной императрицы Византии?
Мне было известно то, что рассказывает о ней Прокопий. Оргии во время государственных обедов. Эксгибионистские раздевания прямо в театре. Непрекращавшиеся незаконные беременности и ежегодные выкидыши. Предательство по отношению к бывшим друзьям. Отрезанные уши, носы, яичники, половые члены, конечности и губы тех, кому не удалось удовлетворить ее. Предложение мужчинам всех без исключения отверстий своего тела прямо на алтаре Афродиты. Если соответствовал истине хотя бы один рассказ из десяти, приводимых Прокопием, то и тогда ее порочность можно было считать никем не превзойденной.
Это была бледноватая женщина с очень гладкой кожей, большой грудью и узкой талией. Она оказалась на удивление невысокой, ее макушка едва доходила до моей груди. Вся ее кожа насквозь пропиталась благовониями, но тем не менее мои ноздри безошибочно уловили источаемый ею телесный дух. Глаза у нее были колючие, равнодушные, жестокие, с несколько расширенными зрачками – глаза настоящей нимфоманки.
Она даже не спросила моего имени. Велела мне раздеться, внимательно осмотрела и кивнула. Прислужница принесла нам густое приторное вино в огромных размеров амфоре. Мы выпили немалое его количество, а затем Феодора обмазала тем, что осталось, свою кожу от лба до кончиков пальцев ног.
– Слизывай его, – приказала она.
Я повиновался. Как повиновался и всем остальным ее повелениям. Я провел с ней, наверное, самые странные часы моей жизни. Запросы ее оказались замечательно разнообразными, и мне за свои четыре часа удалось удовлетворить большую их часть. И все же ее пиротехника не воспламеняла, а скорее даже охлаждала мой пыл. Было что-то механическое, совершенно лишенное человеческих эмоций, в том, как Феодора подставляла для моих манипуляций то одну часть тела, то другую. Впечатление было такое, будто она все время заглядывает в какой-то заранее составленный перечень, по которому проходится вот уже, наверно, в миллионный раз.
Разумеется, все это было очень интересно, особенно та энергия, с которой все это проделывалось. Но ошеломлен или потрясен я вовсе не был. Я хочу сказать, что почему-то ожидал куда большего от своего пребывания в одной постели с одной из самых известных в мировой истории грешниц.
Когда мне было четырнадцать лет, один бывалый мужчина, который немало просветил меня в отношении тех сил, что двигают всем миром, сказал:
– Сынок, достаточно попробовать только один кусочек, как будешь знать вкус всего остального.
Тогда я только-только лишился невинности, но уже осмелился не согласиться с ним. Некоторые возражения у меня есть еще, но их все меньше и меньше с каждым прожитым годом. Женщины действительно различны очень многим: фигурой, страстностью, техникой, подходами. Но теперь, после обладания императрицей Византии, – не забывайте об этом: самой Феодорой! – я начинаю задумываться над тем, что мой бывалый наставник был, пожалуй, прав. Достаточно испробовать одну, и считай, что знаешь их всех.
42
Я вернулся в Стамбул и отметился в курьерской службе, после чего забрал группу из восьми человек на двухнедельный маршрут.
Ни черная смерть, ни Феодора не смогли вытравить мою страсть к Пульхерии Дукас. Я надеялся стряхнуть с себя это опасное наваждение, окунувшись с головой в работу.
Моя группа состояла из таких экскурсантов:
Дж. Фредерика Гостмэна из Байлоккси, штат Миссисипи, мелкого дельца в сфере торговли медикаментами и трансплантантами, его жены Луизы, их шестнадцатилетней дочери Пальмиры и четырнадцатилетнего сына Бильбо; Конрада Зауэрабенда из Сент-Луиса, штат Миссури, биржевого маклера, путешествующего в одиночку; мисс Эстер Пистил из Бруклина, Нью-Йорк, молодой школьной учительницы; Леопольда Хэггинса из Санкт-Петербурга, штат Флорида, отошедшего от дел фабриканта, и его жены Крайстэл.
Короче – это был стандартный набор обожравшихся деньгами, но недоучившихся бездельников. Зауэрабенд, который оказался мордатым сердитым толстяком, сразу же люто невзлюбил Гостмэна, который был мордатым, но общительным и добродушным толстяком. Гостмэн отпустил шутливое замечание по поводу того, что Зауэрабенд пытался заглянуть за пазуху его дочери во время одного из инструктажей. Я не сомневаюсь в том, что Гостмэн пошутил, но Зауэрабенд раскраснелся и пришел в ярость, в результате чего Пальмира, которая в свои шестнадцать лет была настолько инфантильной, что вполне могла сойти за тринадцатилетнюю, выбежала из комнаты вся в слезах. Я постарался уладить ссору, но Зауэрабенд продолжал метать в сторону Гостмэна свирепые взгляды.
Мисс Пистил, школьная учительница, блондинка с отсутствовавшим вглядом, искусственно увеличенной грудью и лицом, которому она умудрялась придавать одновременно выражение строгости и томности, уже на первом же нашем занятии с непоколебимой решительностью повела себя так, будто она участвует в подобных маршрутах только с одной целью, чтобы ею пользовались курьеры. Но даже если бы я и не был всецело поглощен Пульхерией, не думаю, что злоупотребил бы ее доступностью. А в той ситуации, в которой я теперь оказался, у меня вообще не было никакого, даже самого малейшего желания проверить, чем может похвастаться мисс Пистил ниже пояса.
Совсем иное дело – юный Бильбо Гостмэн, который оказался таким модником, что носил панталончики, подбитые спереди подушечками (если в моду вошли лифы, характерные для критянок второго тысячелетия до Рождества Христова, то почему не могли снова стать модными гульфики?); руки его оказались под юбкой у мисс Пистил уже на нашем втором инструктаже. Он полагал, что проделывает это совершенно незаметно, но это сразу стало для меня очевидным, как не ускользнуло и от внимания папаши Гостмэна, который весь аж засветился, испытывая родительскую гордость за такого сына. Не удалось ему укрыть свои попытки и от взгляда Хэггинс, которая была настолько потрясена, что ее едва не хватил удар. У мисс Пистил был очень взволнованный вид, ее уже трясло мелкой дрожью, и она то и дело извивалась на месте, чтобы юному Бильбо было удобнее продолжать свое ознакомление с нею. Тем временем мистер Леопольд Хэггинс, которому было восемьдесят пять лет и от которого остались, пожалуй, только кожа да кости, с надеждой подмигивал миссис Луизе Гостмэн – спокойной женщине с характерной для хранительницы семейного очага внешностью, уделом которой стал постоянный отпор трепетным домогательствам престарелого негодника.
Вот мы и отправились вместе на этот двухнедельный счастливый маршрут.
Я снова оказался самым низкосортным курьером. Мне никак не удавалось вызвать в себе то вдохновение, что посещало меня раньше. Я показывал своей группе все, что было положено, но не способен был ни на что, не предусмотренное в маршруте. Я был не в состоянии последовательностью мелких прыжков развернуть перед своими туристами панораму событий во всей ее цельности и полноте, как это делал Метаксас, и как я сам собирался всегда поступать в качестве курьера времени.
Частично мои беды объяснялись неопределенностью моего положения в отношении Пульхерии. Образ ее тысячи раз за день представал перед моим мысленным взором. Я представлял себе, как я перепрыгиваю в 1105 год и начинаю планомерную обработку Пульхерии; она несомненно, помнит меня по лавке с пряностями, как я помню не допускавшее никаких других толкований, неприкрытое приглашение, которое она выразила тогда без слов.
Моя беда заключалась еще в том, что начало притупляться ощущение чуда, которое осуществилось благодаря путешествиям во времени. Я провел на византийском маршруте вот уже почти полгода, и чарующий трепет, который я испытывал раньше, понемногу пропадал. Одаренный курьер – такой, как Метаксас – способен столь же сильно волноваться при виде тысячной по счету коронации императора, как и в первый раз. И передать свое возбужденное состояние людям, которых он сопровождает. Возможно, я не был от природы одаренным курьером. Мне наскучили церемония освящения Айя-Софии и крещение Феодосия Второго, как прислуге дома терпимости надоедает смотреть на разворачивающиеся у нее перед глазами оргии.
И еще мои неприятности в какой-то мере были связаны с присутствием в моей группе Конрада Зауэрабенда. Этот жирный, вечно потный, неряшливый господин становился для меня невыносимо противным всякий раз, как только он открывал рот.
Он был неглуп, хитер, но слишком уж вульгарен и груб, неотесанный деревенский чурбан. От него всегда можно было ожидать какого-нибудь, совершенно неуместного, замечания где угодно и когда угодно.
В Августеуме он присвистнул и произнес:
– Какая шикарная автостоянка могла бы здесь разместиться!
Внутри Айя-Софии он похлопал по плечу седобородого священника и доверительно поведал ему:
– Единственное, что хотел бы сказать вам, батюшка, так это: какая у вас здесь миленькая церковка!
Во время посещения эпохи иконоборчества, наступившей в период правления Льва Исаврийского, когда лучшие произведения живописи в Византии уничтожались под предлогом борьбы с идолопоклонством, он перебил страстную речь одного из самых ревностных фанатиков-иконоборцев вопросом:
– Эй, вы что, совсем с ума посходили? Не понимаете, что тем самым губите туристский промысел в этом городе?
Кроме того, Зауэрабенд был совратителем малолетних и открыто гордился этим.
– Я ничего не в силах поделать с этим, – объяснял он. – Вот такой у меня бзик. Мой старик называет это комплексом Лолиты. Мне они нравятся, когда им двенадцать, ну от силы тринадцать лет. Сами понимаете: достаточно взрослые, чтобы у них уже начались месячные и выросло немножко волосенок тут и там, но все же еще не полностью созревшие. Вкусить до того, как у женщины вырастет грудь – вот мой идеал. Я терпеть не могу покачивающееся женское мясо. Приятненький бзик, верно?
Верно, весьма приятненький. Тем не менее, для нашей группы совершенно непотребный, потому что в ней была Пальмира Гостмэн – Зауэрабенд непрерывно алчно на нее поглядывал. Жилье, предоставляемое туристам во времени, далеко не всегда обеспечивает достаточное уединение, поэтому влюбленные взгляды Зауэрабенда довели бедное дитя до отчаяния. Он все время околачивался возле нее, неся несусветную чушь. Это вынуждало ее одеваться и раздеваться под одеялом, как будто это было девятнадцатое или двадцатое столетие; а когда ее папаша не смотрел в ее сторону, Зауэрабенд гладил своими жирными лапами крохотные бугорки ее грудей и шептал ей на ухо непристойные предложения. В конце концов я был вынужден предупредить его о том, что если он не оставит Пальмиру в покое, мне придется вышвырнуть его с маршрута. Это отрезвило его на несколько дней. Отец девочки, между прочим, счел весь этот инцидент весьма забавным.
– Может быть, девчонка как раз и нуждается в хорошей встряске, – сказал он мне, – после которой она и начнет наливаться всеми положенными соками, а?
Папаша Гостмэн также одобрительно относился к шашням своего сыночка Бильбо с мисс Пистил, хотя нам всем стали изрядно досаждать, так как мы тратили ужасно много времени зря, каждый раз дожидаясь, когда эта парочка закончит свое очередное совокупление. Бывало и так: когда я предварительно знакомил своих подопечных с тем, что они должны увидеть, Бильбо пристраивался к мисс Пистил сзади, и вдруг лицо ее начинало выражать томление, и я уже знал, что он снова принялся за свое, задрав ей юбку, и не успокоится, пока лица их не исказятся в экстазе. Все это время Бильбо ходил довольный, как кот, вылизавший целую тарелку сметаны, что было, по-моему, вполне оправдано для четырнадцатилетнего мальчишки, добившегося любовных утех с женщиной, которая была старше его на добрых десять лет. У мисс Пистил вид был довольно виноватый. Тем не менее, ее растревоженная совесть не препятствовала ей отворять врата рая для Бильбо раза три-четыре ежедневно.
Не нахожу, что все это способствует творческому отношению курьера к своей работе.
Были и еще некоторые более мелкие неприятности, такие, как безрезультатные домогательства престарелого мистера Хэггинса, который немилосердно преследовал бестолковую миссис Гостмэн. Или то упорство, с которым возился со своим таймером Зауэрабенд.
– Видите ли, – неоднократно заявлял он, – могу биться об заклад, что я-таки сумею расколоть эту штуковину, чтобы управляться с нею без вашей помощи. Я ведь, да будет вам известно, был инженером до того, как стал брокером.
Я велел ему оставить свой таймер в покое. Однако в мое отсутствие он явно продолжал в нем ковыряться.
И еще одной «головной болью» стал для меня Капистрано, с которым я случайно повстречался в 1097 году, когда в Константинополь входили крестоносцы под предводительством Боэмунда. Он объявился как раз тогда, когда все мое внимание было сосредоточено на корректировке сцены с Мэрдж Хефферин. Я хотел проверить, насколько надежными были произведенные много изменения в прошлом.
На этот раз я расположил своих людей на противоположной стороне улицы. Да, я заметил себя напротив; как заметил и Мэрдж, которой стало уже совсем невтерпеж, и она готова была броситься на шею Боэмунду; были там и все остальные участники того маршрута. По мере того, как мимо нас торжественным маршем проходили крестоносцы, голова моя все больше кружилась от тревожного ожидания. Что я увижу: как я спасаю Мэрдж или как она выскакивает на улицу, где ее ждет страшная смерть? Или перед моими глазами предстанет какой-нибудь третий вариант? Текучесть, переменчивость потока времени – вот что меня ужасно беспокоило.
Боэмунд все ближе. Мэрдж распускает свою тунику. Наружу вываливаются тяжелые белые груди. Она вся напрягается и изготавливается к рывку на мостовую. И вдруг как бы ниоткуда появляется второй Джад Эллиот, точно позади нее. Я вижу ошеломленное лицо Мэрдж, когда стальные пальцы моего «альтер эго», как когти, впиваются в ее задницу; вижу, как взлетает вторая рука, чтобы обхватить ее грудь; вижу, как она корчится, извивается, борется со мной, затем в бессилии оседает. И пока Боэмунд проходит мимо, я вижу, как сам исчезаю, оставив «нас» двоих, по одному на каждой стороне широкого проспекта, по которому торжественно шествует христово воинство.
Я облегченно вздохнул. И все же какое-то смутное беспокойство не покидало меня, ибо теперь я уже точно знал, что моя корректировка этой сцены так запечатлена в потоке времени, что ее может заметить кто угодно. Включая и кого-нибудь из патруля времени, который, вдруг обнаружит «удвоения» одного из курьеров, захочет выяснить, что же явилось причиной этому. В любой момент патруль может воспроизвести и эту, и первоначальную сцены – и тогда, пусть даже это оставалось бы нераскрытым вплоть до какого-нибудь десятимиллионного года после Рождества Христова, я буду привлечен к ответственности за произведенную несанкционированную корректировку хода исторических событий. Я временами уже ощущал стальную руку на своем плече, слышал голос, провозглашавший мое имя…
И я действительно ощутил руку на своем плече, услышал голос, окликавший меня по имени.
Я резко обернулся.
– Капистрано?
– Разумеется, Капистрано. А ты разве ждал кого-нибудь другого?
– Я… я… вы застали меня врасплох, вот и все. – Я весь дрожал. У меня даже колени стали мокрыми.
Он был каким-то задерганным и осунувшимся; некогда блестящие темные волосы поседели и неровными прядями свисали вниз; он сильно похудел и выглядел на двадцать лет старше того Капистрано, с которым я был знаком. Я учуял, что это временный разрыв и испытал, уже ставший для меня привычным, страх при столкновении с кем-нибудь из моего собственного будущего.
– Что за беда с вами стряслась? – спросил я.
– Я распадаюсь на части. Меня всего ломает. Взгляни-ка, вон мои туристы. – Он показал в сторону сгрудившихся в кучу путешественников во времени, которые внимательно следили за прохождением крестоносцев. – Я не могу больше оставаться с ними. Меня тошнит от них. Тошнит от всего. Это мой конец, Эллиот, крышка да и только!
– Почему? Что не сложилось?
– Я не могу говорить об этом здесь. Где ты остановился на ночлег?
– Здесь же, в 1097-ом. На постоялом дворе у Золотого Рога.
– Я навещу тебя в полночь, – произнес Капистрано. На какое-то мгновенье он сжал мой локоть. – Это конец, Эллиот, в самом деле, конец. Да будет милость Господня грешной моей душе!








