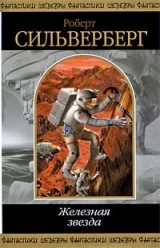
Текст книги "Плавание в Византий"
Автор книги: Роберт Силверберг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Как-то вечером Филлипс вернулся из библиотеки и увидел, что Гайойя сидит на террасе нагишом, с ног до головы измазанная каким-то ароматным зельем. Неожиданно она произнесла:
– По-моему, пора отсюда сваливать, как ты считаешь?
Гайойя порывалась посетить Мохенджо-Даро, но тот пока что для туристов был закрыт. Пришлось лететь восточнее – в Чанъань, где они давно не были. Филлипс сам предложил: он надеялся, что красочный космополитизм старой танской столицы поднимет настроение Гайойе.
На этот раз им выпала редкая честь погостить у самого императора. Обычно прошение подается заблаговременно, но Филлипс поговорил с влиятельными Гайойиными друзьями, намекнув, что у нее хандра, и те быстренько все уладили. У южных Врат добродетельной мудрости их встретили три беспрестанно кланяющихся чиновника, наряженных в струящиеся желтые одежды, подвязанные пурпурными кушаками. Они провели Чарльза и Гайойю в предоставленный им павильон, который находился рядом с императорским дворцом, неподалеку от Запретного сада. Внутри было светло и просторно: оштукатуренные стены, потолочные балки из какой-то темной пахучей древесины. На изжелта-зеленой черепичной крыше играли рециркуляционные фонтаны, обеспечивая бесконечный прохладный ливень. Балюстрады резного мрамора, золотые дверные ручки…
Каждому отвели отдельные многокомнатные покои, но драпированная парчой спальня посреди павильона оказалась единственной. Едва переступив порог, Гайойя заявила, что ей необходимо принять ванну и переодеться.
– Сегодня вечером нас ждут на официальном приеме во дворце, – сказала она. – Говорят, это нечто невообразимое. Пойду прихорашиваться.
Она сообщила ему, что император и все его советники примут их в Зале высочайшего правления; предстоит банкет на тысячу лиц; выступят персидские танцоры и знаменитые чанъ-аньские жонглеры. Затем всех проведут в Запретный сад полюбоваться фейерверком и гонкой на драконах.
Чарльз удалился в свои покои. Две миниатюрные изящные служанки раздели его и выкупали, обтерев благоухающими мочалками. Вместе с павильоном в распоряжение Чарльза и Гайойи поступили одиннадцать эфемеров – ненавязчивые, грациозные, что-то мелодично мурлыкающие слуги-китайцы, весьма достоверно сработанные: прямые черные волосы, лоснящаяся кожа, эпикантусы. Филлипс частенько задумывался о том, куда деваются городские эфемеры после того, как город отслужил свое. Что, если в этот самый миг неистовых норманнов Асгарда перерабатывают в жилистых темнокожих дравидов для повторного употребления в Мохенджо-Даро? Неужели когда пробьет час Тимбукту, то и его красочно разряженное черное войско преобразуют в византийскую массовку, чтоб запрудить торговые ряды Константинополя? А может, от старых эфемеров просто избавляются, как от избыточного реквизита, где-то складируя, и переходят к выпуску нужного количества новых моделей? Неизвестно. Однажды Чарльз спросил об этом у Гайойи, однако в ответ получил лишь безралично-отсутствующий взгляд. Ей претили его попытки хоть что-то выведать; как он подозревал, из-за того, что ей самой по сути нечем поделиться. Этих людей, казалось, не волнуют вопросы мироздания. Ему частенько говорили – как этим людям свойственно, немножко свысока, – мол, любознательность твоя, приятель, типичный бзик двадцатого столетия.
Во время омовения Чарльз вдруг подумал: а что, если спросить прислужниц, растиравших его мочалками, где те служили раньше, до Чанъаня? В Рио? В Риме? В Багдаде Гарун аль-Рашида? Но расспрашивать о чем-то эфемеров не столько неприлично, сколько нелепо, сродни допросу багажа.
Искупавшись, облачившись в красные шелка, он немного побродил по павильону, восхищаясь бренчащей занавеской из зеленого жадеита, полированными золотисто-каштановыми опорами, радужной окраской замысловато переплетающихся балок, поддерживающих крышу. Затем, насытившись одиночеством, подошел к бамбуковой занавеске, за которой находились покои Гайойи. Отодвинув ее, он наткнулся на привратника и горничную. Они жестами показали, что сюда нельзя, но он скорчил такую свирепую физиономию, что слуг как ветром сдуло. Чарльз шел на тонкий странный запах и вскоре достиг самой дальней из комнат – гардеробной. И замер на пороге.
Гайойя сидела нагая перед густо заставленным всякой всячиной туалетным столиком из красного дерева, инкрустированного изжелта-зеленым камнем. Она внимательно смотрела в зеркало из полированной бронзы, которое удерживала одна из ее служанок, и перебирала пальцами волосы, как это обычно делают женщины, выискивая седину.
Что-то тут не так. У Гайойи и вдруг седина? Они ведь вечно молодые. С виду Гайойя – девочка девочкой. Лицо гладкое, без морщин; кожа упругая, волосы темные – впрочем, они все такие. Но все же не возникало ни малейшего сомнения в том, что сейчас делала Гайойя. Она находила волосок, морщилась, крепко его сжимала и вырывала. Затем еще один. Еще. Вдавливала кончиком пальца щеку, словно проверяя ее на упругость. Оттягивала вниз кожу под глазами. До боли знакомые телодвижения, совершенно неуместные здесь, думал он, в этом краю вечной молодости. Гайойя озабочена старением? Неужели он просто не замечал в ней возрастных перемен? Или же она тайно и упорно работала над собой, чтобы скрыть от него таковые? Возможно, так оно и есть. А что, если он вообще ошибается? Что, если эти люди стареют, как их предки из менее благополучных эпох, но просто умело это скрывают? Так сколько же ей лет на самом деле? Тридцать? Шестьдесят? Триста?
Но вот Гайойя поднялась из-за столика, кивнула в сторону нарядов. Филлипс, так и стоявший на пороге незамеченным, рассматривал ее с восхищением: попка маленькая, кругленькая, изящная осанка. Все то же девчоночье тело. Она такая же, как и в день их знакомства, а это было очень давно, даже не вспомнить когда – здесь очень непросто следить за временем, однако он был уверен, что они вместе уже несколько лет. Вся эта седина, все эти морщины и складки, которые она только что выискивала с таким отчаянным тщанием, всего лишь плод ее воображения, не более чем рудимент мнительности. Выходит, даже в этом невообразимо далеком будущем мнительность еще не изжита. Ему казалось странным, что Гайойя так увлеклась боязнью постареть. Мнительность? А может, эти вечные люди испытывают некое извращенное удовольствие, раздразнивая себя вероятностью того, что могут постареть? Или же это личный страх Гайойи, еще один симптом хандры, напавшей на нее в Александрии?
Чарльз побоялся, что Гайойя подумает, будто он подглядывал, тогда как он просто хотел с ней повидаться, поэтому он тихонько ускользнул к себе принаряжаться к пиру.
Она явилась в его покои часом позже, закутанная от подбородка до лодыжек в парчу ярких расцветок с позолотой; лицо накрашено, волосы туго стянуты кверху и скреплены гребнями из слоновой кости – ни дать ни взять придворная дама. Над Чарльзом слуги также потрудились: расшитая золотыми драконами накидка с черным отливом поверх широкой, сверкающей белым шелком мантии длиною до пола, ожерелье и кулон из красного коралла, пятиугольная шляпа из серого фетра, торчавшая на голове, как зиккурат. Гайойя, усмехаясь, прикоснулась кончиками пальцев к его щеке.
– Роскошно выглядишь! Как важный мандарин!
– А ты вылитая императрица из какой-нибудь далекой страны. Из Персии там, Индии… Прибыла с официальным визитом ко двору Сына Небес.
Он, схватив ее за запястья, привлек к себе, насколько это позволяли их величественные наряды. Удивительное дело: слой белой пудры, покрывавший ее лицо, вместо того чтобы скрадывать рельефность кожи, наоборот, излишне преувеличивал, выделял, подробно подчеркивал то, на что раньше Чарльз не обращал внимания. Он заметил лучики-морщинки, веером расходившиеся из уголков ее глаз, и след от складки на левой щеке, чуть пониже рта, и вроде как намек на горизонтальные бороздки, словно она только что хмурила свой безупречный лоб. Так, значит, вовсе не мнительность виной тому, что она столь внимательно изучала себя в зеркале. Годы и впрямь не проходят для нее бесследно, а он-то уж совсем поверил, что эти люди не стареют. Но уже в следующий миг он засомневался. Гайойя плавно увернулась от него, отступив на шаг в сторону, – должно бьггь ее обеспокоило то, как он на нее пялился, – и морщины, которые, как ему казалось, он явственно видел, исчезли. Он снова присмотрелся: гладкая девичья кожа. Обман зрения? Плод воспаленного воображения? Чарльз не знал, что и предположить.
– Пойдем, – сказала она – Нельзя заставлять императора ждать.
Пять усатых воинов в доспехах и семь музыкантов, игравших на флейтах и цимбалах, сопроводили их в зал. Там уже толпились придворные всех мастей: принцы и советники, знатные вельможи, монахи в желтых одеждах и целый рой императорских наложниц. На почетном месте, по правую руку от царских кресел, золоченым эшафотом возвышавшихся над всеми прочими, разместилась небольшая группа облаченных в иноземные костюмы людей с постными лицами – послы Рима и Византии, Аравии и Сирии, Кореи, Японии, Тибета, Туркестана… В расписных медных кадильницах курился фимиам. Перебирая струны небольшой арфы, загундосил что-то свое бард. И тут вошли император с императрицей – крохотные старички, словно слепленные из воска; они шествовали бесконечно долго, семеня подобно детишкам. Когда стали подниматься на престол, заиграли трубы. Усевшись, маленький император (казавшийся снизу всего лишь куклой – старой, выцветшей, ссохшейся, – но так или иначе воспринимавшийся как человек, наделенный безграничной властью) вытянул вперед руки – и тут же ухнули громадные гонги.
Да ведь они все эфемеры, внезапно осенило Филлипса. Он заметил лишь горстку людей – восемь – десять, ну, может, дюжину, – стоявших порознь там и сям в этом огромном зале. Он узнавал их по глазам – темным, ясным, осмысленным. Они наблюдали не только за имперским спектаклем, но и за ним с Гайойей. Таинственно улыбаясь, его спутница едва заметно им кивала, отмечая их присутствие и значимость.
Да-да, все эти разодетые в пух и прах придворные, великие мандарины и паладины, правители, хихикающие наложницы, напыщенно-высокомерные послы и даже престарелая императорская чета всего лишь составные части декорации. Видел ли мир прежде столь грандиозную постановку? Чтобы с подобной помпой, шиком-блеском творилось волшебство всего лишь на потеху десятка с лишним зрителей?
Все люди сели за отдельный стол – круглую плиту из оникса, покрытую полупрозрачным зеленым шелком. Оказалось, что их семнадцать, включая Гайойю. Она, казалось, знала их всех, хотя Филлипс не заметил среди них никого из тех, с кем он встречался раньше. Во время еды было просто невозможно беседовать: зал гудел и рокотал. Играло три оркестра сразу, не говоря уже о сновавших между столиками труппах бродячих музыкантов и вереницах монахов, размахивавших курильницами и во все горло распевавших сутры под оглушительный аккомпанемент барабанов и гонгов. Император не соизволил спуститься с престола, дабы присоединиться к пиру. Казалось, он заснул, хотя время от времени и помахивал рукой в такт музыке. Смуглые полуобнаженные великаны рабы бесконечно подносили всяческую снедь, очевидно доставая ее из рога изобилия: хрупкие алебастровые блюда ломились от горок павлиньих языков и грудинок фениксов с гарниром из горячего риса цвета шафрана. Вместо столовых приборов выдали тонкие палочки из темного жадеита. Терпкое сладкое вино с привкусом изюма разливали в искрящиеся хрустальные бокалы, причем ни один бокал не оставался пустым дольше секунды.
У Чарльза закружилась голова. Когда персидские танцовщицы в муслиновых вуалях устроили замысловатую круговерть, он уже не мог точно сказать, пять их или пятьдесят. Их сменили чанъаньские жонглеры, заполнив пространство кривыми ножами, пылавшими факелами, живыми зверушками, редкими фарфоровыми вазами, розовыми жадеитовыми топориками, серебряными колокольчиками, позолоченными чашами, тележными колесами, бронзовыми сосудами – причем ни разу ничего не уронили. На людей это не произвело большого впечатления, но они вежливо поаплодировали. Снова появились танцовщицы, но на этот раз танец исполнялся на ходулях. Слуги разносили на больших блюдах дымящееся лиловатое мясо, вполне возможно верблюжье филе, окорок гиппопотама или драконью вырезку. Принесли еще вина – золотисто-зеленого, терпкого. К нему подали промороженное арктическим холодом серебряное блюдо, полное ледяной стружки, пропитанной какой-то крепкой, с привкусом дыма настойкой. Чарльз заметил, что жонглеры выступают уже по второму кругу.
«Сейчас меня стошнит».
Он беспомощно взглянул на Гайойю. Та казалась трезвой, но невероятно оживленной, глаза ее сверкали, как рубины. Она ласково коснулась его щеки. По залу загулял холодный сквознячок: отодвинули целую стену, явив присутствующим сад, ночь и звезды. А еще – колоссальное колесо из промасленной бумаги, растянутой на деревянных спицах. Должно быть устанавливали его не меньше часа – в высоту оно было футов сто пятьдесят, если не больше, и с него свисали тысячи фонарей, мерцая гигантскими светлячками.
Гости потянулись из зала; Филлипс позволил людскому потоку увлечь его в сад, где под желтой луной зловеще маячили странные деревья, скрюченные ветви которых покрывали частые темные иглы.
Гайойя взяла его под руку. Они спустились к озерцу из булькавшей малиновой жидкости и засмотрелись на алых фламингоподобных птиц футов десяти в высоту, брезгливо протыкавших клювами бирюзовых угрей. Затем постояли, благоговея, перед семидесятифутовой статуей пузатого Будды. Мимо прогарцевал златогривый конь, и каждый раз, как его копыта касались земли, зрителей обдавал сноп ярко-красных искр.
В рощице лимонных деревьев, которые, казалось, могут по собственной воле размахивать ветвями, Филлипс наткнулся на самого императора, который одиноко стоял, перекатываясь с носков на пятки. Старик схватил Чарльза за руку и что-то сунул ему в ладонь, крепко стиснув его пальцы своими. Когда чуть позже Филлипс разжал кулак, он увидел на ладони множество серых жемчужин неправильной формы. Гайойя отобрала их у него и швырнула в воздух, где они сверкнули разноцветным фейерверком. А потом вдруг осознал, что где-то лишился одежды. Гайойя, тоже нагая, мягко повалила его на ковер из влажного синего мха.
Они занимались любовью до самого рассвета, поначалу яростно, затем спокойно, вяло, сонливо. На восходе он, взглянув на нее с нежностью, внезапно обнаружил, что рядом с ним другая.
– Гайойя? – неуверенно спросил он.
Она улыбнулась.
– Да нет же. Гайойя этой ночью с Фенимоном. Я Белилала.
– С каким еще… Фенимоном?
– Это ее старый знакомый. Они сто лет не виделись.
– Ясно. А ты… э-э…
– Белилала, – повторила она, касаясь пальцами его щеки.
Такое у них в порядке вещей, объяснила Беяилала. Сплошь и рядом. Необычно как раз то, что подобное не произошло с ним раньше. Двое сходятся, какое-то время путешествуют вместе, затем расходятся, потом нередко сходятся вновь. Это вовсе не значит, что Гайойя покинута его на веки вечные. Просто сейчас ее выбор пал на Фенимона. Возможно, Гайойя вернется. В любом случае одиноким он не останется.
– Мы с тобой как-то встречались в Нью-Чикаго, – напомнила Белилала. – А потом еще раз в Тимбукту. Неужели забыл? О да, вижу ты и впрямь забыл! – Казалось, ее это ничуть не задело.
Внешне она казалась родной сестрой Гайойи. Но несмотря на внешнюю схожесть – и он очень скоро в этом убедился, – женщины разительно отличались друг от друга. Белилала была само спокойствие и безмятежность, тихая заводь в отличие от резвой, непостоянной, бурлившей нетерпением Гайойи. Гуляя с Белилалой по запруженным улицам Чанъаня, он не чувствовал в ней столь привычного ему лихорадочного стремления узнать, что же там дальше, а что там, а вон там… После того как они осмотрели дворец Цинь Ши, Белилала не стала тут же – как это, несомненно, сделала бы Гайойя – искать дорогу к фонтану Сюань Цзуна или к пагоде Диких Гусей. Белилалу, в отличие от Гайойи, не снедало любопытство. Она не сомневалась, что у нее вдоволь времени и она еще сто раз успеет повидать все, что душе угодно. Случались дни, когда Белилала и вовсе никуда не выходила, оставаясь в павильоне, где с удовольствием раскладывала пасьянс из плоских фарфоровых фишек или просто созерцала цветы в саду.
Красивая, добрая, уравновешенная, терпеливая – слишком уж хороша для него. Она попросту казалась ненастоящей, своим блестящим совершенством напоминая одну из тех сунских селадоновых ваз, которые выглядят столь безупречными, что кажется, будто их создавали не человеческие руки. В Белилале ощущалась некая неодушевленность: безукоризненность снаружи и пустота внутри. Чарльз мог вместе с ней осматривать павильоны и дворцы Чанъаня, вести вежливую беседу за обедом, ему определенно нравилось с нею совокупляться, но он не то что не любил ее, ему даже в голову не приходило думать на эту тему. Просто непредставимо, чтобы Белилала изучала себя в зеркале, отыскивая морщинки, седину. Она никогда не станет старше, чем теперь, а равно и моложе. Совершенство не двигается вдоль оси времени. Но глянцевое совершенство внешней оболочки мешало Чарльзу постичь ее внутреннюю сущность. Гайойя ранимее, с очевидными изъянами – беспокойство, капризность, мнительность, страхи – и поэтому доступнее его крайне несовершенному восприятию образца двадцатого века.
Как-то они слонялись по городу, и Чарльз случайно увидел Гайойю. Или обознался. Он видел ее мельком среди чудо-торговцев персидского базара, и на пороге зороастрийского храма, и потом еще раз – у пруда в Змеином парке. Но всякий раз он не был твердо уверен в том, что это действительно Гайойя, и ни разу он не смог приблизиться к ней настолько, чтобы убедиться наверняка. Она словно растворялась в воздухе, стоило ему только двинуться в ее сторону, как будто он пытался догнать сказочную Лорелею, манившую его за собой все дальше и дальше. Прошло какое-то время, и Чарльз понял, что не найдет Гайойю до тех пор, пока она сама не захочет отыскаться.
Чарльз потерял счет времени. Недели, месяцы, годы? В этом городе экзотической роскоши, тайн и волшебства, постоянной текучести и переменчивости поток времени был прерывист и непостоянен. Постройки, а то и целые кварталы сносились среди бела дня, а через несколько дней восстанавливались где-нибудь в другом месте. Величественные пагоды росли, как грибы, за ночь. Люди, прибывавшие из Асгарда, Александрии, Тимбукту, Нью-Чикаго, оставались здесь на какое-то время, и снова уезжали, и опять возвращались. Постоянная круговерть дворцовых приемов, пиров, театральных представлений, ничем друг от друга не отличавшихся… Празднества в честь былых императоров и императриц, казалось бы должные приурочиваться к определенным датам, проводились в случайном порядке: церемония поминовения Тайцзуна, если Чарльз не ошибался, происходила дважды за год, зимой и летом. А вступление на престол императрицы By вообще праздновалось четыре раза в течение трех месяцев. Может быть, конечно, он чего-то недопонимал. Зато прекрасно знал, что задавать кому-нибудь какие-то вопросы бесполезно.
Однажды Белилала вдруг спросила:
– А не слетать ли нам в Мохенджо-Даро?
– Даже не знаю, готов ли он для посетителей, – ответил Чарльз.
– Конечно же готов! Уже давно.
Он колебался. Предложение застало его врасплох. Он нерешительно сказал:
– Знаешь, мы с Гайойей собирались съездить туда вместе.
Белилала мило улыбнулась, словно затронутая тема нисколько не важнее обсуждения вопроса, куда сходить пообедать. Он продолжал:
– Мы договорились с ней еще в Александрии. И если я туда с тобой… Даже не знаю, Белилала, что и сказать. – Филлипс не на шутку разнервничался. – Понимаешь, я хочу туда съездить. С тобой. Но, с другой стороны, меня не покидает чувство, что я на это не имею права.
«До чего же глупо все это звучит. Как-то неуклюже, оправдываюсь, будто подросток».
Он вдруг понял, что не может посмотреть Белилале в глаза. Наконец он с трудом, даже с каким-то отчаянием в голосе произнес:
– Я ей обещал… Это обязательство, понимаешь?.. Нерасторжимый договор о том, что мы с ней поедем в Мохенджо-Даро только вместе…
– Да, но Гайойя уже там! – без обиняков сообщила Белилала.
Словно пощечина. Чарльз так и сел с отвисшей челюстью.
– Что?
– Она отправилась туда одной из первых, как только город был открыт. Несколько месяцев назад. А ты не знал? – спросила она, будто удивляясь, впрочем, не особенно, – Ты что, действительно не знал?
Это выбило его из колеи. Запутавшийся, преданный, взбешенный, он покраснел и, ловя воздух ртом, принялся качать головой, словно пытаясь навести порядок в мыслях. Прошло немало времени, прежде чем он смог хоть что-нибудь произнести.
– Уже там? Не дождавшись меня? Наплевав на то, что мы собирались туда вместе… На договоренность…
Белилала рассмеялась.
– Да, но как бы она смогла воспротивиться желанию увидеть новый город? Ты ведь знаешь, до чего Гайойя нетерпелива!
– А как же.
Чарльз впал в ступор. Голова отказывалась думать.
– Как и все краткосрочники, – продолжала Белилала. – Носится как угорелая – туда, сюда. Непременно должна заполучить все и сразу, тут же, сейчас же, мигом, без промедления. Напрасно ты надеялся, что она будет тебя дожидаться. Уж если ей приспичит – только ее и видели. Но ты ведь и сам все это прекрасно знаешь.
– Краткосрочники?.. – Подобного определения он еще не слышал.
– Ага. Ты ведь понимал. Не мог не понять. – Лицо Белилалы озарилось улыбкой. Ни намека на то, что ей известно, как его ранят все эти слова. Взмахнув рукой, она произнесла: – Ну, что теперь? Летим или не летим в Мохенджо-Даро?
– Само собой, летим, – уныло отозвался Филлипс.
– А когда?
– Сегодня вечером, – ответил он и, чуть помедлив, спросил: – Белилала, а как это понимать – краткосрочник?
Она залилась краской.
– Что ж тут непонятного?
Пятнало ли когда-нибудь лицо планеты что-нибудь гаже, чем этот городок Мохенджо-Даро? Такое и представить невозможно. Почему из всех возможных городов был избран для восстановления вот этот?
Он стоял на крепостной стене с множеством башен и с дрожью разглядывал пугающие нагромождения Мохенджо-Даро. Оцепенелый, унылый городишко более всего напоминал какое-то доисторическое исправительное учреждение. Скученный, съежившийся, припавший к земле, словно опасливая черепаха, примостившаяся у неизменно серых вод Инда; мили темных стен из обожженного кирпича заключали в себе мили ужасавших своей прямизной улиц, формировавших жуткий, маниакально выверенный узор – огромную решетку-жаровню. Не менее зловещими и отталкивающими казались и дома – кирпичные хибары, кустившиеся вокруг затхлых внутренних двориков. Окна у жилищ отсутствовали, а небольшие двери выходили отнюдь не на широкие бульвары, а на какие-то невразумительные тропки, петлявшие между постройками. Кто ж выстроил себе такую монструозную столицу? Какие мрачные, озлобленные души нужно иметь, каким быть страшным и вместе с тем запуганным народом, чтобы на пышных, изобильных землях Индостана соорудить такое.
– До чего же красиво, – шептала Белилала. – Очаровательно!
Он поглядел на нее с изумлением.
– Очаровательно? Ну да, согласен. Ухмылка кобры может так очаровать.
– А что такое кобра?
– Ядовитая змея, – объяснил Филлипс. – Возможно, вымершая. Или экс-вымершая – пожалуй, так будет точнее. Не удивлюсь, если десяток воскресили и выпустили здесь, в Мохенджо, для оживления пейзажа.
– В твоих словах такая злоба…
– Разве? Нет, это не злоба.
– А что же это?
Филлипс задумался.
– Не знаю. – Он пожал плечами. – Потерянность, пожалуй. Оторванность от дома.
– Бедный Чарльз.
– Стоя здесь, в этом мерзком казарменном городке, да еще и слушая, как ты восхищаешься его красотой, я особенно сильно ощущаю, до чего же я одинок на этом свете.
– Ты соскучился по Гайойе, да?
Он вновь взглянул на девушку с недоумением.
– При чем здесь Гайойа? Она наверняка сейчас в таком же, как и ты, экстазе от Мохенджо-Даро. Как и все вы. Пожалуй, я единственный не вижу здесь красоты. Единственный, кто, глядя на все это, ужаснулся, кто удивляется тому, что остальные этого не понимают. Как могут люди выстроить такое для развлечений, ради удовольствия?
Глаза у Белил алы заблестели.
– Ты злой!
– Тебя и это очаровывает, да? – рявкнул Филлипс. – Откровенная демонстрация простейших эмоций, старомодный, типичный для двадцатого века взрыв чувств. – Он судорожно мерил бастион короткими шагами. – Ага! Ну да! Понятно! Все с вами ясно, Белилала. Конечно! Я тоже часть вашего цирка, звезда интермедий. Первый подопытный грядущей постановки. Точно-точно!
Глаза Белилалы расширились. Казалось, что внезапные грубость и ярость в его голосе одновременно пугали и возбуждали ее. Это еще больше разозлило Чарльза. Он продолжал возмущаться:
– Понавытаскивали из прошлого городов, да только не хватает достоверности, да? По какой-то причине вам не удается прихватить заодно и население, не выходит у вас загрести несколько миллионов древних египтян или там греков, индусов и вывалить их здесь; думаю, потому, что черта с два вы сможете их контролировать. Или потому, что, раз попользовавшись, потом мороки с ними не оберетесь. Поэтому для заселения древних городов вы решили штамповать эфемеров. Ну а теперь у вас есть я! Некто реальней эфемера, и это вам в новинку, а новизна – именно то, чего вы жаждете больше всего на свете. Возможно, это вообще единственное, чего вы жаждете. И вот он я – замысловатый, непредсказуемый, раздражительный, способный гневаться, бояться, горевать, любить, и прочая, и прочая, все экс-вымершие чувства. Зачем довольствоваться одной лишь живописной архитектурой, когда вдобавок можно посмотреть и живописные эмоции! Ну, если вы и впрямь считаете, что я занятная вещица, так, может, лучше вы отправите меня туда, откуда взяли, вместо меня опробовав еще каких-ни-будь древнейших типов – римского гладиатора, к примеру, священника эпохи Ренессанса, а может, даже парочку неандертальцев…
– Чарльз, – кротко сказала она. – Ах, Чарльз, Чарльз, Чарльз! Как же тебе одиноко, как неуютно, как тяжело! Простишь ли ты меня? Простишь ли всех нас?
В который раз она его сразила. Звучало совершенно искренне, слышалось живейшее участие. Но искренна ли она? Действительно сочувствует? Он очень сомневался. До сих пор он не замечал и намека на искренность ни у кого из них. Даже у Гайойи. Не мог он доверять и Белилале. Она его пугала, как все они, их уязвимость, хитрость, утонченность его страшили. Хотелось бы сейчас к ней подойти, обнять, зарыться в нее лицом, да только он не мог – в данный момент он ощущал себя доисторическим мужланом, стеснявшимся искать такого утешения.
Он отвернулся и побрел к краю огромной крепостной стены.
– Чарльз?
– Оставь меня хоть на минуту одного.
Он продолжал идти. Сердце колотилось. Жара, душевное смятение, отталкивающий городской пейзаж…
«Попытайся это принять. Расслабься. Разберись в себе. Постарайся приятно провести время в Мохенджо-Даро».
Он осторожно заглянул за край стены. Подобных стен он раньше не видал – футов сорок толщиной в основании, прикинул он, а то и больше, и все кирпичи идеальной формы, идеально пригнаны. За грандиозным бастионом – сплошь топи, чуть не до самых до окраин, хотя ближе к стене болота запрудили, дренировав для земледелья. Он видел гибких смуглых фермеров, копошившихся в посевах ячменя, пшеницы и бобовых. А за полями выпасали буйволов и прочий скот. Воздух сырой, тягучий, влажный. Все неподвижно. Неподалеку жалобно бренчали струны и кто-то монотонно напевал.
Исподволь в Чарльза проникла какая-то благость. Злость улетучилась. Снова взглянул на город: строгие взаимозамыкающиеся улицы, лабиринт внутренних тропок, миллионы образцов аккуратной кирпичной кладки.
«Это просто чудо, – сказал он себе, – что этот город существует здесь, на этом месте, в это время. И просто чудо, что я нахожусь здесь и могу все это видеть».
Словно прозрев средь этого унылого пейзажа, он осознал, что начинает понимать восторг и трепет Белил алы. Он пожалел, что был с ней резок. Город жил. Неважно, настоящий это был Мохенджо-Даро, существовавший миллионы лет назад, выдернутый из прошлого какими-то невообразимыми клещами, или же просто умелая репродукция. Настоящий или нет, все равно это Мохенджо-Даро. И его воссоздание не бог весть каким достижением не назовешь. Пусть этот ненадолго воскрешенный город зловещ и производит угнетающее впечатление. Никто никого не заставляет в нем жить. Те времена давно прошли, и все эти малорослые темнокожие крестьяне, ремесленники и лавочники на городских улицах всего лишь эфемеры, неодушевленные творения, зомби, созданные колдовством почище вуду для усиления иллюзии.
Чарльз Филлипс понимал, что должен благодарить судьбу за то, что ему выпала возможность все это увидеть. В один прекрасный день этот сон закончится, хозяева вернут его в мир подземок и компьютеров, подоходного налога и кабельного телевидения, и тогда он вспомнит, как осматривал под темным небом величественные стены из плотно пригнанных друг к другу бурых кирпичей, и в памяти останется лишь красота этого места.
Оглянувшись, он поискал глазами Белилалу, но никак не мог ее найти. Наконец заметил, что она спускается по узкой крутой лестнице, выбитой на внутренней стороне крепостной стены.
– Белилала! – громко позвал он.
Она остановилась и глянула в его сторону из-под козырька ладони:
– Ну, ты как, все нормально?
– Все в порядке. Ты куда?
– В баню, – ответила она. – Хочешь со мной?
– Да, – кивнул он. – Подожди меня, ладно? Я мигом.
И Чарльз побежал по крепостной стене.
Бани примыкали к цитадели: огромный открытый чан размером с плавательный бассейн, обложенный кирпичной кладкой, покрытой для водонепроницаемости асфальтом; севернее, под прикрытием сводчатой галереи, находилось еще восемь чанов поменьше. Чарльз предположил, что в те далекие времена весь комплекс имел какое-то ритуальное значение – большим чаном пользовалась чернь, а отдельные комнатки были предназначены д ля уединенных омовений священников и знати. Судя по всему, ныне бани функционировали исключительно ради удовольствия приезжих. Поднимаясь к главному банному залу, Филлипс насчитал пятнадцать – двадцать посетителей, барахтавшихся в воде или же томно в ней кисших, в то время как эфемеры темнокожего мохенджодарского типа предлагали им напитки и благоухающие ломтики приправленного специями мяса, словно здесь была не баня, а какой-то фешенебельный курорт. Эфемеры носили белые набедренные повязки из хлопка, а люди ходили нагишом. В прошлой жизни во время поездок в Калифорнию и на юг Франции Чарльзу доводилось встречать компании непринужденно чувствующих себя на публике обнаженных людей, и всякий раз ему было немного не по себе. Но тут он стал к такому привыкать.








