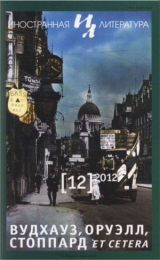
Текст книги "Жизнь Вудхауза"
Автор книги: Роберт Маккрам
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Вскоре, 27 июля, интернированных из Ле-Туке перевезли поездом в бывшие бельгийские казармы в Льеже. Хотя Вудхауза и записали «Видхорзом», но в последний день в этой тюрьме к нему подошел немецкий солдат, пожал руку и сказал: «Спасибо вам за Дживса!» Вспоминая первую неделю в плену, Вудхауз вновь обретает свой привычный тон:
Если подытожить мой тюремный опыт, то я бы сказал так: тюрьма еще ничего, если заглянуть туда на денек, но поселиться там надолго – увольте! Я не проливал горючих слез у решетки, когда покидал Лоос. Я был рад уехать. Последнее, что я увидел в старушке альма-матер, был охранник, который захлопнул дверь фургона и, сделав шаг назад, крикнул по-французски: «Трогай!» Мне он сказал «До свидания» – по-моему, несколько бестактно с его стороны.
На вокзале Лилля немцы затолкали восемьсот с лишним интернированных англичан в глухие телячьи вагоны вместимостью Quarante Hommes, Huit Chevaux[37]37
Сорок человек, восемь лошадей (франц.).
[Закрыть]; есть и пить не давали, вся надежда была на купленное в городе. После обычного простоя их отправили в Льеж, за сто семьдесят километров; прибыли туда в пол первого дня, потратив на все одни «довольно-таки ужасные» сутки. Описывая прибытие, Вудхауз не изменяет своему всегдашнему оптимизму:
Я сошел с поезда первым. Обходительный старый немецкий генерал спросил, сколько мне лет, приподнял мой чемодан, заявил, что он слишком тяжелый, и подозвал грузовик, а потом спросил, успел ли я поесть. Очень трогательно и предупредительно. Мы прошли через Льеж, насвистывая «Типперэри» и «Бочку»[38]38
«Долгий путь до Типперэри» (1912) – популярная со времен Первой мировой песня-марш английского композитора и певца Джека Джаджа. «Выкатывай бочку» (1927; оригинальное название – «Напрасная любовь») – песня чешского композитора Ярослава Вейводы в ритме польки. Получила широкую известность в 1939 г.; как и многие другие шлягеры 30-х, песню пели по обе стороны фронта, на разных языках и на разные темы.
[Закрыть], а потом поднялись на высокий крутой холм – кое-кому из наших пришлось весьма тяжело. Затем смотр. Затем горячий суп. Был солнечный денек, поэтому прибытие прошло бодро.
Впоследствии Вудхауз описывал казармы, куда его поместили, гораздо менее радужно. «В Льеже мы провели неделю, – писал он. – Вспоминая тюрьму, я едва верю, что нас там продержали всего семь дней. Возможно, оттого что делать там было практически нечего, кроме как стоять навытяжку [на смотре]». Смотры с перекличкой придавали повседневной жизни пленников оттенок фарса, отчего яснее становилась ненормальность их положения: гражданские заключенные на положении военнопленных. Вудхауз добавлял, что эти отвратительные казармы, заляпанные кровью и грязью, походили на настоящий лагерь для пленных не больше, чем первоначальный набросок – на готовый роман. Условия были примитивные, и далеко не гигиеничные. Настоящих мисок для супа не было, и Вудхаузу пришлось соорудить миску из брошенной кем-то канистры из-под машинного масла; он шутил, что от этого неизменная похлебка приобрела толику пикантности. И добавлял: вот будет хорошо, если он на своем веку больше никогда не увидит ничего бельгийского.
Тем временем внешний мир почти не подозревал об участи Вудхауза – возможно, из-за того что Этель не могла связаться с дочерью. Леонора даже писала Уатту, что «последние новости таковы: он все еще в своем доме в Ле-Туке, условия сносные». На самом деле, на следующий день после этого письма, 3 августа, Вудхауза и остальных льежских интернированных снова перевели в новую тюрьму – «Цитадель» в Юи[39]39
У Вудхауза – И.
[Закрыть], сонном торговом городке в двадцати пяти километрах от Льежа, в излучине Мааса.
Позже Вудхауз писал шутливо: «‘Цитадель’ – это одно из тех исторических строений, где в мирное время берут за вход по два франка с человека….Словом, цитадель, раз туда попал, то уж попал. Толщина ее стен – четырнадцать футов. Коридоры освещаются узкими бойницами в нишах»[40]40
Перевод И. Бернштейн.
[Закрыть]. В «Цитадель» вела изнурительно длинная и крутая каменная лестница, а внутри имелся дворик, куда заключенных выводили на прогулку; Вудхауз назвал его довольно вместительной плевательницей’. Комнаты были голые, по ним гуляли сквозняки; заключенным приходилось сгребать грязную солому и спать на полу. Несмотря на средневековый вид, мрачная крепость-тюрьма была построена в эпоху наполеоновских войн, чтобы защищать стратегически важную точку на Маасе. До сих пор она мрачно нависает над городком Юи, хотя в мирное время там устроили музей. Гражданским, оказавшимся в нацистском плену, не забыть проведенное там время, а некоторые так и не восстановят здоровье. В «Цирковой блохе», многогранном «автопортрете в письмах», Вудхауз решил описать не Лоос или Льеж, а пять недель в Юи – пять недель невиданных лишений и тягот, которые оставили глубокий, неизгладимый отпечаток.
В Юи его, все еще одного из многих пленных, записали как «Уайтхауза»; когда это имя выкрикивали вечером, заключенные иногда путали его с приказом гасить свет, но Вудхауз не поправлял ошибку. Он считал, что быть заносчивым плохо, и не поддавался соблазну воспользоваться своей известностью. Однако 21 августа он выдал себя, написав от имени всех 700 интернированных прошение в штаб Красного Креста в Брюссель, чтобы им разрешили «связаться с семьями», но командовавший Цитаделью офицер гестапо разорвал письмо, глядя в глаза Вудхаузу. В остальном, помимо этого единственного проявления лидерства, Вудхауз старался оставаться обычным заключенным. Тем не менее для остальных узников, по преимуществу англичан, подлинная личность «Уайтхауза» явно не была тайной. В типично английском духе они не хотели донимать вопросами знаменитого товарища по несчастью и хвастаться знанием его книг. В конце августа какой-то «оборванный и потрепанный» заключенный тихонько подошел к нему в одном из едва освещенных мрачных коридоров Цитадели, спросил: «Как бы Акриджу понравилась такая жизнь?» – и поведал, что он тоже выпускник частного колледжа – школы Гильдии портных[41]41
Основанная в 1327 г. Гильдия портных уже с XVII века не функционирует как гильдия, а занимается в первую очередь благотворительностью. Лондонская школа, которую содержит Гильдия портных, – одна из самых престижных в стране.
[Закрыть]. «Еще один оборванный заключенный, – записал Вудхауз, – окончил Винчестер-колледж, а потом Оксфорд».
То, что его характер сложился в Далвиче, помогло Вудхаузу стоически сохранять душевное равновесие в эти тяжкие недели. 13 августа он записал, что «уже десять ночей проспал без одеяла, а прошлой ночью стоял невыносимый холод», и с благодарностью отметил, что его друг Элджи где-то раздобыл термос.
«Отолью немного кофе с вечера и выпью ранним утром», – доверился Вудхауз своей записной книжке. Если не говорить о холоде, то, несмотря на внезапную потерю собственной частной жизни в плену Вудхауз справлялся с бытом без труда, и свою «ежедневную дюжину упражнений» делал, не стесняясь. Когда он стал выполнять упражнения в первый раз, то, по его словам, «собралось множество зевак. У нас все обросли бородой, носят шапки и протертые до блеска пальто и брюки – очень похоже на футбольных болельщиков с севера».
Колледж научил его ценить редкие мгновения нежданной радости. Четырнадцатого августа, читаем мы в его записках, был
…чудесный день!..Внезапно, ни с того ни с сего, я ощутил какую-то приподнятость – беспримесную радость, как если бы из-за туч вышло солнце… Ко мне пришел один человек и вернул пять франков, которые он занял несколько дней назад, потому что у него не было бельгийских денег. Это очень тронуло меня… и я почувствовал, какие все на самом деле хорошие.
В подлинно товарищеском духе он сам вызывался трудиться на уборке, чистить картошку и носить суп из кухни. Случались и другие события, живо напоминавшие ему школу. «Удивительно, – писал он, – как человек может быть всей душой одержим мыслью о пище… Сегодня Шеррер сходил в город (в столовую) и принес мне полкило конфет. Восторг!»
Пайки в Юи были скудными, и все ходили голодные. Провиант поступал с перебоями: ожидалось, что в Юи будет не настоящий лагерь для интернированных, а только перевалочный пункт. Когда невеликие запасы хлеба заканчивались – что случалось нередко, – заключенным давали галеты, размером с собачьи, комочек масла, с виду похожий на «что-то вроде бледной колесной мази», и, если повезет – варенье и крошечные кусочки сыра. В некоторых общих камерах заключенные смешивали свой рацион: хлеб, варенье, молоко и сахар, и получался какой-то полусъедобный пирог. Каждый день ели картошку, и никогда не заканчивалась водянистая капустная похлебка. Когда не осталось табака, стали курить чайные листья и лежалую солому. Как и в интернате, люди учились извлекать максимум выгоды из недостатков системы. Те, кого отпускали в город к зубному или глазному врачу, пользовались возможностью и проносили в тюрьму предметы роскоши. Один заключенный вернулся, «приторочив к груди торт с вареньем», а изобретательный Элджи «возвращался, спотыкаясь под грузом еды».
Это были светлые мгновения. Наедине с собой, в записках, Вудхауз обнаруживает тревогу. В дневнике он пишет об «ужасе… притаившемся за углом», о постоянном «тревожном ожидании» и об «огромном страхе» того, что заключенные, обозленные голодом, поднимут бунт и всех расстреляют из пулеметов. У одного пленного развилась тяжелая кожная болезнь, и к нему тут же приклеилось прозвище Лишай. «На краю сознания, – писал Вудхауз, – все время вертится мысль: а вдруг начнется эпидемия?» Его чувства, обычно надежно скрываемые, не всегда можно было утаить в тюрьме. Он непрестанно беспокоился о «своей милой Киске» и, по крайней мере пока до него не стали доходить письма, писал, что у него в сердце «острый нож», поскольку он не знает, в безопасности ли она. С тяжелыми мыслями ему помогала справиться детская привычка: «Нужно приучить себя тут же переключать внимание на другое». Кроме того, победить страх помогал поиск литературных аналогий. Один из самых младших пленников, юноша-бельгиец, сбежал, протиснувшись в узкую бойницу, и немцы на некоторое время ужесточили режим. «Ощущение, как в Дотбойс-холле[42]42
Имеется в виду школа в романе Диккенса «Николас Никльби».
[Закрыть], после того как сбежал Смайк», – спокойно замечал Вудхауз.
Тяжелее всего для пленников Цитадели была соблазнительная близость обычной жизни. Город под холмом был отчетливо виден из тюрьмы. К подножию ее массивных каменных стен приходили безутешные жены заключенных и кричали что-то своим мужьям. В воспоминаниях Вудхауз смеялся над этим («Видеть же друг друга они не могут. Получается нечто вроде мизансцены из оперы ‘Трубадур’»[43]43
Перевод И. Бернштейн.
[Закрыть]), но на самом деле сцены эти были ужасны. Впервые за много лет Вудхаузу пришлось столкнуться с выплеском болезненных эмоций. Однажды он сидел в тюремной столовой, и тут вбежали двое. «Их жены стоят внизу, – писал Вудхауз, – в нескольких десятках метров отсюда. Мужчины лежат на широком подоконнике, смотрят вниз и кричат, а снизу долетают женские голоса». И дальше: «Наконец мы втягиваем их внутрь, боясь, что они потеряют голову и спрыгнут, и Элджи удивительно заботливо усаживает их на скамью… Они сидят, склонив головы, и плачут, а Элджи успокаивает их, как мать, и говорит: теперь-то они знают, что у жен все хорошо, а скоро нас всех выпустят и так далее». Это краткое «и так далее» продиктовано глубокими невысказанными эмоциями и красноречиво говорит о боли, на которую он едва решается посмотреть открыто.
То и дело возникали слухи, будто война вот-вот кончится и всех освободят, но вообще-то поводов для оптимизма было мало, и, когда наконец настали перемены, они были внезапные, драматичные и обескураживающие. 8 сентября Вудхауза и всех остальных (700 человек) отправили поездом в бывший приют для душевнобольных в Тосте – городке в Верхней Силезии, на сельскохозяйственном юго-востоке Великой Германии. «Subita Germanorum sunt concilia»[44]44
«Решения германцев бывают внезапны» (лат.).
[Закрыть], – заметил знаток античности Вудхауз. Он как раз постирал одежду, и для нового неожиданного переезда пришлось упаковать ее еще мокрой. «Пир судьбы» продолжался.
Тост ничем не примечателен. Он лежит в сердце свекольного края… Здешний ландшафт столь однообразно-гладок, что многие гости задаются вопросом: «Если это Верхняя Силезия, то какова же Нижняя?»
П. Г. Вудхауз «Цирковая блоха»
Трехдневный путь до Internierungslager[45]45
Лагерь для интернированных гражданских лиц (нем.).
[Закрыть] (сокращенно «И-лаг») в Тосте, через самый центр оккупированной нацистами Европы, Вудхауз проделал в переполненном купе пассажирского поезда. В день полагались лишь миска супа, буханка хлеба и пол-сосиски; в пути его одновременно мучили голод, нехватка сна и неизвестность, так что по приезде он «походил на ветошку, принесенную вороной с помойки»[46]46
Перевод И. Бернштейн.
[Закрыть]. Хотя он редко называл творившееся в нацистской Германии своим именем, в дневнике он все же написал: «Самое страшное в таких переездах – что ты не представляешь себе, сколько еще осталось ехать». Как правило, он ретушировал свои воспоминания, чтобы предстать добродушным стоиком, который переносит мучения иронически-отстраненно. Но другие не скрывали своего ужаса. Боб Уитби, которого перевозили вместе с Вудхаузом, вспоминает, что на каждой станции поезд окружали охранники, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. «Иногда кто похрабрее [спрашивал] немецких солдат: ‘Куда вы нас везете?’ Ответ был всегда один: ‘Соляные шахты. На соляные шахты’. Я смертельно боялся [попасть] на соляные шахты». И все же, хотя других терзали муки неизвестности, Вудхауз нашел время записать услышанную в тюрьме шутку: «На поверке какой-то шутник сказал: ‘Когда война кончится, куплю себе немца, если у меня будут деньги, поставлю в саду и буду ему устраивать поверки!’». Бесконечный путь в Тост начался 8 сентября. За день до того по всей Британии зазвенели церковные колокола: это ополченцы готовились отражать «предстоящее нашествие» (как потом выяснилось, тревога была ложной).
В те десять месяцев, что Вудхаузу оставалось провести в плену, с сентября 1940-го по июнь 1941 года, война достигла кульминации. За бомбардировками Англии осенью 1940-го последовала Битва за Атлантику, длившаяся с марта по июль 1941-го. Все это вместе: воздушные налеты, потери на море и целый ряд неудач на средиземноморском фронте – заставили Британию перейти к оборонительной войне. Америка же в войну еще не вступила. В кризисных условиях, оказавшись в осаде, британцы испытали прилив патриотических чувств и с презрением оглядывались на постыдные годы выжидательной тактики. Вудхауз, запертый в Тосте, об этом и не подозревал.
Его приемная дочь Леонора Казалет, жившая в Кенте, видела своими глазами Битву за Британию. «Над нами весь день – воздушные бои», – писала она Рейнолдсу: от имени Вудхауза ей приходилось отвечать на деловые вопросы. Она также сообщила Рейнолдсу, что Этель нашлась в доме мадам Бернар, в рыбохозяйстве в департаменте Па-де-Кале. И просила перевести матери тысячу долларов в Париж, в американское посольство. «Новостей о Пламми нет, – продолжала Леонора, – кроме того, что их разлучили, и мы пытаемся разузнать, где он». Рейнолдс в Нью-Йорке также предпринимал все возможное, чтобы помочь своему клиенту. В сентябре, зная только, что Вудхауза интернировали, он попросил вмешаться Красный Крест, но его не стали и слушать. К середине сентября он узнал, что Вудхауза «предположительно поместили в концентрационный лагерь и связаться с ним невозможно», 10 октября он выяснил у американского консула в Париже, что «мистер Вудхауз, как утверждают, содержится в крепости города Юи в Бельгии, недалеко от Льежа». Эти сведения, как позже понял Рейнолдс, устарели на месяц: в конце октября он получил почтовую открытку из тонкого картона от «Gefangennummer 796»[47]47
«Заключенный номер 796» (нем.).
[Закрыть], написанную простым карандашом и печатными буквами. Вудхауз прервал свое пугающее молчание:
Одному богу известно, когда вы получите это письмо. Будьте любезны, вышлите посылку весом до пяти фунтов: один фунт табака «Принц Альберт», остальное – шоколад с орехами. Отправляйте такие посылки каждый месяц. У меня тут все отлично, есть идея нового романа. Надеюсь, смогу его написать. Когда меня интернировали, заканчивал роман про Дживса – оставалось четыре главы, и еще два рассказа.
«У меня тут все отлично, есть идея нового романа»; в этом – весь Вудхауз и весь смысл его жизни. Легко упустить из виду, что, хотя Вудхауз писал популярную юмористическую литературу, в нем была та редкая бескомпромиссность, которая отличает подлинного художника, и проявлял он ее без аффектации, очень по-английски. Его шутливый голос не затихал даже в трудную минуту. «Деньги в банке», конечно, не «Дон Кихот» и не «Путь паломника» (обе эти книги тоже были написаны в тюрьме), но это безусловно часть вудхаузовского мира. Как рассказывал Вудхауз Тауненду, роман писался «в помещении, где пятьдесят человек в это время играли в дартс и пинг-понг», а немцы-охранники заглядывали писавшему через плечо. Однако роман – важное свидетельство того, как держался Вудхауз в военные годы. Хотя книга сочинена в наихудших мыслимых обстоятельствах, в ней очень мало упоминаний о тяготах, которые пришлось пережить ее автору, – как будто война просто прошла мимо. Более осязаемым для него был мир его воображения.
Действие «Денег в банке» происходит отчасти в вудхаузовском Лондоне, отчасти в той английской Аркадии, где принято переодеваться к ужину, а слуги отделены от хозяев дверью, обитой зеленым сукном. <…> Роман описывает ту Англию, которая к 1941 году уже исчезла, однако, как и в остальных книгах Вудхауза, опыт автора превращается в фарсовое подобие действительности. «Ферма здоровья» миссис Корк, посетители которой тоскуют по плотному обеду: стейку и пирогу с почками, – это образ лагеря в Тосте. Роману не вполне свойственна привычная вудхаузовская легкость. Возможно, нетипичные для Вудхауза выражения вроде «фига с два» или «осточертел» появились из-за докучной атмосферы лагеря, но во всем остальном этот роман – пусть и не лучшая его книга, но в ней, как ни странно, нет и следа военного времени; книга оглядывается на прошлое, а не заглядывает в будущее.
Вудхауз изобразил плен лишь косвенно – и это тем более удивительно, что для большинства интернированных пребывание в И-лаге VIII стало критическим испытанием. Во время трехдневного пути через Германию он жаловался на «чувство брошенности», напомнившее ему о детстве: сержант, возглавлявший конвой, казался «взволнованной матерью, или даже скорее тетушкой», но Вудхауз быстро к этому привык. Хотя новое пристанище – бывший приют для душевнобольных, входивший в целую систему лагерей в Силезии – и выглядело официально, изнутри оно так напоминало пансион Далвича, что Вудхауз очень скоро притерпелся к мужскому обществу, столь мучительному для многих. «Меня особенно привлекало в Тосте то, что его явно содержали в порядке, – писал он позже. – Впервые мы оказались в настоящем, а не во временном лагере». Вудхауза зарегистрировали, обыскали, проверили на вшивость, сделали ему прививку и направили в камеру; тогда-то он обратил внимание на деталь, которую можно было с легкостью превратить в шутку: «Они [нацисты] ко мне присмотрелись и, кажется, всё поняли: по крайней мере, отправили нас в местный сумасшедший дом». А если без шуток – Силезия хранила самую страшную тайну Третьего рейха: менее чем в пятидесяти километрах от Тоста находился Освенцим, а до Бельзен-Биркенау ехать было меньше суток.
Бывшая психбольница в Тосте – мрачное здание из красного кирпича – больше походила на школу или тюрьму. Ее окружал небольшой парк, который с одной стороны ограждала высокая стена, а от соседних ферм отделяла колючая проволока. Сквозь зарешеченные окна была видна дорога, по которой туда-сюда сновали машины – шла обыденная жизнь. В трехстах метрах от главного здания, в парке, стояла вторая постройка, столовая, и третья, которую называли Белым домом; в ней устроили лазарет и помещения для отдыха; там Вудхаузу вместе с одним саксофонистом выделили рабочий кабинет – бывший изолятор с войлочными стенами. Интернированные спали в общих комнатах в главном здании, вмещавшем примерно тысячу триста человек. В одной комнате с Вудхаузом, 309-й, разместили шестьдесят четыре человека; он с гордостью отмечал: «Мы думаем, здесь собраны сливки нашего лагеря». Сценка из лагерной жизни, которую он набросал в записной книжке, больше всего напоминает пансион английской частной школы:
На крышах белый иней. Позавтракав, я лежу на кровати и с интересом гляжу, чем занимаются мои соседи. Артур [Грант] подметает под кроватью, Джордж Пиккард штопает носок, Шарни зашивает жилетку, Маккандлесс делает записи в дневнике, Рекс Рейнер бреет затылок Смиту, Том Сарджинсон сидит за столом и учит немецкий, Энке с Маккензи играют в шахматы, Бримбл чинит ботинки, в середине комнаты еще кто-то подметает. Со второго этажа спускается Том Макгроув, он принес сегодняшние слухи.
Дневная жизнь в лагере, вращавшаяся, по словам Вудхауза, вокруг «слухов и картошки», начиналась с побудки в 6 утра, затем с 7 до 8:30 продолжался завтрак, а после него устраивали поверку. Остаток утра, вплоть до обеда, который происходил в три смены, начиная с 12:30, заключенные занимались повседневными делами. До того как в феврале 1940-го стали регулярно поступать продукты от Красного Креста, провизии не хватало и все ходили голодными. На обед давали «овощное месиво» из брюквы, репы и моркови или тушеную рыбу с вареной картошкой. В изобилии водился чай и эрзац-кофе. На присланные посылки с едой начальство смотрело с подозрением: немцы считали, что деликатесы из Британии – своего рода пропаганда, и неохотно их выдавали.
Жизнь в Тосте была серая, но лучше, чем в Юи и Льеже. Например, тем, кому было за 50, не приходилось «гнуть спину». Позже, в одной из своих радиопередач, Вудхауз заметил:
В Льеже и в И возрастного ценза не существовало, там наваливались все разом, от почтенных старцев до беззаботных юнцов, одной рукой, так сказать, чистя сортиры, а другой – картофель. В Тосте же старичье вроде меня жило, не ведая забот. Для нас тяготы трудовой жизни сводились к застиланию своих кроватей, выметанию сора из-под них и вокруг, а также к стирке собственного белья. А когда требовалась мужская работа, например, таскать уголь или разгребать снег, за дело бралось молодое поколение, а мы только поглядывали да обменивались воспоминаниями из Викторианской эры[48]48
Перевод И. Бернштейн.
[Закрыть].
Его частные признания о жизни в лагере были не менее оптимистичны. «В лагере было чертовски весело, – говорил он Тауненду. – Я и правда считаю, что ничто на свете не сравнится с англичанином в теплой шапке и толстом шарфе. В Тосте у меня появились друзья самых разных жизненных призваний, начиная с портовых рабочих из Кале и далее, и всех до единого я полюбил». В дневнике он отмечал: «Без женщин… мы скатываемся в мальчишество: все эмоции у нас мальчишеские».
После обеда снова было свободное время. «Главное преимущество [Тоста] – арестант предоставлен самому себе», – отмечал Вудхауз с одобрением. Ужин в три смены начинался в половине пятого. Затем – снова свободное время до 8 вечера, когда проводилась поверка на улице. Свет гасили в 9:15 вечера. Описывая быт в лагере, Вудхауз естественным образом находил параллели с Далвичем. Комендант, капитаны и обер-лейтенанты не вмешивались в повседневную жизнь заключенных, как и директор и преподаватели в колледже, и Вудхауз видел коменданта всего один раз. «Для нас было важно внутреннее устройство лагеря»[49]49
Перевод И. Бернштейн.
[Закрыть], – объяснял он позже, повторяя описание школьного пансиона в одном из своих ранних произведений. Когда там находился Вудхауз, И-лагом в Тосте «заведовали лагерфюрер и четыре капрала», очень похожие на заведующего пансиона и префектов. Лагерфюрера, которого Вудхауз аттестовал как «хорошего парня», звали Бюхельт, и в Первую мировую он был интернирован в Англии. Прямо как в школе, капралы получили прозвища: «Плуто», «Микки-Маус», «Гуфи» и «Дональд Дак»[50]50
Имена героев диснеевских мультфильмов.
[Закрыть].
Лагерфюрер Бюхельт, которому вскоре предстояло сыграть решающую роль в падении Вудхауза, ставшую темой для бесконечных дискуссий, был «подарком небес для заключенных», управлял лагерем либерально и «все время трудился нам во благо». Вудхаузу Бюхельт понравился тем, что организовал в лагере библиотеку и выпуск газеты, а также предоставил самому Вудхаузу пишущую машинку и место для работы над новым романом – бывший изолятор в Белом доме. С высоты нынешнего дня понятно, что сближаться с лагерфюрером было смертельно опасно, однако таков был характер Вудхауза. Он еще в Голливуде сдружился со многими немцами, и война ничего не изменила. В Тосте он также привязался к двум немцам-переводчикам, один раньше работал в Америке и щеголял словечками вроде «Смекаете, пацаны?» В лагерном дневнике Вудхауз признавался: его взаимоотношения с этими переводчиками, чьи имена нам не известны, «подтверждают то, что я всегда говорил: немцы – превосходные ребята, и единственная преграда между нами – языковой барьер. Все англоговорящие немцы, которых я встречал, нравились мне с первой минуты». Помимо этого безапелляционного заявления, в дневнике нет ни похвалы, ни осуждения нацистских властей Верхней Силезии.
В И-лаге VIII сидели англичане и голландцы, чей патриотический дух был очень высок. Интернированные обязаны были отдавать честь немецким офицерам, но, если не считать этой псевдовоенной формальности, большинство проявляло дерзость, граничившую с неподчинением. Хотя литературная слава выделяла Вудхауза из окружения, – а это были в основном моряки торговых судов или работники военных кладбищ, вроде его друга Берта Хаскинса, – Плам был всей душой, неколебимо предан товарищам. «Ребята из Тоста были бодры духом, – говорил он позже. – Никогда не встречал более веселых людей. Я полюбил их как братьев». А они уважали его и подходили посмотреть, когда он работает за пишущей машинкой на улице, но старались не мешать. Его роль в Тосте – всеобщий любимец, старший в классе: он ведет переговоры с начальством, разрешает мелкие споры, остужает пыл ссорящихся – за что все пленные уважают его. Когда Вудхауз неожиданно их покинул, они почувствовали себя обманутыми и, по рассказам, протестовали. Для некоторых юных узников он исполнял роль отца. Боб Уитби, тогда выглядевший младше своих восемнадцати, а ныне престарелый джентльмен восьмидесяти с лишним лет, вспоминает, что Вудхауз, которого он немного знал, всегда заботливо спрашивал, как у него идут дела, и, чтобы подбодрить мальчика, повторял заклинание всех пленных: «К Рождеству будем дома».
Конечно, домой к Рождеству они не попали, и, когда в октябре пошел первый снег, силезская погода превратилась из едва терпимой в невыносимую. Восточный ветер пронизывал до костей, еды не хватало, а лагерный быт стал беспощаден к людям. Несколько человек умерли, еще у нескольких случился нервный срыв, иные покончили с собой. Уитби вспоминает, как заключенные, словно одержимые, подолгу говорили о еде и сексе, обычно не стесняясь в выражениях. Затем, когда приблизилось второе Рождество военных лет, внешний мир стал вторгаться в вынужденное, хотя и безропотное, одиночество Вудхауза.
Леонора и Рейнолдс всю осень добивались в Британии и Америке освобождения Вудхауза, но его злоключения мало интересовали прессу – в первую очередь потому, что репортеров к нему отправить было нельзя. Однако Америка пока не вступила в войну с Германией, и в Берлине еще находилось несколько американских журналистов, в том числе корреспондент «Ассошиэйтед Пресс» Энгус Термер. Работая над специальным репортажем о лагерях для военнопленных и интернированных, Термер наткнулся на сообщение о том, что романист П. Г. Вудхауз, он же официально «интернированный гражданский британский подданный № 796», содержится в И-лаге VIII возле Глейвица. Заинтересовавшись, Термер запросил разрешения на интервью и получил возможность поговорить с Вудхаузом под наблюдением охраны.
В присутствии лагерфюрера и гестаповского надзирателя Вудхауз беседовал с Термером так же, как всегда разговаривал с прессой: вежливо, открыто и не задумываясь о последствиях; он воображал, будто любое публичное заявление просто заверит его многочисленных читателей в том, что он жив, здоров и в хорошем настроении, невзирая на войну. Заодно он воспользовался случаем привести в порядок литературные дела и назначил Термера посредником в переговорах с «Сатердей ивнинг пост», которая хотела заказать ему оптимистичную статью о его похождениях под рабочим названием «Чего ждать от Вудхауза?» Эта статья, опубликованная под заглавием «Моя война с Германией», впоследствии принесет Вудхаузу одни огорчения. Верный себе, он еще и завел с Термером разговор о том, как назвать новый роман. Термер предположил, что американские читатели на Среднем Западе не поймут названия «Деньги с неба».
Термер телеграфировал свой репортаж в «Ассошиэйтед Пресс», и он вышел в «Нью-Йорк таймс» 27 декабря 1940 года. Последствия его были ужасны и быстро переросли в кризис, ставший поворотной точкой в жизни Вудхауза. Непосредственных последствий приезда Термера было три. Во-первых, статья Термера нечаянно создала, так сказать, «миф» о Вудхаузе и войне. Хотя статья была целиком основана на фактах и вышла без каких-либо редакционных комментариев, ее основной темой был удивительный, по мнению Термера, факт: Вудхауз явно не пользовался особыми привилегиями и даже отказался от отдельной комнаты, которую начальство предложило ему из уважения к его возрасту и репутации. Однако заголовки к статье были подобраны так, что у читателей непременно должны были появиться вопросы касательно поведения Вудхауза: один из подзаголовков, например, гласил «Он [Вудхауз] отвергает привилегии». Парадоксальным образом, именно то, что Вудхауз отказывался от привилегий и не раздумывая преуменьшал тяготы плена, заставило читателей обвинить его в легкомысленном отношении к войне.
Во-вторых, статью Термера иллюстрировала фотография Вудхауза в шарфе и халате, на которой он выглядел таким старым, грустным и исхудавшим, что его американские друзья, особенно Гай и Вирджиния Болтон, чрезвычайно встревожились. После выхода статьи в «Нью-Йорк таймс» Болтоны стали готовить прошение об освобождении Вудхауза, заручившись поддержкой Уоррена Барбура, сенатора-республиканца от Нью-Джерси. На сообщения прессы об этом прошении, в свою очередь, откликнулись письмами протеста многие влиятельные американцы, например, Дороти Бесс – жена Демари Бесса, европейского корреспондента «Сатердей ивнинг пост» и друга Этель, который сам ратовал за освобождение Вудхауза, начиная с июня 1940 года. Однако прошения – это одно, а газетные репортажи – другое. Как только о «похождениях» Вудхауза написали в «Нью-Йорк таймс», немецкие власти впервые задумались о том, что может значить заключенный номер 796 для международной пропаганды. А в третьих, дело было еще и в статье «Чего ждать от Вудхауза?», которую он тогда писал. В ней было немало добродушных шуток о бородатости пленных и правилах этикета при поедании картошки, и, без сомнения, эта статья сформировала у Вудхауза привычку писать с юмором о том, над чем смеяться не следовало – о лагерном быте и вообще о его пребывании в нацистском рейхе.








