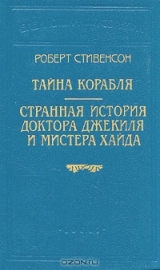
Текст книги "Тайна корабля"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Соавторы: Ллойд Осборн
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ГЛАВА IV
Я испытываю капризы фортуны
Оттого ли, что я уже был научен горьким опытом моего двукратного банкротства в Коммерческой школе, или путем прямого унаследования от моего деда, бывшего подрядчика, старика Лоудона, – не подлежит сомнению тот факт, что я был человек бережливый. Смотря на себя беспристрастным оком, я должен признать, что это была моя единственная добродетель. В течение двух первых лет моей жизни в Париже я не только не выступал из пределов получаемой мной пенсии, но даже скопил изрядное сбережение в банке. Вы скажете, что при моей маскарадной жизни на манер бедного студента мне это было вовсе не трудно; у меня должны были оказаться запасы средств, и было бы удивительно, если б у меня их не было. Случай, приключившийся со мной на третьем году парижской жизни, вскоре после знакомства с Пинкертоном, показал мне, что я поступал очень благоразумно. Подошел срок присылки мне денег, а повестки не было. Я послал письмо, и в первый раз за все время не получил на него ответа. Каблограмма оказалась действеннее, потому что принесла мне хоть надежду на то, что мне окажут внимание. «Напишу обо всем», – телеграфировал мне отец. Но я долго не получал от него письма. Я был сбит с толку, зол и встревожен. Однако благодаря сбережениям не могу сказать, чтоб был на самом деле поставлен в затруднение. Затруднение, бедствие, агония – все было на стороне моего несчастного отца, там, дома, в Мускегоне, где он боролся за существование и имущество против своенравной судьбы; после длинного дня, проведенного в бесплодных хлопотах, он возвращался домой, чтобы читать и, быть может, рыдать над последним сердитым письмом его единственного детища, на которое он не имел мужества ответить.
Месяца через три, когда мои сбережения начали уже истощаться, я, наконец, получил письмо с обычным переводным векселем.
«Дорогой мой мальчик, – писал он, – под давлением трудных обстоятельств твои последние письма поневоле были оставлены без ответа некоторое время. Ты должен попытаться извинить твоего бедного старого папу, потому что для него наступили тяжелые времена. И теперь, когда все это прошло, доктор предписывает мне взять ружье и отправиться в Адирондаке ради отдыха. Не думай, что я расхворался, нет, я только ужасно утомлен и стал чувствителен к погоде. Многие из наших дельцов уезжают отсюда. Джон Мак-Бреди уехал в Канаду; Билли Сандуис, Чарли Даукс, Джо Кайзер и многие другие из наших выдающихся людей повалились так, что уж и подняться не могут, только упорный Додд выдержал бурю, и я думаю, мне так удалось устроиться, что к осени мы будем богаче, чем были раньше.
Теперь хочу сказать тебе, дорогой мой, что я затеял. Ты говоришь, что твоя первая статуя удалась. Отделай и закончи ее как следует, и если твой учитель – все я забываю, как выговаривается его имя, – пришлет мне удостоверение, что она исполнена вполне удовлетворительно по правилам искусства, ты получишь десять тысяч долларов и можешь ими распорядиться, как тебе вздумается у себя на родине или в Париже. Если, как я предполагаю, в Париже всего удобнее работать, то тебе бы хорошо было купить или выстроить себе там домик; и твой папа первым долгом заявился бы к тебе на новоселье позавтракать. Я и в самом деле собираюсь к тебе; стар становлюсь и очень уж скучаю о моем дорогом мальчике, так долго его не видавши, да только вот задерживают разные операции, которые надо как следует наладить и пустить в ход. Скажи своему другу Пинкертону, что я читаю его корреспонденции каждую неделю; и хотя я напрасно искал в них имя моего Лоудона, все же ознакомился с жизнью, какую он ведет в этом страшном Старом Свете, описываемом талантливым пером».
Это было такое письмо, какое ни один молодой человек не может переварить в одиночестве. В нем было нечто, чем было необходимо с кем-нибудь поделиться. И, конечно, избранный мной для этого приятель не мог быть не кто иной, как Пинкертон. На этот выбор могло навести меня даже само письмо моего отца; но я это только так говорю, потому что наша дружба с Пинкертоном и без того зашла достаточно далеко. Я чувствовал сердечное влечение к моему земляку. Случалось, что я и подтрунивал над ним, и журил, но все же любил его. Он со своей стороны питал ко мне что-то вроде собачьей привязанности; он смотрел на меня как-то снизу вверх, как человек, который восторгается в другом теми преимуществами, какими сам желал бы обладать. Он ходил за мной по пятам; его смех сопровождал мой; наши общие друзья дали ему кличку «пажа». Порабощение ближнего предстало предо мной в этом коварном виде.
Мы с Пинкертоном читали и перечитывали знаменитое послание, и могу поклясться, что он делал это с более чистой и шумной болтливой радостью, чем я сам. Моя статуя была почти закончена; мне оставалось несколько дней работы, чтобы подготовить ее на выставку; она была показана учителю, и он дал согласие. И вот, в одно пасмурное майское утро, мы собрались в моей мастерской, ожидая экзамена. Учитель был украшен своей орденской ленточкой. Он явился в сопровождении двух моих сотоварищей-учеников, французов; оба были мои друзья, и оба теперь известные парижские скульпторы. Наш «капрал», как мы называли его, на этот раз отложил в сторону свои учительские манеры, которыми он так много выигрывал во мнении публики, и держался просто, по-провинциальному. Тут же, по особой моей просьбе, присутствовал и мой милый, старый Ромнэй; кто его знал, тот понимал, что удовольствие тогда только будет полным, когда его разделяешь с Ромнэем, да и горе переносится куда легче, если Ромнэй тут, – он сумеет утешить. Сборище дополнялось англичанином Мейнером и братьями Стеннисами, Стеннисом-aine (то есть старшим) и Стеннисом-frere (то есть братом), как они обычно различались; оба были легкомысленные шотландцы; конечно, присутствовал и неизбежный Джим, бледный как полотно и покрытый испариной от боязливого ожидания.
Я думаю, что и сам-то я был разве немного получше в ту минуту, когда стаскивал холстину с моего Мускегонского Гения. Учитель молча и серьезно обошел его вокруг; потом он улыбнулся.
– Что ж, это уже недурно, – сказал он на своем ломаном английском языке, которым он так гордился, – нет, ничего себе, недурно.
Все мы вздохнули с облегчением. Капрал Жан (как старший среди присутствующих), объяснил, что статуя предназначается для публичного здания, которое представляет собой нечто вроде префектуры.
– Что-о-о?.. – внезапно переходя на родной язык, воскликнул учитель. – Qu'est-ce que vous me chantez la?.. (Что вы мне поете). – Ах, да, в Америка! – добавил он, выслушав дальнейшие разъяснения. – Ну, эта трукой тел! Тогда ошень харошь, ошень харошь!..
Тут ему постарались осторожно и в шутливом тоне внедрить мысль насчет свидетельства от его имени о благоуспешности работы. Упомянули при этом и об отцовской фантазии американского набоба и даже что-то такое о краснокожих Фенимора Купера. Пришлось вкупе сочетать все наши таланты, чтобы придумать приемлемую с обеих сторон формулу этого аттестата. Наконец придумали, и капрал Жан изложил ее своим неудобочитаемым почерком; учитель украсил ее своей подписью с надлежащим росчерком; я запечатал аттестат в конверт вместе с другим заготовленным письмом, и в то время, как мы всей компанией тронулись завтракать на бульвар, Пинкертон помчался на почту сдать мое послание.
Завтрак был заказан у Лавеню, где можно было без смущения и колебания угощать даже и учителя. Стол накрыли в садике. Я сам позаботился насчет меню, а насчет вин состоялся целый военный совет, принявший самое удовлетворительное решение. Как только учитель отложил в сторону свой ужасный английский язык, так тотчас же общая беседа приняла почти исступленные размеры. Правда, она иногда прерывалась тостами. Выпили за здравие наставника, и он ответил ловко скомпонованным спичем, полным счастливых намеков на мою будущность и на Соединенные Штаты. Потом пили за мое здоровье; потом не только предложили и выпили за моего отца, но и решили ему послать телеграмму – экстравагантность, которая взяла начало в разнузданных от возлияний чувствах учителя. Избрав для исполнения этого поручения капрала Жана (вероятно, на том основании, что он уже почти стал артистом), учитель все повторял: «C'est barbare!», очевидно, выражая этими словами свои восторженные чувства. В промежутках между этими излияниями пылких чувств мы говорили, говорили без умолку об искусстве так, как могут говорить только артисты. Здесь, в южных морях, мы больше всего говорим о шхунах, а там, в Латинском квартале, мы толковали об искусстве с таким же неослабным интересом и, пожалуй, с таким же результатом.
Учитель через некоторое время удалился восвояси; капрал Жан последовал за ним по пятам (ведь он был уже и сам что-то вроде юного учителя), а с их уходом устранились всякие церемонии; теперь мы оставались все равные; бутылки ходили по кругу, разговор оживился. Мне кажется, я и сейчас слышу словообильные тирады братьев Стеннисов. Дижон, мой сосед по комнате, сыпал удачнейшими остротами; кто-то другой, не француз и человек не бойкий в иностранных языках, все старался вломиться в беседу, выстреливая фразами, вроде: «Je trove que pore oon sontimong de delicacy, Corot…» или «Pour moi Corot est le plou» [15]15
Французские фразы, изуродованные в произношении на английский манер: «Я нахожу, что в отношении чувства деликатности, Коро… и „Для меня Коро наиболее…“
[Закрыть], но его маленький французский плот сразу нырял под воду, а потом снова карабкался на берег. Но этот, по крайней мере, хоть понимал, что говорят другие; а вот Пинкертон, так тот от шума, вина, солнца, от зеленой тенистой листвы, наконец, от гордого сознания, что он участвует в иноземном пиршестве, лишился всякой возможности участвовать в разговоре.
Мы сели за стол около половины двенадцатого и, надо полагать, часов около двух, под влиянием разговоров и споров об искусстве и картинах, решили отправиться в Луврскую Галерею. Я уплатил по счету, и спустя минуту мы уже шествовали по Реннской улице. Была удушающая жара. Париж блистал тем свойственным ему поверхностным блеском, который так приятен человеку в сильно приподнятом настроении духа и так угнетает при подавленном настроении. Вино шумело у меня в ушах, прыгало и сверкало у меня в глазах. Картины, которые мы смотрели в тот день, быстро и шумно проходя по бессмертным галереям, казались мне упоительными, а наши замечания о них, то важные, то игривые, относились к области критики высочайшей марки.
Когда мы вышли из музея, в нашей компании обнаружилась разница расовых вкусов и склонностей. Дижон предлагал идти в кофейню и закончить день пивом. Старший Стеннис возмущался этим предложением и настаивал на загородной прогулке в лес, что ли, но только чтобы куда-нибудь подальше идти. В то же время англичане стояли за какую-нибудь гимнастическую или спортивную затею. Мне лично, часто тяготившемуся моим сидячим образом жизни, мысль о загородной прогулке показалась самой привлекательной. Прикинули время и увидели, что у нас как раз хватит времени поспеть на извозчиках к скорому поезду, идущему в Фонтенбло. Но с нами кроме одежды не было почти ровно ничего из обычной поклажи путешественников; возник вопрос, не найдется ли у нас еще время на то, чтобы запастись, заехав домой, сумками? Но братья Стеннисы возопили против нашей изнеженности. Они приехали из Лондона, кажется, только с одними пальто да зубными щеточками. Вся тайна существования состоит в том, чтобы обходиться без багажа. Конечно, обращаться к парикмахеру каждый раз, когда нужно причесаться или побриться, – это требует лишних расходов, и каждый раз при покупке новой рубашки приходится бросать заношенную. Но все, что вам угодно, лучше, – рассуждали братья Стеннисы, – чем быть рабом чемодана и саквояжа.
– Добрый малый должен понемногу освобождаться от всяких материальных привязанностей, – говорили они. – это будет настоящее состояние человека взрослого, а до тех пор, покуда вы чем бы то ни было связаны – домом, зонтиком, дорожным ремнем, – это будет все равно, что у вас еще пуповина не перерезана.
В этой теории было что-то заманчивое, увлекавшее большинство из нас. Правда, два француза, посмеявшись над нами, ушли пить пиво, да Ромнэй, человек небогатый, не мог принять участие в поездке на свои средства и не желавший одолживать, тоже ушел, чтобы не навязываться. Оставшиеся в компании уселись в экипаж; кони вздрогнули, восприняв вдохновение возницы, к карманным интересам которого было обращено надлежащее воззвание; поезд был захвачен за минуту до отхода. Не прошло и полутора часов, как мы уже вдыхали нежнейший воздух леса; мы шли через холм от Фонтенбло к Барбизону, и вожди нашей компании прошли это расстояние в пятьдесят одну с половиной минуту, – в своем роде исторический рекорд той местности. Едва ли вы изумитесь, узнав, что я несколько поотстал от них. Философски настроенный британец, Мейнер, был моим спутником; великолепие солнечного заката, длинные тени, чудный воздух, вообще все наслаждение, доставляемое лесом, побуждало меня шагать молча, и мое молчание сообщалось моему спутнику. Помню, что когда он, наконец, заговорил, то я словно встрепенулся от глубокой задумчивости.
– Ваш отец, должно быть, добрейший из отцов, – сказал он. – Чего он не приедет сюда повидаться с вами?
У меня нашлось бы на это несколько дюжин ответов готовых, да еще больше того в запасе; но Мейнер со свойственной ему проницательностью, из-за которой его все боялись и которой все дивились, внезапно уставился на меня сквозь свои очки и спросил:
– Вы настаивали на том, чтобы он приехал?
Кровь залила мое лицо. О, нет, никогда я не настаивал на том, чтобы он приехал; никогда даже никак и ничем его не побуждал к тому. Я им гордился, гордился его внешностью, его манерами, его лицом, которое становилось таким ясным, когда он видел, что другие счастливы; гордился, хотя и нехорошо, пожалуй, было этим гордиться, его большим богатством и щедростью. Притом он знал о моей жизни в Париже во всех подробностях, и кое-что в этой жизни не одобрял. Я боялся, чтобы кто-нибудь не стал насмехаться над его наивными отзывами об искусстве. Я всем говорил, да отчасти и сам тому верил, что он не собирается в Париж. Я был и теперь еще остаюсь в убеждении, что вне Мускегона он всюду будет чувствовать себя нехорошо. Словом, у меня были тысячи всяких дурных и хороших причин ни на йоту не сомневаться в том, что он ждет только моего приглашения.
– Спасибо вам, Мейнер, – сказал я, – вы лучший товарищ, чем я думал. Я сегодня же напишу ему.
– О, вы очень скромный человек, – ответил он с более чем обычной живостью, но как мне казалось, без малейшего следа иронии.
Да, это были хорошие дни, о которых я всегда буду помнить. Не дурны были и те, которые за ними последовали, когда мы с Пинкертоном слонялись по Парижу и его пригородам, осматривая дома для моей новой мастерской и прицениваясь к ним, или, покрытые пылью, несли домой разных китайских идолов и бронзовые вещи, приобретенные у старьевщиков. Пинкертон потратил немало денег на покупку разных картин и редкостей для Соединенных Штатов; тут в этом деле, между прочим, выяснилось, что он, не будучи знатоком, проявил себя все же хорошим оценщиком. Сами вещи не возбуждали в нем ровно никакого чувства, но он радовался, что дешево купил их и дорого продает.
Между тем подошло время, когда я должен был получить ответное письмо от отца. Почта приходила каждый день, но мне ничего не доставляли. Наконец я получил какое-то странное письмо, почти бессвязное, в котором оыли и утешения, и ободрения, и вопли раскаяния и отчаяния. Из этого возбуждавшего жалость документа, который я, движимый сыновним чувством, поспешил сжечь как только прочитал, я убедился в том, что пузырь богатства моего отца лопнул, что он и нищ, и болен, я вместо того, чтобы получить десять тысяч долларов и растранжирить их по-мальчишески, мог быть спокоен за свою будущность лишь в пределах той четверти года, которая у меня была оплачена. Касса моя пока еще была довольно исправна; но во мне нашлось достаточно здравого смысла, чтобы понять, и достаточно благоприличия, чтобы исполнить свой долг. Я продал все свои редкости, или, правильнее сказать, поручил Пинкертону продать их; но он так экономно их покупал и так расчетливо распродал, что потеря моя на них оказалась ничтожной. Вместе с тем, что у меня оставалось от последней пенсии, у меня всего скопилось не менее пяти тысяч франков. Из них пятьсот я отложил на мои текущие нужды; остальные все на той же неделе отправил отцу в Мускегон, куда эти деньги и пришли как раз ему на похороны.
Известие о смерти отца поразило меня более как неожиданность, нежели как горе. Я не мог себе представить отца бедным человеком. Он слишком долго вел жизнь беззаботную и расточительную, чтобы перенести такую перемену. За себя я горевал, но за отца радовался, что он ушел от предстоящей житейской борьбы. Я сказал, что горевал за себя; кто знает, может быть, в то самое время тысячи людей тоже горевали по причинам гораздо более ничтожным. Я потерял отца; я лишился средств к существованию; все мое богатство, считая и то, что мне пришлют обратно из Мускегона, едва ли превысит тысячу франков; да еще к довершению моей беды контракт на поставку статуй перейдет в другие руки. А у нового контрагента был свой собственный сын или, быть может, племянник, и мне с надлежащими соболезнованиями было дано знать, чтобы я искал другой рынок для моего товара. Я сдал свою комнату и стал ночевать в мастерской на складной кровати. И теперь, было ли дело ночью, когда я укладывался спать, или утром, когда я просыпался, передо мной торчала эта, отныне бесполезная груда – мой Мускегонский Гений. Бедная каменная барыня! Явилась она на свет для того, чтобы воцариться над позолоченным, гулкозвучным куполом нового Капитолия, а теперь кто знает, какая судьба ее ждет! Может быть, она будет разбита, пойдет в лом, как неудачно выстроенное судно, негодное для плавания! И что-то станется с ее злополучным создателем, с его тысчонкой франков на пороге такой трудной жизни, как жизнь скульптора!
Обо всем этом мы с Пинкертоном часто разговаривали. По его мнению, мне следовало немедленно бросить мою профессию.
– Бросить надо все это, сейчас же! – убеждал он меня. – Поедем вместе домой и там всей душой уйдем в дела. У меня есть деньги, у вас образование. «Додд и Пинкертон»! Лучшего сочетания имен для объявлений я и не видывал. А вы себе представить не можете, Лоудон, как много значит имя!
Я лично держался того мнения, что скульптор должен обладать одним из трех достоинств: капиталом, значением или же энергией, но не менее как адской. Два первых шанса у меня теперь были утрачены, а к третьему у меня никогда не было ни малейшего позыва. Поэтому у меня теперь и обозначилось малодушие (а кто знает, пожалуй, и мужество), побуждавшее меня повернуться спиной к моей карьере, хотя и не бежать от нее. Я говорил Пинкертону, что как ни малы были мои шансы на успех по скульптурной части, но в коммерческих делах они могут оказаться еще слабее, и что к ним-то я уже совсем не чувствую ни склонности, ни способности. Но об этом он рассуждал так же, как покойный отец. Он уверял меня, что я говорю не зная дела; что каждый умный и образованный человек наверняка будет иметь успех в торговле; что я должен в этом смысле унаследовать способности своего отца; и что, наконец, я подготовлен к этому в торговой школе.
– Но вспомните же, Пинкертон, – говорил я ему, – что за все время пребывания здесь я не выказывал ни малейшего интереса к какому-либо торговому делу! Для меня всякое «дело» – чистая отрава!
– Не может этого быть! – кричал он. – Невозможно это! Вам нельзя будет жить среди дел и не чувствовать стремления к ним! Какая бы там ни была у вас поэтическая душа, вам не утерпеть! Ей-Богу, Лоудон, вы меня с ума сведете! Ведь подумайте – там, где люди бьются с утра до ночи, до истощения сил, вы не хотите рискнуть грошом, чтобы попытать счастье! Тут у вас, около самых рук ваших, целая будущность, целое богатство, и вы только высматриваете какую-нибудь щелочку, куда бы можно было просунуть руку с долларом, и вы стоите одной ногой в разорении, а другой – на груде долларов, и все кругом вас бурлит и кипит в погоне за удачей, – да неужели все это не способно вовлечь в себя человека и закружить его!
На эту поэму торгашества я мог ответить поэмой искусства. Я напомнил ему пример упорного труда, настойчивости, упорного сопротивления всяким невзгодам жизни, которыми иллюстрируется служение Аполлону, начиная от Милье и кончая нашими товарищами и друзьями, которые карабкаются сквозь скалы и камни, без копейки в кармане, но полные надежд.
– Вам никогда не понять этого, Пинкертон, – сказал я ему. – Вы глядите только на результат; вам нужна выгода как результат ваших усилий; поэтому вы никогда не выучитесь рисовать, хотя бы прожили Мафусаилов век. Результат всегда ошибка; взор артиста углублен внутрь; он живет ради идейного образа. Взгляните на Ромнэя. Вот это настоящая артистическая натура. У него нет ни копейки, а предложите ему на завтра командование армией или президентство в Соединенных Штатах, он не примет, вы это сами хорошо знаете.
– Да, не примет, – кричал Пинкертон мне в ответ, ероша волосы обеими руками, – и я не могу понять почему! И не знаю, чего он хочет и что из него выйдет. Я не могу до этого возвыситься; должно быть, это происходит от недостатка образования. Но одно скажу, Лоудон: я так ничтожен, что все это мне кажется глупостью. Ведь как ни верти, – добавил он с улыбкой, – я не вижу, что вы будете делать с вашими «идейными образами» без хорошего обеда. И вы никакими силами не выколотите из моей головы убеждения, что задача каждого человека состоит в том, чтобы стать богачом, если он может.
– Но чего ради? – спросил я.
– Не знаю, – ответил он. – Чего ради, например, вот хоть вы стремитесь сделаться скульптором? Я сам с удовольствием стал бы скульптором. Я только не могу понять, почему вы не хотите быть и еще кем-нибудь. Мне думается, что это указывает на ограниченность натуры.
Уж не знаю, понял он меня или нет, – притом я сам, после перенесенных мной ударов, был в таком состоянии, что и сам-то себя, пожалуй, не понимал, – но все-таки через некоторое время убедился, что я говорю серьезно. Пробившись со мной дней десять, он вдруг оставил все эти разговоры и объявил мне, что его деньги на исходе, и что ему надо ехать домой. Нет сомнения, что он уже давно бы собрался и уехал, и если оставался, то лишь ради нашей дружбы и сочувствия к моим бедствиям. Но человек уж так устроен, что я хоть и понимал это, но от этого только пуще раздражался. Его отъезд мне представлялся чем-то вроде бегства. Я этого не говорил, но, должно быть, невольно это выказывал. И мне казалось, что я усматриваю что-то вроде раскаяния в его удрученном, как у висельника, лице и всей фигуре. Несомненно лишь то, что во время его сборов мы как-то сторонились друг от друга, – обстоятельство, о котором я вспоминаю со стыдом. В последний день он повел меня обедать в ресторан, который, как он знал, я раньше посещал, а потом, ради экономии, перестал туда ходить. Он казался очень расстроенным; я тоже был и скучен, и зол; обед прошел у нас почти без разговоров.
– Ну, Лоудон, – заговорил он с видимым усилием, после того, как мы выпили кофе и стали курить, – едва ли вы в силах понять всю признательность, все благожелание, какие я к вам чувствую. Вы не знаете, какое это благодеяние – быть принятым в друзья человеком, который стоит на вершине цивилизации; вы не можете себе представить как это исправило и очистило меня, как это подняло мою духовную натуру. И мне хочется сказать вам, что я готов умереть у ваших дверей, как собака.
Уж не помню, что я собирался ответить ему, но он перебил меня.
– Дайте мне договорить! – крикнул он. – Я глубоко уважаю вас за то, что вы всю душу вкладываете в искусство; я не могу до этого подняться, но и во мне есть какая-то поэтическая струнка, Лоудон, которая отзывается на это чувство. И я хочу поддержать вас, помочь вам.
– Что это за нелепости, Пинкертон? – прервал я его.
– Погодите, Лоудон, не выходите из себя; это чисто деловое предложение, – сказал он. – Ведь как живут все эти ребята в Париже, – Гендерсон, Сомнер, Лонг?.. У всех одна и та же история. С одной стороны молодой человек, полный художественного гения, с другой – деловой человек, который не знает, куда девать свои доллары…
– Но, глупый вы человек, ведь вы бедны как церковная крыса! – закричал я.
– Дайте мне раскалить в огне мое железо! – возразил Пинкертон. – Я поклялся стать богачом. И я вам говорю, что я этого добьюсь. Вот ваша первая пенсия; возьмите ее из рук друга. Я из тех, кто считает дружбу вещью священной, и я знаю, что вы такой же. Тут всего сто франков. И такую же сумму вы будете получать каждый месяц; а как только мои дела улучшатся, мы повысим пенсию до надлежащих размеров. И не думайте, что это милость с моей стороны. Нет, я буду продавать ваши статуи в Америке, и буду это считать одним из самых лучших торговых дел в моей жизни.
Немало мне довелось потратить времени и немало мы оба испытали тяжелых волнений, пока я наконец решительно отказался от его предложения и мы покончили дело, потребовав бутылку вина. Он наконец бросил этот разговор, решительно выкрикнув: «Ну, ладно, пусть будет так!»
Остаток дня мы не расставались, но он уже не возвращался к этому предмету. Я провожал его до Сен-Лазарского вокзала. Я почувствовал угнетающее одиночество. Какой-то голос шептал мне, что я разом отринул и советы мудрости, и дружескую руку помощи. И в то время, как я возвращался к себе домой через блестящий город, я в первый раз смотрел на него сквозь призму невзгод.








