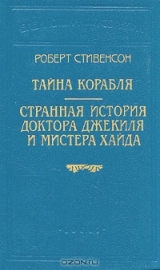
Текст книги "Тайна корабля"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Соавторы: Ллойд Осборн
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ГЛАВА I
Основательное коммерческое образование
Исходной точкой этой истории был характер моего бедного отца. Никогда еще не было человека лучше и прекраснее его, но и никогда не было, по-моему, более несчастливого человека – несчастливого в своих делах, в своих развлечениях, в выборе места жительства и – нечего делать, надо и об этом сказать, – в своем сыне.
Начал он свою карьеру землемером, потом приобрел недвижимую собственность, пускался в разные спекуляции и сделался известным по всему штату Мускегон [3]3
Название вымышленное. Такого штата в Северной Америке не существует.
[Закрыть]как один из самых едких насмешников.
– У Додда большая голова [4]4
Big head (буквально – большая голова) – американизм, слово, употребляемое американцами для обозначения испорченности подрастающего поколения. Это что-то вроде наших эпитетов: сорванец, баловень, вольница, сорви-голова (прим. перевод.).
[Закрыть],– говорили про него. Я никогда не веровал в его особые способности. Ему, без сомнения, долго везло: усердие же никогда ему не изменяло. Он вел свою повседневную борьбу за приобретение денег с неизменной честностью, словно какой-то мученик. Он рано вставал, наскоро закусывал, возвращался домой весь усталый и измотанный, даже в случае удачи. Он отказывал себе во всяких развлечениях, и, казалось, его натура была чужда им, что временами даже поражало меня. Он вкладывал всю свою удивительную добросовестность и бескорыстие в такие дела и предприятия, которые по своей сути мало чем отличались от грабежа на большой дороге.
К несчастью, я ни в грош не ставил что-либо, кроме искусства, да никогда и не буду ставить. По-моему, главная задача человека и цель его жизни должна состоять в том, чтоб обогатить мир произведениями изящного искусства, и я потратил немало своего времени на выполнение этой задачи. Я не любил распространяться о таком времяпрепровождении, но отец заметил это умолчание и все мое стремление к искусству понимал как простое потворство своим капризам.
– Ну, а вы! – крикнул я ему как-то раз. – Вы на что тратите себя всю жизнь? Вам только бы добывать деньги, да притом добывать их от других!
Он, по своему обыкновению, огорченно вздохнул и покачал своей бедной головой.
– Эх, Лоудон, Лоудон! – сказал он. – Все вы, мальчуганы, считаете себя бойцами. Впрочем, что ж, борись как хочешь. В этом мире человек должен работать. Что-нибудь одно, Лоудон: надо быть либо честным, либо вором.
Из этого вы можете видеть, что с моим отцом трудно было спорить. Взяло меня горе после этой беседы с ним, да еще горе-то это увеличивалось угрызениями совести. Я иной раз бывал и грубоват с ним, а он был всегда неизменно мягок. Я воевал за свою личную свободу, отстаивал собственное удовольствие, он же думал только о моем благе. И никогда не впадал в отчаяние.
– Ведь в тебе основа добрая, Лоудон, – говаривал он мне. – В тебе просто горячится кровь, тебе хочется поскорее добиться своего. Но я не боюсь, что мой мальчик захочет огорчить меня; мне только неприятно, что он иной раз скажет вздор.
И он трепал меня по плечу, либо по руке с чисто материнской нежностью, которая была особенно трогательна в таком сильном и прекрасном человеке.
Когда я окончил курс в средней школе, он определил меня в Мускегонскую Коммерческую академию. Вы иностранец, и вам трудно будет понять реальность такого учебного заведения. Но уверяю вас, что я говорю вполне серьезно. Такое заведение действительно существовало и, возможно, существует и теперь. Наш штат гордился им как вещью, которая кладет на страну особенный, исключительный отпечаток девятнадцатого века и является плодом цивилизации. И отец, смотря на меня в ту минуту, когда я садился в вагон, вероятно, думал про себя, что он направил меня на прямой путь к будущему президентству.
– Лоудон, – говорил он, – я предоставляю тебе то, что не мог бы предоставить своему сыну сам Юлий Цезарь, – я даю тебе возможность видеть жизнь, какова она есть, прежде чем ты сам в свою очередь начнешь серьезную жизнь. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя джентльменом и, коли захочешь, послушайся моего совета, ограничивайся верным делом – железнодорожным. Правда, дела с хлебом и мукой очень соблазнительны, но и очень опасны; в твои годы я не стал бы ввязываться в дела с хлебом; но, может быть, ты больше склонен к каким-нибудь другим делам. Гордись порядком, в котором содержишь свои торговые книги, никогда не швыряй деньги на ветер. Теперь, милый мой мальчик, поцелуй меня на прощанье и никогда не забывай, что ты мой единственный цыпленочек, и что твой папа будет следить за твоей карьерой с безумной тревогой.
Коммерческая школа занимала прекрасное, просторное здание, красиво окруженное деревьями. Воздух был здоровый, пища превосходная, плата высокая. Электрические провода соединяли ее, придерживаясь выражений объявления о ней, «с разными центрами мира». Читальня была обильно снабжена «коммерческими органами печати». Ученики, которых было в ней от полусотни до сотни, побуждались вести игру между собой на номинальные суммы, стараясь при этом поддеть друг друга; для этого завели особые «школьные бумаги».
По утрам были лекции, во время которых мы изучали немецкий и французский языки, бухгалтерию и другие такие же приятные вещи. Но наше главное занятие в течение дня, самая суть нашего обучения сосредоточивалась на бирже, где мы наглядно обучались обращению с ценностями. Так как ни у одного из нас не было ни бушеля зерна и ни на один доллар имущества, то первоначально мы и не могли вести никакого настоящего дела. Это было простое обучение игре, ничем не замаскированное. Именно потому, что всякое действительное коммерческое состязание тут было устранено, мы и могли предаваться игре совсем как на театральной сцене. Наше подобие рынка дополнялось тем, что мы должны были соблюдать его внешность и практиковаться в рыночном колебании цен. Мы были обязаны вести книги, и в конце каждого месяца наши главные книги поступали на просмотр к директору школы или его помощникам. Для большего сходства с действительностью были пущены в обращение особые «школьные ассигнации», вроде фишек в карточной игре. Родители или опекуны приобретали известный запас этих фишек для каждого ученика, по одному центу за доллар. Потом, по окончании курса, ученик перепродавал все, что у него оставалось, по той же цене, да и во время обучения иной изворотливый делец, случалось, «реализовывал» часть своих капиталов и мог по секрету устроить пирушку где-нибудь в соседнем поселке. Короче говоря, мудрено было бы сыскать где-нибудь на свете учебное заведение с худшей системой воспитания.
Когда меня в первый раз привели на биржу и один из учителей поместил меня за конторкой, я был прямо ошеломлен царящим там смятением, шумом и гамом.
Черные доски на другом конце помещения были покрыты какими-то цифрами, беспрестанно сменяющимися. Как только появлялся новый ряд цифр, ученики наши приходили в ажиотаж и поднимали рев, который в моих глазах был лишен всякого смысла; они вскакивали на сиденья, на конторки, делали какие-то сигналы головами и руками и что-то возбужденно записывали. Мне казалось, что я за всю свою жизнь не видывал более неприятной сцены. Притом я помнил, что ведь вся эта коммерческая суета – одна иллюзия, что на все ваши капиталы можно было купить разве только пару коньков. Я был очень изумлен, хотя и ненадолго. В самом деле, едва успел я сосредоточить свое внимание на внезапно появившихся, видимо богатых, мужчинах и женщинах, выходивших из себя по поводу какой-то отметки в полпенни, как мне пришлось перенести все свое изумление на одного из наших учителей, который – бедный джентльмен! – совсем забыл обо мне и моей конторке и остановился посреди этого гвалта, весь поглощенный им и, видимо, не владевший собой.
– Глядите, глядите, – крикнул он мне на ухо, – полное падение! Медведи [5]5
Медведями (bear) на американских биржах называются спекулянты на понижение бумаг.
[Закрыть]еще со вчерашнего дня успели все кончить!
– Ведь это ничего не значит, – возразил я, с трудом перекрикивая всеобщий гомон, среди какого я не привык говорить, – ведь все это только так, для виду.
– Совершенно верно, – сказал он. – И вы всегда должны помнить, что главная суть состоит в бухгалтерии. Я уверен, Додд, что смело могу вас поздравить с вашими книгами. У вас капитал в десять тысяч долларов в школьных ассигнациях. Это хороший капитал, благодаря которому вы будете на виду во все время обучения, если только вы изберете себе верное и надежное дело… Но что это? – вдруг прервал он свою речь, увидав на доске новые цифры. – Семь, четыре, три! Додд, вам везет! Это самое оживленное собрание за текущий курс. И подумать только, что такая же самая сцена происходит теперь в Нью-Йорке, Чикаго и других соперничающих между собой центрах! Я и сам охотно рискнул бы двумя центами вместе с нашими юношами, – кричал он, потирая руки, – да нельзя, устав не позволяет.
– Что вы хотели бы сделать, сэр? – спросил я.
– Что сделать? – воскликнул он, сверкая глазами. – Да рискнуть всем своим капиталом!
– Разве это такое верное и надежное дело? – спросил я с невинностью агнца.
Он бросил на меня уничтожающий взгляд.
– Видите вы этого человека в очках, с волосами песочного цвета? – спросил он, как бы желая переменить разговор. – Это Билльсон, наш выдающийся ундер-градуат [6]6
Студент, еще не получивший первой ученой степени.
[Закрыть]. Мы твердо верим в будущее Билльсона. Вы ничего лучше не придумаете, Додд, как следовать примеру Билльсона.
Вслед затем, среди возраставшего гвалта из-за этих цифр, все более и более оживленно сменявшихся на доске, посреди этого зала, превратившегося в какой-то пандемониум, наполненный воем дельцов, мой учитель отошел от меня и предоставил меня за моей конторкой собственному усмотрению. Мой сосед ученик сидел за своей главной книгой, вписывая в нее, как я узнал потом, свои утренние убытки, и среди этого неблагодарного занятия развлекался созерцанием нового лица.
– Слушайте-ка, новичок, – обратился он ко мне, – как вас зовут?.. Как?.. Сын Додда, большеголового?.. Велик ли ваш капитал?.. Десять тысяч?.. Так что вам за охота возиться с вашими книгами?
Я спросил у него, как же мне быть, коли книги просматриваются каждый месяц.
– Экий вы простофиля! Наймите писца! – крикнул он мне. – Возьмите кого-нибудь из праздношатающихся; тут их сколько угодно. Если вы успешно оперируете, то вам никогда не придется и пальцем двинуть, пока вы будете здесь, в этой старой школе.
Гвалт становился теперь оглушительным. Мой новый друг сообщил мне, что кто-то «провалился», что надо сбегать, узнать новости, и что когда он вернется, то приведет мне писца-конторщика. Он застегнулся на все пуговицы и нырнул в бурную толпу. Он был прав; кто-то провалился; рушилось чье-то могущество, а в результате он вернулся ко мне с конторщиком, который извлек на свет мои книги, избавив меня от всякого труда, и понес на себе весь груз моего коммерческого образования за тысячу долларов в месяц на наши, школьные деньги (десять долларов по курсу монеты Соединенных Штатов); и это был не кто иной, как многообещающий Билльсон, тот самый, про которого учитель говорил, что я лучше ничего не придумаю, как следовать его примеру. Бедняге не везло. Единственное доброе слово, какое я могу сказать о нашей Мускегонской торговой коллегии, это то, что все мы, словно стайка молодых рыбешек, были так запуганы, что нас нельзя было и причислить к виноватым. Падение такого коммерческого принца, как Билльсон, который так чванился в дни своего величия, было как-то особенно тяжко видеть. Но дух следования внешним приличиям поборол даже горечь недавнего позора, и мой конторщик вступил в свою должность, соблюдая всю подобающую учтивость и вообще внешний декорум.
Таковы были мои первые впечатления в этом нелепом учебном заведении, и, говоря по правде, они не были особенно неприятны. Пока я оставался богачом, мои вечера и послеобеденное время были в моем полном распоряжении. Мой письмоводитель вел мои книги, он же за меня толкался и драл горло на бирже; а я себе спокойно рисовал ландшафты, либо читал романы Бальзака, – два моих любимых занятия. Теперь у меня была только одна забота – оставаться богачом, или, другими словами, заниматься только верными делами. Я и до сих пор соблюдаю это правило. Я полагаю, что в сем несовершенном мире лучше всего придерживаться такой спекуляции, которая предательски предлагается ребятам в формуле: «Орел – я выигрываю, решка – ты проигрываешь». Помня напутственные слова отца, я робко обратил свое внимание на железные дороги. С месяц или около того я выдерживал позицию безусловного равновесия, делая ставки лишь в ничтожных делах и терпеливо перенося презрительное отношение ко мне моего письмоводителя. Однажды я было попытался чуть-чуть рискнуть, действовать пошире и, будучи убежден, что акции будут падать, продал на несколько тысяч долларов бумаг какой-то компании сковородок. Едва я это совершил, как какие-то болваны в Нью-Йорке начали спекулировать на повышение, и мои «сковородные» вдруг вздулись как пузырь. В какие-нибудь полчаса мое состояние оказалось крепко скомпрометированным. Во мне заговорила кровь, как выражался мой отец. Я отважно встретил удар. Весь день я хлопотал над продажей этих чертовых акций. Должно быть, я шел прямо наперекор махинациям Джея Гульда, и вообще вся эта моя выходка наделала шума. В нашей школьной газете имя Лоудона Додда в тот день заняло заметное место. Я и Билльсон, вновь вынырнувший на поверхность, приглашались на одно и то же место клерка. Мое несчастье было более заметное, и место осталось за мной. Как видите, даже и в Мускегонском торговом училище было чему поучиться.
Что касается меня, то я мало заботился о том, теряю или выигрываю в этой сложной, азартной и глупой игре. Но все же пришлось сообщать бедному моему отцу довольно-таки печальные новости, и мне понадобились на это все ресурсы моего красноречия. Я писал ему (и это была правда), что благоуспевающие молодые люди вообще не блещут воспитанием, и что если он хочет меня чему-нибудь обучать, то пусть порадуется моей неудаче. Я просил (это уж было не очень последовательно), чтобы он снова поставил меня на ноги, и давал торжественное обещание поправить свои финансы на железнодорожных делах. В заключение же (уж совсем непоследовательно) я уверял его, что вообще не способен к делам и умолял его взять меня из этого гнусного места и отпустить меня в Париж изучать искусство. Он отвечал мне кратким и печальным письмом, в котором говорил только, что вакационное время не за горами, и что тогда мы обо всем поговорим толком.
Когда пришло это время, я встретился с ним на вокзале; тут мне сразу кинулось в глаза, что он постарел. Казалось, его единственным желанием было утешить и ободрить меня. Я не должен был падать духом; многие из лучших людей терпели неудачи вначале. Я отвечал ему, что моя голова не создана для дел, и его доброе лицо омрачилось.
– Не надо бы так говорить, Лоудон, – возразил он. – Я никогда не поверю, что мой сын трус.
– Но я этого не люблю, – жаловался я. – Эти все дела не имеют для меня ни малейшего интереса, искусство же мне нравится. Я знаю, что в искусстве я пойду гораздо дальше.
И я напомнил ему о том, что хорошие художники зарабатывают много денег, что, например, картины Месонье продаются за громадные суммы.
– Не думаешь ли ты, Лоудон, – возразил он, – что человек, который может написать картину в тысячу долларов, не найдет в себе отваги на то, чтобы бросить картины и вступить на рынок? Нет, сэр, этот самый Месонье, о котором ты говоришь, или наш собственный американский Бирштадт, если б их двинуть хоть завтра же в предприятие с пшеницей, они, наверное, выказали бы энергию. Милый ты мой, видит Бог, я стараюсь только ради твоей же пользы и предлагаю тебе такую сделку. Я вновь снабжу тебя капиталом в десять тысяч долларов; покажи, что ты человек способный, удвой эту сумму и затем, коли уж это тебе так хочется, поезжай в Париж; я отпущу тебя. Но отпустить тебя теперь, как бы побитого, – этого мне гордость не позволяет сделать.
У меня сердце сначала взыграло от такого предложения, но потом вслед затем и сжалось. Мне казалось, что легче написать картину как Месонье, чем выиграть десять тысяч долларов в эту мимическую биржевую игру. Мои размышления о том, как странно подобным путем испытывать талант человека к живописи, не способствовали выяснению положения. Однако я все же сделал попытку заговорить об этом.
Он глубоко вздохнул и сказал:
– Ты забываешь, друг мой, что я могу быть судьей только в одном случае, и отнюдь не могу быть им в другом. Может быть, ты так же гениален, как сам Бирштадт, но я от этого не стану умнее.
– Видите ли, – продолжал я, – ведь у меня всегда будет неудача. У других мальчиков есть кто-нибудь, помогающий им, посылающий им телеграммы, извещающий о ценах. У нас есть, например, некий Джим Кастелло; его отец посылает ему известия из Нью-Йорка, без которых он никогда ничего и не предпринимает. Ведь вы сами понимаете, что коли кто-нибудь выигрывает, так, разумеется, кто-нибудь другой должен же проигрывать.
– Так я буду извещать тебя! – вскричал мой отец с необычным одушевлением. – Я не знал, что это дозволено у вас в школе. Я буду тебе передавать по телеграфу условным шифром все нужные сведения, и таким манером у нас выйдет целый торговый дом под фирмой «Лоудоны – Додд и Сын», – продолжал он, похлопывая меня по плечу, – Додд и Сын, Додд и Сын, – повторял он с явным наслаждением.
Ну, коли сам отец брался быть моим руководителем и наставником, и коли коммерческое училище для меня становилось необходимым путем к Парижу, то я еще мог смело смотреть в глаза неведомому будущему. А старик мой был так доволен этой затеей с нашей ассоциацией, что весь так и воспрянул духом, так и сиял. Встретились мы с ним как немые, а теперь усаживались за стол с праздничными физиономиями.
А теперь мне надо вывести на сцену новое действующее лицо, которое не произнесло ни слова и не двинуло пальцем, и, однако, обусловило созидание всей моей последующей карьеры. Вы изъездили Соединенные Штаты вдоль и поперек, и по всей вероятности, вы видели его позлащенную главу, с желобками, поднимающуюся где-нибудь над деревьями, среди равнины, ибо это новое действующее лицо было не что иное, как Капитолий штата Мускегон, тогда только что спроектированный. Мой отец предался этому делу со смешанным чувством патриотизма и коммерческой ревности, которые были в нем искренни и неподдельны. Он участвовал во всех комитетах, подписал на это дело изрядную сумму и постарался заручиться участием во всяческих поставках и контрактах. Было представлено немало конкурсных планов, и ко времени моего возвращения из школы отец как раз был погружен в их рассмотрение. Мысль эта всецело овладела его умом, и в первый же вечер моего прибытия домой он пригласил меня на совещание. Предмет был такого свойства, что и я сам предался ему с ревностной охотой. Правда, архитектура была вещь мне незнакомая, но все же это было искусство, а я ко всякому искусству чувствовал естественное тяготение и готов был посвятить ему все свои усилия, что, по мнению какого-то знаменитого идиота, и служит якобы признаком гения. Я с головой погрузился в работы отца, ознакомился со всеми представленными планами, с их достоинствами и недостатками, просматривал и изучал специальные сочинения, сам сделался знатоком архитектурных стилей, знакомился с ценами на материалы и, словом, так вник в дело, что, когда приступили к окончательному избранию плана, то «сорванец» Додд пожинал лавры. Его доводы показались самыми основательными, его выбор был одобрен комитетом, и я имел удовольствие убедиться в том, что выбор этот был, в сущности, мой. В окончательной обработке плана, которая затем последовала, мое участие было самое широкое; я собственноручно разметил все отдельные помещения, и эти разметки имели удачу или заслугу быть принятыми. Энергия и способности, какие я при всем этом выказал, восхищали и удивляли моего отца, и я смело говорю, – хотя и должен бы быть скромен на язык, – что только благодаря моим стараниям Мускегонский Капитолий не сделался бельмом на глазу у всего моего родного штата.
Я вернулся в школу в отличнейшем настроении, и мои первые коммерческие операции прошли с отменным успехом. Отец писал и телеграфировал мне постоянно: «Старайся сам все обдумать, практикуйся, упражняйся», – казалось, хотел он внушить мне. Все, дескать, что я делаю для тебя, сводится к тому, что я подаю тебе шашки, и ты уж сам веди игру на свою ответственность, и тогда все, что ты заработаешь, все это будет плодом твоей собственной сметливости и предусмотрительности. Он вел, однако же, дело так, что ясно давал мне указания, что именно я должен делать, и я так и делал. Не прошло и месяца, как я уже собрал семнадцать или восемнадцать тысяч долларов, конечно, нашими, школьными бумагами. И вот тут-то я и пал жертвой этой нашей системы. Как я уже объяснил, бумаги наши соответствовали одному проценту истинной денежной стоимости; их можно было свободно продавать, обменивать на настоящие деньги. Неудачные спекулянты у нас то и дело продавали за них одежду, книги, гитары и иные вещи, чтобы оплатить проигрыш, а их более удачливые товарищи, со своей стороны, часто испытывали искушение реализовать и издержать на свои увеселения часть своих прибылей. Мне понадобилось купить долларов на тридцать рисовальных принадлежностей, так как я часто ходил в лес рисовать этюды, и мое желание было легко исполнить. Я уже начал было смотреть на биржевую игру (с помощью отца) как на хорошее помещение денег в рост. И вот в один злополучный час я не вытерпел и «реализовал» три тысячи долларов в школьных бумагах и купил что мне требовалось.
Это было в среду утром. Я был на седьмом небе от счастья. А мой отец (не могу позволить себе сказать, что я) как раз в эту минуту задумал «straddle» [7]7
Буквальное значение слова «straddle» – езда верхом по-мужски, ходьба раскорячившись; в чем же состоит упоминаемая автором биржевая операция – не можем сказать (прим. перев.).
[Закрыть]с пшеницей между Чикаго и Нью-Йорком. Операция эта, как вы хорошо знаете, один из самых искушающих, но зато и самых ненадежных ходов на шахматной доске финансов. В четверг удача начала поворачиваться спиной к расчетам моего родителя, а в пятницу вечером я уже попал в список банкротов – во второй раз. Это был тяжкий удар; отец особенно тяжело почувствовал его. Трудно, человеку видеть неспособность своего единственного сына, а он видел это воочию. Но в нашей неудаче было нечто, что делало из нее чистую отраву. Он поставил меня вновь на ноги, он дал мне три тысячи долларов в наших бумагах, и выходило так, что я украл эти три тысячи, но только уже в виде наличных тридцати долларов. Конечно, это было чересчур крайнее толкование, но до некоторой степени оно было верно. В общем, отец был не против всей этой спекуляции, но ее подробности смущали его. И вот я снова начал влачить существование письмоводителя, и мечты о Париже у меня угасли. Отец не хотел ободрить меня никаким добрым словом, не хотел помочь мне никаким благим советом.
Без сомнения, все это время он раздумывал о своем сынке и о том, что с ним делать. Я думаю, что он был очень потрясен моей беспринципностью и изыскивал средства и способы уберечь меня от соблазнов. Впрочем, архитектор Капитолия превосходно отзывался о моих рисунках. И в то время, как отец колебался и не знал, что со мной делать, фортуна выступила в мою защиту и Мускегонский Капитолий перевернул мою судьбу.
– Лоудон, – с улыбкой сказал мне отец, когда мы с ним снова увиделись, – скажи, если бы ты отправился в Париж, сколько понадобилось бы тебе времени, чтобы сделаться опытным скульптором?
– Что вы хотите сказать, отец? – закричал я. – Что значит «опытным»?
– Я подразумеваю человека, ознакомившегося с высшими стилями, – отвечал он, – например, с нагим телом, и также подразумеваю патриотический и эмблематический, то есть условный, стили.
– Я думаю, что на это понадобится года три, – ответил я.
– И ты думаешь, что необходимо ехать в Париж? – спросил он. – У нас, в нашей родной стране, есть отличные скульпторы. Вот, например, хотя бы Проджерс – прекрасный скульптор, хотя не знаю, стал ли бы он давать уроки.
– Париж – единственное место для этого, – уверял я его.
– Да мне и самому кажется, что так будет лучше, – согласился он и, смакуя слова, продекламировал: – Молодой человек, уроженец этого штата, сын одного из видных граждан, обучавшийся под руководством опытнейших мастеров Парижа!..
– Но, милый мой папаша, что все это значит? – прервал я его. – Мне никогда не грезилось быть скульптором.
– Видишь ли, в чем дело, – сказал он. – Я взял на себя поставку статуй для нашего нового Капитолия. Сначала я смотрел на это с чисто коммерческой стороны, а потом мне подумалось, что лучше бы устроить из этого фамильное дело. Это как раз и сходится с твоими мыслями; тут и деньги, и патриотическая заслуга. Так что если ты согласишься, то отправишься в Париж, а вернешься оттуда через три года и изукрасишь Капитолий своего штата. Это крупный шанс в твою пользу, Лоудон. Обещаю тебе, что около каждого доллара, который ты заработаешь, я положу другой. Но чем скорее ты отправишься и чем усерднее возьмешься за работу – тем лучше. Если же с полдюжины первых статуй не придутся по вкусу Мускегону, то дело будет плохо.








